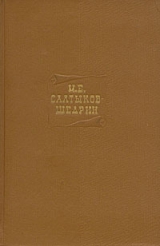
Текст книги "Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 54 страниц)
Разумеется, я с радостью согласился на его просьбу и на всякий случай выписал из России грамматику Поливанова. Перевоспитание же начал с объяснения, в чем заключается истинное благородство души, но так как при этом беспрестанно приходилось говорить об общем благе, которое он смешивал с «потрясением», то, признаюсь, мне стоило большого труда, чтобы хотя отчасти устранить это смешение. Но я успел в этом именно только отчасти, ибо хотя он и перестал говорить о потрясаниях, но далее «диктатуры сердца» все-таки не пошел. Я рад был, однако ж, что хоть эту последнюю он признал для себя обязательною и дал мне слово по ее поводу никаких сквернословии на будущее время не испускать. Тогда, внимательно осмотрев его и убедившись в бесполезности дальнейших усовершенствований, я предложил ему изложить одушевлявшие его чувства в форме циркуляра исправникам и становым.
Целых два дня он царапал этот циркуляр, но, наконец, нацарапал и показал мне. Вот этот замечательный документ * .
«Господам исправникам, становым приставам и урядникам, а через них и прочим всякого звания людям. Здравствуйте?
А между тем что же мы видим!!
При форме правления всё от него исходяще! и обратно туда возвращающе. Что же надлежит заключить?! Что сердца начальников радующе, сердца (пропущено «подчиненных») тоже, сердца Унывающе… тоже (пропущено почти всё)! А между тем что же мы видим!! Совсем на Оборот. Частые смены начальников Сие внезапностью изъясняют, а подчиненные… небрегут?
Посему предлагаю; применяясь к вышеизложенному всемерно примечать внезапности. Ежели внезапность радующе – радоваться и вам? а буде внезапность унывающе – и вам тоже. Но в случае ни того ни Другого – ни того ни другого и вам. Ежели же сие не будет исполнено, то как мне поступить!!!»
Сознаюсь откровенно * : впечатление, произведенное на меня этим циркуляром, было не в пользу его. Первым моим движением было: бежать – что̀ я немедленно и исполнил. Долгое время я скитался в горах, пока наконец очнулся и понял, что требования мои чересчур прихотливы. Нельзя, милая тетенька, сразу перевоспитать человека, как нельзя сразу вычистить платье, до которого никогда не прикасалась щетка. Настоящее благородство чувств есть удел исключительный, в известных же случаях достаточно довольствоваться итак называемым неблагородным благородством. А наконец нельзя не признать и того, что в данном случае основная мысль все-таки недурна; вот только редакция… ах, какая это редакция! Как бы то ни было, но я воротился в город примиренный и с твердым намерением довести дело перевоспитания до пределов возможного.
И я успел в этом, успел, разумеется, относительно. Каждый день я заставлял моего ученика и друга (я полюбил его) излагать свои чувства в новой редакции, и всякий раз эта редакция являлась более и более облагороженною. Так что в последний раз она предстала передо мной уже в следующем виде:
«Господам исправникам, становым приставам и урядникам. Здравствуйте!
Когда в стране существует форма правления, от которой все исходит, то исполнительные органы обязываются, не увлекаясь личными прихотливыми умствованиями, буквально выполнять начальственные предначертания. И больше ничего. Посему, ежели начальство (как это ныне по всему видится) находит возможным допустить, дабы обыватели радовались, то и вы… Сие допускайте, а не ехидничайте и тем паче не сквернословьте! Я сам, по недостаткам образования, не раз сквернословил, но ныне… Вижу!!
И посему предлагаю: настоящий мой циркуляр исполнить в точности, а в случае не найдете возможности, то доносить мне о том с раскаянием».
Как хотите, а циркуляр – хоть куда! Несколько некстати поставленных знаков препинания, несколько лишних прописных букв, несколько ненужных повторений и, наконец, несчастное «Здравствуйте!» – вот все, в чем можно укорить почтенного автора. Исправьте эти погрешности, и затем хоть сейчас в типографию (разумеется, впрочем, в казенную)! Я даже поправлять не решился, а просто посоветовал целиком свезти циркуляр в «вверенный край». Там правитель канцелярии погладит шероховатости, вставит надлежащие статьи законов, помаслит, округлит – смотришь, ан «вверенный край» и проглотил!
– Позвольте, в знак восхищения, предложить вам порцию мороженого! – попотчевал я его. *
Он поблагодарил и съел. А на другой день я отправился в Париж, а он во все лопатки помчался в «вверенный ему край».
С тех пор до меня доходили об нем разные слухи. Сначала писали, что он продолжает мыслить благородно, и вследствие этого слог его циркуляров постепенно совершенствуется; потом стали писать, что он опять начал мыслить неблагородно, и вследствие этого в циркулярах его царствует полнейшая грамматическая анархия. Разумеется, по поводу первых слухов я радовался, по поводу вторых – сокрушался. Как вдруг получаю от него письмо, которое сразу покончило с моими недоумениями.
Вот это письмо:
«Милостивый Государь!
Но ежели исторический Ход событий! – сомненности наши Превращает в несомненности… но что же тогда сказать?!
И именно следующее! При свидании (вероятно, речь идет о наших беседах на водах) имел я отрывочные, но краткие беседы… И вы говорили: когда сердца (очень большой пропуск) – ются тогда и вы то есть… я! А когда сердца В печали тогда и вы то есть я. Между тем что же мы видим! Произошли акты и при сем форма правления выяснилась вполне. А законы и иллюзии со всем Прочим должны исчезнуть и отойти во временное предание!!
Так я с твердостью уповаю.
Полагаю, что вы мой план одобрите но я другого не знаю. Кроме одного: всё исходяще и всё возвращающе. Подобно реке Волге! Исходит из озера Селигера но как случилось что докатила волны до С Израни и далее… Неизвестно!! Согласно с сим и я свои распоряжения здесь делаю, а между тем и бумагу к здешнему Господину Председателю (пропущено: «написал»; не сказано также, к какому председателю), В Копии При сем прилагаемое!
А здесь ощущается всеобщее удивление? И именно по случаю формы Правления! Надеялись никакой формы нет, а вместо того произошли акты. Но я нетолько не удивляюсь, но помню наш разговор. Правду вы тогда сказали Помпадур должен быть радующе, а не умствующе, а тем паче взирающе. И ежели у вас в Известных Местах Есть знакомые, то Прошу Оныя заверить, Говоря Он будет тверд и никаких оснований кроме известных и исходяще за Образец не возьмет. Он, То есть я».
В приложенной к письму бумаге на имя неведомого «Председателя» (вероятно, какой-нибудь крамольной управы) я прочитал следующее:
«Милостивый Государь,
Онуфрий Терентьевич!
Известное и определенное требуется и для службы соответственно людей.
Твердое направление, данное в согласность обстоятельствам, не оставляет никаких колебаний; что характер управления в духе всесословности и силе большинства должен исчезнуть навсегда и бесповоротно и должен перейти к характеру сословности, соединенной только общими целями для блага.
Посему, считаю долгом Вам, Милостивый Государь, рекомендовать и просить, в видах соблюдения должной точности высказанных непреложных оснований, принять на службу предъявителя сего, коллежского асессора Семена Дормидонтовича Стрюцкого, мысли которого по сему предмету и предлагаю вам принять к руководству при достижении общими силами блага.
С подлинным верно: Правитель канцелярии Бедный-Макар».
Внизу помпадур собственноручно прибавил:
«Примечание 1-ое. Бумагу Сию писал правитель канцелярии, но мысли мои. И слог поправлял То есть я.
Примечание 2-ое. Стрюцкий – мой крестник».
Итак, труды мои пропали даром. Очевидно, помпадур одичал, и так как ему уже перевалило за пятьдесят, то надеяться на какую-либо воспитательную случайность в будущем представлялось, по малой мере, бесполезным. В сей крайности и повинуясь правилам общежития, я ответил ему кратко:
«Милостивый Государь.
Прочитав почтеннейшее Ваше письмо и приложенный к оному документ, я с горестью убедился, что чувства, о которых мы так часто и продолжительно с Вами беседовали, покинули Вас навсегда. До такой степени покинули, что Вам кажется уже необъяснимым, почему Волга, восприяв начало из озера Селигера, постепенно катит свои волны к Сызрани (которую вы совершенно неправильно пишете: С Изрань) и далее.
Не находя уместным излагать здесь законы, коим повинуется река Волга в своем течении, могу сказать только одно: законы сии столь непреложны, что смертным остается лишь преклониться пред ними. А в том числе, без сомнения, и помпадурам. Что же касается до решимости Вашей управлять согласно с инструкциями и предписаниями, от начальства издаваемыми, то, одобряя таковую в принципе, я не вижу, однако ж, чтобы оная давала Вам повод для похвальбы. Исполнение начальственных предписаний – совсем не заслуга, а естественная со стороны всякого помпадура обязанность, за невыполнение которой угрожает строгость законов.
Все сие, впрочем, я неоднократно имел честь Вам объяснять во время совместного пользования водами, хотя, по-видимому, втуне.
В заключение, предполагая, по множеству грамматических ошибок, которыми усыпано Ваше письмо, что грамматика Поливанова, которую я своевременно, в видах усовершенствования, Вам подарил, утрачена Вами, препровождаю при сем новый ее экземпляр, который и предлагаю употребить по установлению».
Письмо это я послал с таким расчетом, чтоб он мог его получить к Светлому празднику. Но будет ли из этого какой-нибудь прок – сомневаюсь.
Письмо четырнадцатое *
Милая тетенька.
В последнее время, я, в качестве литературного деятеля, сделался предметом достаточного количества несочувственных для меня оценок. * Между ними есть несколько таких, которые прямо причисляют меня в категорию «вредных» писателей, на том основании, будто бы я, главным образом, имею в виду не обличение безнравственных поступков, а отрицание самого принципа нравственности.
На это я могу ответить одно: неизменным предметом моей литературной деятельности всегда был протест против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия и т. д. Ройтесь, сколько хотите, во всей массе мною написанного – ручаюсь, ничего дурного не найдете. Стало быть, весь вопрос заключается в том: следует ли признать исчисленные выше явления нормальными, имеющими что-нибудь общее с «принципом нравственности», или, напротив, правильнее отнестись к ним, как к безнравственным и возмущающим честное человеческое сердце? Конечно, есть воры, которые до того привыкли воровать, что воровство уже не представляется им позорным, и есть ханжи, которые до того привыкли колотить руками в пустые перси, что пустосвятство кажется им действительною набожностью; но разве примеры подобных самообманов могут считаться обязательными? Я думаю, что ответ на эти вопросы не может подлежать сомнению и что, стало быть, лагерь, который безрассудно возбуждает по этому поводу разглагольствие, сам на себя налагает клеймо распутства, с которым и перейдет в потомство.
Но есть другой укор, который посылается по моему адресу и в котором, я должен сознаться, имеется значительная доля правды. Укор этот заключается в том, что я повторяюсь. К сожалению, ценители мои не вникают в причины моих повторений и не представляют доказательств их неуместности, а это делает их оценки как бы направленными с единственною целью лично меня уязвить и лишает меня возможности извлечь из них какое-либо для себя поучение.
Тем не менее так как я сам признаю замечание это небезосновательным, то нахожу полезным дать по этому поводу некоторые объяснения.
Начинаю с констатирования, что моя деятельность почти исключительно посвящена злобам дня. Очень возможно, что с точки зрения высшего искусства эта деятельность весьма ограниченная, но так как я никаких других претензий не заявляю, то мне кажется, что и критика вправе прилагать ко мне свои оценки только с этой точки зрения, а не с иной. Но злоба дня, вот уж почти тридцать лет, повторяется в одной и той же силе, с одним и тем же содержанием, в удручающем однообразии. Как тридцать лет тому назад мы чувствовали, что над нашим существованием витает нечто случайное, мешающее правильному развитию жизни, так и теперь чувствуем, что в той же силе и то же случайное продолжает витать над нами. Никакое правдивое перо не возьмет на себя вычеркнуть из наличности то, что̀ хотя и не в равной степени, но всеми чувствуется, как основная и жгучая боль минуты. Никакой правдивый бытописатель не позволит себе сказать, что случайность изгибла, когда она стоит крепче и действует язвительнее, чем когда-либо. Выше я перечислил некоторые признаки ненормального состояния общественного организма, и, по мнению моему, единственно благодаря господству случайности, эти признаки не только не исчезают и не смягчаются, но делаются характеристичными чертами времени. Они находят себе апологистов, которые ежели и не утверждают прямо, что, например, хищничество есть добродетель, но всякий протест против хищничества приравнивают к потрясению основ. И, благодаря случайности, эти общественные проституты не встречают даже отпора. Примеры гнусных сопоставлений честного протеста чуть не с вооруженным бунтом повторяются на каждом шагу и проходят вполне безнаказанно, благодаря совпадению с случайными веяниями минуты; но самая эта безнаказанность разве не знаменует собой глубокого нравственного упадка? Видеть целый сильно организованный литературный лагерь, утверждающий, что всякое проявление порядочностив мышлении равносильно разбою и мошенничеству, что идеалы свободы и обеспеченности суть идеалы анархии и дезорганизации власти, что человечность равняется приглашению к убийствам – право, это такое гнусное зрелище, перед которым не устоит даже одеревенелое равнодушие. А между тем это зрелище проходит перед нами каждый день, и, к удивлению, оно единственное, которое пользуется присвоенною зрелищам сценической постановкой. Каждый день из лагеря хищников, предателей, пустосвятов и проститутов раздаются распутные клики, готовые задушить в обществе всякие признаки порядочности. Каждый день из растворенных хлевов вопиют голоса трихинных пристанодержателей, угрожающие, проклинающие, требующие пропятия… Спрашивается: ужели не следует как можно громче объяснять обществу, что эти мерзкие вопли – не что иное, как лганье и проституция? Нет, именно следует каждодневно, каждочасно, каждоминутно повторять: ложь! клевета! проституция! Повторять хотя бы с тем же однообразием форм и приемов, которые употребляются самими клеветниками и проститутами. Повторять, повторять, повторять.
Вот это именно я и делаю. Двадцать пять лет сряду одну и ту же ноту тяну, и ежели замолкну, то замолкну именно с этой нотой, а не с иной. И никогда не затрудняюсь тем, что нота эта звучит однообразно.
Но есть и еще причина, обусловливающая повторения: их требует сам сочувствующий мне читатель. Я ничего не создаю, ничего лично мне одному принадлежащего не формулирую, а даю только то, чем болит в данную минуту всякое честное сердце. Я даже утверждаю, что всякий честный человек, читая мои писания, непременно отожествляет мои чувства и мысли с своими. Это онтак чувствует и мыслит, а мне только удалось сойтись с ним сердцами. И он доволен, когда ему напоминают об этих собственныхего чувствах и мыслях, когда их воплощают перед ним в горячем слове или в живом образе – доволен, потому что это самое дорогое его достояние. Эти речи, эти образы, быть может, не задерживаются в его памяти в ярких и резко очерченных формах, но они несомненно оставляют в его сознании общее впечатление сочувственного, родственного. Ибо в этом случае происходит то интимное общение мыслей и чувств, в котором трудно определить, кто кому дает и кто у кого берет. «Это самое я всегда мыслил», говорит читатель и пускает вычитанное в общий обиход, как свое собственное. И он не совершает при этом ни малейшего плагиата, потому что, действительно, эти мысли – его собственные, точно так же, как и я не совершаю плагиата, формулируя мысли и чувства, волнующие в данный момент меня наравне с читающей массой. Ибо эти мысли и чувства – тоже мои собственные.
Повторяю: человек ни к чему так охотно не возвращается, как к предметам, которые наиболее затрогивают его существование. Он и людей тех особенно любит, о которых знает, что они болеют теми же болезнями, которыми болеет он сам. Вот почему напоминания об этих болях, как бы часто и однообразно они ни повторялись, не представляются ему назойливыми. Ибо только разделенное страдание может помочь отыскать выход из тьмы к свету, и раз желаемое общение в этом смысле установилось, напоминания об его основах не * только не ослабляют общения, но, напротив, скрепляют и подтверждают его. *
Примеры такого почти неразложимого взаимного «попустительства» (употребляю модный ныне консервативный термин) между автором и читателем я встречаю на каждом шагу. Часто случается мне получать письма от неизвестных лиц с изложением бесспорно интересных фактов всякого рода неурядицы; однако ж я не могу воспользоваться сообщаемыми фактами по той простой причине, что в виде общих положений, иллюстрированных и подтвержденных, они уж не раз были мной заявляемы. Бо̀льшая же или мѐньшая численность фактов одного и того же по̀шиба ничего не прибавляет к характеристике времени: ибо если характеристика эта достаточно определилась, то само собой разумеется, что иных фактов в данное время не может и быть. Тем не менее я понимаю, почему читатель сообщает мне об этих фактах. Он просто желает высказать, что я прав, и подтверждает мою правоту своими собственными наблюдениями.
Не далее как на днях мне пришлось быть в обществе, где рассказывались факты, как раз соответствующие тому «принципу нравственности», в отрицании которого я обвиняюсь московскими фарисеями. И между прочим передавалась следующая история.
Жил-был сельский священник и имел сына. Сын этот с успехом кончил курс в семинарии, но священствовать почему-то не пожелал. Вероятно, впрочем, причина была простая: не чувствовал молодой человек склонности (а стало быть, и способностей) к выполнению обязанностей, сопряженных с священством. Напротив того, выказывал величайшую охоту к сельскому хозяйству, домоводству и земледельческому труду. Приехал, по окончании курса наук, домой, оделся в сермяжную мужицкую броню, обулся в лапти и начал косить, пахать и боронить.
Кажется, что̀ же тут такого… необыкновенного? – Разумеется, милая тетенька, на мой и ваш взгляд – ничего. Мы люди простые и думаем так: ежели человеку охота пахать – паши, охота сеять репу – сей репу и даже морковь! Но ведь не все так явно отрицают «принципы нравственности», как мы с вами. Есть люди, кои блюдут. А наблюдение в том именно и состоит, чтобы всякое звание пребывало верным свойственному ему занятию, занятиями же несвойственными, а тем паче нарушающими гармонию табели о рангах, гнушалось. Так, например, губернский секретарь обязывается гнушаться занятий, свойственных коллежским регистраторам, коллежский секретарь – занятий, свойственных губернским секретарям, и т. д. В старину, о негнушающихся губернских секретарях говорили, что они «марают» не только себя лично, но и всех прочих губернских секретарей. А нынче и это толкование, с точки зрения «принципа нравственности», кажется уже недостаточным, и потому говорят: ежели такой-то губернский секретарь унизился до общения с коллежскими регистраторами, то это значит, что он вознамерился сеять между сими последними превратные толкования.
Так именно случилось и с легкомысленным поповским сыном. Не успел он обуть лапти, как местный кабатчик (первая инстанция, сиречь оплот) уж задумался. Стоит у стойки, чешет об косяк брюхо и думает: что̀ за причина такая? И, разумеется, сообщает о своих консервативных сомнениях уряднику. Урядник задумался еще пуще кабатчика. Начал похаживать мимо батюшкинова дома, будто гуляет, а между тем высматривает, не объявится ли ниспровержения властей. Или схоронится за деревом, приложит к глазам руку зонтиком и выглядывает в поле. Видит: идет за сохой в лаптях мужик; вот он остановился, вот опять налег грудью… что̀ за причина такая? Мог бы ходить по приходу славить, яйца собирать, ан вместо того… Наконец, урядник не вытерпел и обратился к батюшке:
– Что за причина такая?
А батюшка, который и сам чаял, что возлюбленный сын с ним вкупе и влюбе будет аллилуйя славословить – а он, вишь, ведь что выдумал! – вместо того, чтоб объяснить уряднику его и кабатчиково полоумие, ответил уклончиво:
– Сами видите!
Тогда урядник окончательно не вытерпел и донес становому.
Становой сейчас же сообразил, что дело может выйти блестящее, но надо вести его умненько. Поехал в село будто по другому делу, а сам между тем начал собирать «под рукою» сведения и о поповском сыне. Оказалось: обулся поповский сын в лапти, боронит, пашет, косит сено… что̀ за причина такая? Когда таким образом дело «округлилось», становой обратился к батюшке:
– Что за причина такая?
– И сам не мало о сем стужаюсь, – объясняет батюшка, – и не раз вразумлял. Побеседуйте с ним – может быть, ваши вразумления больше подействуют.
Призвал становой поповского сына, спрашивает:
– Землю работаешь?
– Землю.
– Пашешь?
– Пашу.
– Что за причина такая?
Натурально, поповский сын глаза вытаращил. Наконец очнулся и сам предлагает вопрос:
– А разве запрещено?
– Запрещено не запрещено, а несвойственно…
– Так запретите же прямо, коли несвойственно. Я буду сидеть и баклуши бить.
Однако ж запретить становой не решился, а донес исправнику, так и так, в стане проявился поповский сын, кончил курс, мог бы быть диаконом, а вместо того ведет несвойственный образ жизни. Исправник тоже сейчас понял. Велел заложить тройку, подвязать к дуге колокольцы и поскакал в гнездо крамолы. Подкатив к батюшкину дому, молодцом соскочил с телеги:
– Что за причина такая?
– Не мало пытал я о сем с ним беседовать, – оправдывался батюшка, – но слова мои не приемлются. Не вразумите ли вы?
А матушка, с своей стороны, присовокупила:
– А уж для нас-то как бы хорошо было! Взять теперь хоть бы место дьякона: и яйца, и новина̀, и кудель, и всё такое… А из доходов часть – это само по себе.
Позвали поповского сына, не дали даже последний загон доборонить. И начал его, при отце и матери, исправник стыдить.
– Ах, молодой человек! молодой человек!
Но молодой человек не хочет чувствовать, да и шабаш. Только и слов у него на языке:
– Разве запрещено?
– Ах, молодой человек! да разве закон может всё предусмотреть? И как это вы так резко позволяете себе говорить: запрещено?! Не запрещено-с, а несвойственно-с. Предосудительно-с.
Однако ж как ни стыдил исправник поповского сына, последний точно осатанел. Твердит одно и то же:
– Ваше высокородие! сделайте божескую милость! позвольте пахать!
Тогда исправник, вместо того, чтоб с кротостью разрешить: паши, братец (только всего два слова и нужно)! – разодрал на себе в гневе вицмундир и воскликнул:
– Прекрасно-с! пашите-с! бороните-с! сейте-с! ха-ха-ха… сейте-с! Только знайте вперед-с: я умываю руки-с!
И, обратившись к батюшке, добавил:
– Жаль, почтеннейший старик! и вас жаль… и его-с… заблудшего-с! И вас, почтеннейшая матушка, жаль… всех-с! очень-очень жаль-с!
Исправник ускакал, а поповский сын сел на лошадь и поехал доборонивать брошенный загон. Батюшка вздохнул ему вслед и начал было: «говорил я тебе…», но поправился и спросил:
– А когда же двоѝть * собираетесь?
Прошло еще недели четыре. Поповский сын за это время успел не только сдвоѝть пашню, но и посеять озимое. Он уж заранее облизывался при мысли, что еще три-четыре недели – и наступит молотьба, как вдруг, в самый разгар его страдных мечтаний, у батюшкинова дома остановился тарантас, из которого на этот раз вылез уже целый статский советник. Статский советник оказался просвещенно-благожелательный, хотя и без послабления, и во лбу у него блестело «око», в знак питаемого к нему доверия. * Тем не менее он начал, как и все прочие:
– Что за причина такая?
У поповского сына даже в глазах позеленело при этом вопросе; однако он сдержался и с твердостью произнес:
– Имею желание молотить!
Статский советник, по-видимому, никак не ожидал, что дело примет такой оборот. Однако око во лбу его все-таки не замутилось гневом, но пристально взглянуло в глаза собеседнику и, к счастию для последнего, обнаружило недоумение, близкое к пониманию.
– Только и всего?
– Только и всего-с.
Дело было округлено; оставалось только выполнить некоторые формальности. Призвали понятых и осмотрели скарб поповского сына – оказалось, что он укрывает три чистых рубахи, новые пестрядинные портки, две пары онуч и зеркальце, перед которым, «по его показанию», он расчесывает по праздникам свои кудри. Распороли матушкины перины – нашли пух. Даже под косицей у батюшки посмотрели, но и там превратных толкований не нашли. Тогда батюшка осмелился и спросил:
– За что же, вашескородие, теперича на нас такое, примерно, поношение? А притом и расход?
Первую половину вопроса статский советник признал правильною и, дабы удовлетворить потерпевшую сторону, обратился к уряднику, сказав: это все ты, каналья, сплетни разводишь! Но относительно проторей и убытков вымолвил кратко: будьте и тем счастливы, что бог простил! Затем, запечатлев урядника, проследовал в ближайшее село, для исследования по доносу тамошнего батюшки, будто местный сельский учитель превратно толкует события, говоря: сейте горохи, сажайте капусту, а о прочем не думайте!
А через год по делу поповского сына вышла резолюция: поповскому сыну такому-то занятие молотьбой и ссыпанием зерна в житницы в преступление не вменять, имея лишь наблюдение, дабы молотил чисто.
Но поповский сын не дождался объявления этой резолюции: существование его было уже отравлено. Преемственное посещение блюдущих возымело влияние не столько на него, сколько на окружающую среду. Кабатчик первый произнес слово: сицилист а за ним то же слово стали повторять и мужички. Сначала произносили его нерешительно, но потом, с каждым днем, всё ходчее и ходчее. А наконец, и девки перестали припускать поповского сына в хоровод. Не для кого стало и кудри по праздникам расчесывать.
С своей стороны и батюшка с матушкой не по разуму усердствовали. С утра до вечера поповский сын молотил, веял и собирал в житницы, а когда возвращался домой, ему долбили в уши: опомнись! восчувствуй! А под конец даже высватали ему невесту, у которой одна ноздря залегла от природы и один глаз вытек от болезни.
Тогда поповский сын сказал себе: довольно! – и в одно прекрасное утро исчез.
Таков факт. Замечательно, что лицо, передававшее его (и прибавлю: хорошо знакомое с моею литературного деятельностью), обратилось ко мне с словами:
– Вот бы вам поделиться этим фактом с читателями!
Признаюсь, я ждал совсем другого. Я думал, что мне скажут: вот факт, который вполне подтверждает написанное вами тогда-то и тогда-то! *
Ничуть не бывало; написанное мною не запечатлелось в памяти самостоятельно, а пробудило лишь потребность всматриваться в проходящие явления и вдумываться в их смысл. Что ж! и за то спасибо!
Поэтому и я передаю вам рассказ о приключениях поповского сына в том самом виде, как его слышал, отнюдь не стесняясь тем, что, быть может, вы упрекнете меня в повторениях. Собственно говоря, не я повторяю, а все вообще повторяются. И ликующие и унывающие – все на один пункт устремили глаза, все одну мысль мыслят. Только одни говорят об искоренении, а другие о развитии. В этом последнем смысле, приведенный сейчас рассказ и в повторении, право, не бесполезен. По моему мнению, он пробуждает благородство чувств, а в этом-то именно и заключается живейшая потребность нашего времени.








