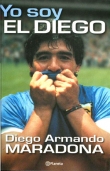Текст книги "Невольные каменщики. Белая рабыня"
Автор книги: Михаил Деревьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
Режиссер кивнул.
– Аст, разумеется, внимательно слушает.
Деревьев перевернул первую страницу.
– «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит…» – и вот тут, именно тут, Модест Матвеевич, начинается драматургия, проклевывается пьеса. «Род проходит и род приходит», – говорит Экклез. «Но пребывает вовеки», – откликается Аст. И дальше по нарастающей: «Все вещи в труде; не может человек предсказать всего», – говорит Экклез. «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием», – вторит Аст. Этот экстаз взаимопонимания длится до самого окончания первой главы. «Потому что во многой мудрости много печали», – резюмирует Экклез. «И кто умножает познания, умножает скорбь», – усугубляет вывод Аст.
– Поразительно, – воскликнул Модест Матвеевич. Он попробовал подняться, но, раздумав, рухнул обратно, нервно затягиваясь.
– Вся вторая глава, – Деревьев перелистнул несколько страниц, – в большей или меньшей степени дублирует расстановку драматургических сил в первой. Дуэт мудрецов, взаимопонимание в истине. Настоящий драматизм разворачивается в главе третьей. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, – заявляет Экклез, – я, например, считаю, – продолжает он, – что сейчас время рождаться, плодиться, расти, тучнеть, наливаться соком. Я так считаю, Аст». «О-о, нет, дорогой мой Экклез, не могу я с тобой согласиться, – вдруг отвечает младший из мудрецов, – сейчас время умирать, ложиться в гробы и могилы, гнить, тлеть, распадаться». – «Мнится мне, о Аст мой, что пришло время насаждать, укоренять, внедрять и встраивать, закреплять и вчинять». – «Никак, никак я не могу опять-таки с тобою согласиться, брат мой Экклез, несмотря на все почтение мое к тебе. Другое время на дворе, время вырывать врытое, выкорчевывать посаженное, выкапывать вкопанное, выколупывать вросшее, выбивать вбитое». – «Мой драгоценный юный друг, мой Аст, не кажется ли тебе, что настало время убивать, закалывать, забивать, затаптывать, побивать камнями, не такое ли настало время?»
Модест Матвеевич обеими руками схватился за голову, собрав кожистые складки на лысом черепе, и начал покачиваться из стороны в сторону. Текст явно производил на него впечатление, это обнадежило и подбодрило молодого драматурга.
«Нет, нет и нет, милостивейший и благороднейший мой Экклез. Те времена ушли, сейчас другое времечко, сейчас надобно врачевать, обихаживать, лелеять, холить, нежить и оберегать. Вот какое сейчас время».
«Ой, не знаю, не знаю. Видится, и ясно видится мне, что время-то сейчас разрушать, крушить, жечь, громить, испепелять, изничтожать. А что ты скажешь, друг мой Аст?
– Никак, никак не могу принять такого мнения, ибо вижу, и так ясно, другое я – время сейчас строить, возводить, великолепно нагромождать, ваять. Это время сейчас пришло, это!»
Режиссер выронил изо рта трубку и начал медленно расцарапывать себе череп.
«О Аст мой, о мой Аст, скажи мне, не время ли сейчас плакать, не время ли сейчас рыдать, исходить слезами, не время ли посыпать голову пеплом? Не время ли возопить, не время ли исторгнуть вопль?»
Модест Матвеевич медленно встал и, бормоча: «время, время, время», – убрел из кабинета, отодвинув тяжелую портьеру, закрывавшую дверь во вторую комнату. Через несколько секунд оттуда донеслись глухие, в подушку, рыдания.
Деревьев, разумеется, прекратил чтение и неуютно огляделся. Все же было что-то неуловимо ненормальное в окружающей обстановке. Веранда, например, стремительно наполнялась паром, это хорошо было видно сквозь стеклянную дверь. Чайник, подумал Деревьев и встал, оглядываясь. Он был в полной растерянности и даже не знал, что ему, собственно, хотелось бы рассмотреть. Так могло продолжаться, наверное, долго, но тут на веранде появился третий.
Деревьев сел обратно в соломенное кресло. Гость, выключив газовую плиту на веранде, осторожно вошел в дом. Невысокий, полный очкарик лет шестидесяти пяти. Легко было догадаться, что это брат Модеста Матвеевича. Деревьев поздоровался.
– Здравствуйте, – ответил тот внушительно и спокойно, хотя было заметно, что происходящее ему не нравится. Во-первых, эта парилка на веранде, во-вторых, рыдания в соседней комнате, в-третьих…
– С кем имею честь?
Деревьев торопливо укладывал свои рукописи в портфель. Кое-как представился. Брат Модеста Матвеевича кивнул и проследовал в направлении рыданий. Писатель с удовольствием бы ретировался, но отчего-то не мог, не чувствовал себя отпущенным. За портьерой к рыданиям примешались глухие уговоры. Рыдания усилились.
За окнами вдруг резко потемнело, чуть непрогляднее стала атмосфера и в лавке древностей.
Брат режиссера снова появился в комнате, он все еще был в пальто. Сел в клетчатое кресло, очки его сосредоточились на драматурге.
– Я брат Модеста Матвеевича. Мы вместе живем, – заговорил старик. Он был почти так же лыс, как его родственник, но, в отличие от него, очень носился с остатками волос и время от времени проверял состояние увядшей посреди лба пряди.
– То, что вы прочли, произвело на Модеста Матвеевича чрезвычайно сильное впечатление. Думаю, вам не нужно настаивать сегодня на продолжении.
– Конечно, конечно, – Деревьев схватился за дипломат.
Старик встал.
– Модест Матвеевич как-нибудь вам позвонит.
Кивая, пытаясь улыбнуться, отчего по лицу прошла серия нелицеприятных гримас, писатель выбежал на веранду, покрутился в облаке пара, нащупал входную дверь и наконец оказался под тихим мощным снегопадом.
Нечитайло с Борьком все-таки явились ночевать. Скрытно протащить их в комнату не удалось. Увлекаемый по темному коридору, президент успел раз десять громогласно заявить, что переплет у Миньки будет только твердый.
– Как камень, Борек, как камень.
Перед выскочившим на звуки пьяного человеческого голоса Сан Санычем Деревьеву пришлось бить себя в грудь, уверяя, что это «в последний, последний, совсем последний раз». Войдя в комнату, он обнаружил, что Нечитайло опорожняет желудок на одну из контурных карт, заготовленных для мультипликационного проекта. Территория России была уже превращена в свалку радиоактивных отходов. Коммерческий директор стоял рядом на четвереньках и подозрительно икал.
Рано утром, затравленно покидая квартиру, Нечитайло попытался облобызать хозяина, но тот позволил лишь обдать себя перегаром и отстранился.
– Старик, через две-три недели аванец, понял? Ты меня знаешь. Ну, давай!
И они пошли похмеляться.
Наташа вбежала с мороза раскрасневшаяся, весело агрессивная, размотала длинный, по моде семидесятых годов, шарф, бросила на стол папку с «материалами», по инерции приложила руки к кафельному панцирю печки и тут же фыркнула:
– Муляж.
Деревьев развязал тесемки и открыл папку.
– Чем у тебя тут воняет?
– «Империал» ночевал.
– Этот издатель с губами? А бабки привез?
– Обещал недели через две-три! – задумчиво ответил Деревьев, перелистывая страницы.
– Ха-ха-ха! – аффектированно сказала Наташа и похлопала себя по полным коленям, повела плечами, взбила обесцвеченную перекисью водорода шевелюру. – Слушай, я давно хотела тебя спросить…
– Спроси.
Наташа немного поерзала по трупу тахты, как бы вытаптывая для себя жизненное пространство. В ее голосе, когда она заговорила, чувствовалась новая решимость, она собиралась дать какой-то бой. Деревьев в это время морщился, трудно было сказать, к чему это относится, к самой ли белокурой бестии или к тому, что она принесла.
– Я наконец хочу понять, почему ты разрешаешь мне приезжать сюда только днем. Что это – каприз, комплекс или я не знаю что?
Деревьев направил в ее сторону порцию с трудом высвобожденного внимания.
– Сначала я действительно думала, что по ночам ты работаешь, и довольно долго так думала…
Деревьев сорвал со стола нервно всшелестевший лист бумаги и сунул его под нос идущей в наступление блонде.
– Что это?! Я спрашиваю, что это, а?!
Художница брезгливо скользнула взглядом по размалеванной цветными фломастерами карте и попыталась гнуть свое.
– Но недавно мне пришла в голову мысль.
– Скажи ты мне, ради Христа, радость моя Наташа, когда это Наполеон доходил до Урала?!
– Причем здесь Урал, причем здесь Наполеон?! Ты мне лучше скажи, кто здесь ночует вместо меня?
– А это?! Это уже вообще… В 1939 году не Польша напала на Германию, а наоборот.
Деревьев яростно потрясал грохочущей бумагой.
– Я не знаю, на кого напала Польша, а на меня напала злость. Ответь мне немедленно, какая тварь…
Молодой писатель отшвырнул контурные карпы в угол и резко прошелся по комнате, вернулся к столу и несколько раз изо всех сил хлопнул ладонью по толстой стопке бумаги.
– Это все брак!
– Ты собрался жениться, дорогой? – кокетливо улыбнулась Наташа.
Деревьев на мгновение онемел от этого водевильного поворота.
– Что-о?! Что ты сказала? Да ты бы лучше… Художница! С этим никуда нельзя соваться. Два месяца псу под хвост.
– Не два месяца, а семь лет. Семь, семь лет, – Наташа вскочила. – Япония ему, видите ли, не понравилась.
– Какая Япония, что ты мелешь!
– Извращенец! То карты какие-то идиотские ему рисуй, то трахаться он может только с двух до пяти, – Наташа начала наматывать свой шарф на голую шею.
Деревьев сорвал с вешалки еще холодное пальто художницы и швырнул в нее.
– Вон!
Наташа, вдруг потеряв решимость, опустилась на связку книг в углу и начала краем шарфа размазывать слезы. Писатель отвернулся и сказал, глядя в наполненное снегопадом окно:
– Сейчас ты скажешь, что любишь меня, что хотела бы со мной жить (дословное воспроизведение фразы, сказанной Наташей при сходных обстоятельствах).
– Да, скажу, – с робким вызовом прошептала та.
– Но дело в том, – Деревьев наклонил голову, присматриваясь к поведению снегопада, – что мне не надо, чтобы ты меня любила, мне важнее, чтобы ты малевала как следует границы на контурных картах.
– Я старалась, – всхлипнула Наташа.
– Достаточно было пару раз заглянуть в те книжки, что я тебе подобрал…
– Я не виновата, я все время думала о тебе, у меня все эти цифры прыгали перед глазами.
– Но даже если забыть о хронологических ошибках, то как объяснить безобразное исполнение, все эти кляксы, подчистки.
– Я два месяца не разгибала спины.
– Ниже своего профессионального уровня человек может опуститься в работе только в том случае, если ему абсолютно наплевать на то, что он делает.
Наташа развезла по щеке очередную слезу. Она ошибочно решила, что объяснение вошло в мирное русло и что сейчас самое подходящее время для окончательного объяснения. Она тихо прошептала:
– Я не профессионал.
Деревьев удивленно обернулся, и под его вопросительным взором она принуждена была продолжить.
– Я не только не мультипликатор, я даже не художник вообще. И, конечно, ни на каком «Союзмультфильме» не работала никогда.
Писатель медленно сел на тахту и проникновенно, хотя и совсем негромко, повторил свое недавнее предложение бывшей художнице:
– Вон.
Некоторое время после Наташиного ухода Деревьев кружил по комнате, борясь с порывами ярости. Потом поскрипел зубами, крутясь в своем великолепном кресле; истерически похихикал в подушку. Уловив притворно-приторный запах блондинистых духов, нервно швырнул подушку вслед любовнице и длинно выругался. Не помогло. Неплохо бы выпить, право слово, в такой ситуации. Но денег нет, как известно, даже на еду. Сбегал к телефону. Дубровского дома не было. Стоило положить трубку, раздался деликатный, почти вкрадчивый звонок. Неужели судьбе свойственно чувство справедливости – нанеся рану, сует примочку? Но это был не Дубровский.
– Это вы? – мрачно спросил неприятный голос.
– Да, это я, – усмехнулся писатель.
– Вы, – голос задыхался, – я не мог не позвонить. Вы чудовище, вы… – тут Деревьев понял, что это звонит деликатнейший, трогательнейший Модест Матвеевич, – вы монстр. Вы коснулись, – дыхание у него опять перехватило, – вы коснулись… Вы прикоснулись к такому, что не будет вам покоя. Никогда, слышите, никогда. Это говорю вам я…
Гудки.
Удивленно помедлив, Деревьев положил трубку. Выражение лица у него было опрокинутое. Растопыренными пальцами он загнал на место рухнувшие на лоб волосы. И тут черный провокатор зазвонил снова. Даже вкрадчивее, чем в первый раз.
– Извините, это не молодой драматург?..
– Н-нет, – почему-то начал врать драматург, – а в чем дело?
– Это брат Модеста Матвеевича. Я не уследил, простите. Модест Матвеевич снова должен будет лечь в клинику. У него обострение. Не без вашей, надо сказать, помощи. Но дело не в этом. Что бы он сейчас или впоследствии вам ни наговорил, не обращайте внимания.
– Он не режиссер?
На том конце провода помедлили.
– Он сумасшедший.
Деревьев лежал в темноте на тахте, когда раздался звонок во входную дверь. Росток любопытства проклюнулся сквозь толщу отвращения к жизни. Послышались гулкие незнакомые голоса. Что-то заискивающе тараторил Сан Саныч, как всегда, успевший к двери первым. Далее последовали тяжелые, чрезмерные, приближающиеся шаги. Воображение Деревьева тут же возвело их в командорское, как минимум, достоинство. Паркет трещал, как стая саранчи. Вокруг основного ходока суетилась пара услужливых башмаков. Любопытство лежащего писателя расцвело пышным цветом к тому моменту, когда огромное, с трудом сдерживаемое дыхание остановилось выжидательно за дверью комнаты. Потом дверь сама собой отворилась, и Деревьев понял, что шаги его не обманули: в дверях стоял гигант. Можно было понять, что у гостя длинные, до плеч, волосы и трость, на которую перетекла значительная часть веса, отчего фигура казалась слегка покосившейся, заглядывающей. Лежащему стало не по себе от этого невидимого взгляда.
Образовалась пауза ввиду невыясненности визуальных отношений. Трудно заговорить с человеком, лица которого не видишь. Нарушено молчание было голосом Вовки Жевакина, прозвучавшего из-под руки темного гостя.
– Мишка, ты здесь?
Деревьев откликнулся, встал, зажег свет и постарался выглядеть хозяином. Гигант спокойно и внушительно вошел в жилище разочарованного в жизни литератора и, не спрашивая разрешения, уселся на самое лучшее сиденье у стола. В его повадках и приемах чувствовался солидный человек, очень солидный. Если постараться, можно было заметить легчайший отблеск партаппаратного лоска и различить брыла нуворишного барства. Но было что-то и сверх того. Деревьев был сразу и глубоко загипнотизирован. Он так и остался стоять, глядя, как тают последние снежинки на лоснящейся, черной, расчесанной точно посередине шевелюре этого господина.
На Жевакина, который ввалился следом, таща громоздкий и тяжелый на вид чемодан, он даже не обратил внимания.
– Меня зовут Иона Александрович, – голос у гостя оказался отнюдь не громоподобным, как можно было ожидать, но властным, с особой руководящей дикцией.
– Деревьев, – представился хозяин, заставил себя сесть и тут же пожалел об этом. Тахта была много ниже стула, и он оказывался как бы в ущербном по отношению к Ионе Александровичу положении. А ему этого не хотелось.
– Мы должны перед вами извиниться. Мы решили с Владимиром…
– Петровичем, – поспешил с подсказкой Жевакин.
– …что называется, гульнуть. Владимир…
– Петрович. – Шефу было лень запоминать отчество своего помощника, и тому приходилось все время держать его наготове.
– …сказал, что тут поблизости живет его старинный друг, – Иона Александрович распахнул свою шубу, раздвинул шарф. Сверкнула белая рубашка, на углах воротника блеснули булавочные капли. Алмазные, убежденно подумал писатель. Иона Александрович поправил узел галстука и спросил: – Как вы смотрите на это дело?
Деревьев неуверенно улыбнулся и оглянулся на Жевакина.
– Сбегаем? – тут же предложил тот, шмыгая носом.
– То есть… – неуверенно начал Деревьев.
– Вот именно, – сказал гигант мягко, но властно. Он очень умело совмещал в себе дружелюбие и превосходство. Во всяком случае, побуждаемый его улыбкой Деревьев подошел к вешалке и снял с нее свое пальто. – С вашего разрешения, я подожду вас здесь. Подъем на пятый этаж едва не стоил мне инсульта.
Когда «гонцы» вышли на улицу, Деревьев спросил у Жевакина:
– Кто это?
– Большой человек, – ответил с трудноуловимой интонацией старый товарищ.
– Это я и сам вижу, а все-таки?
Жевакин покрутил в воздухе полиэтиленовым пакетом, стараясь что-то обрисовать.
– Предприниматель, бизнесмен, денежный мешок, воротила, делец.
– Понятно, – сказал Деревьев, ероша холодную шевелюру. – Что будем пить?
– Пойдем посмотрим.
По улице Писемского спустились к проспекту. Жевакин подходил к каждому киоску и подробно изучал каждую витрину, придерживая очки и недовольно щурясь сквозь стекла. Потом начинал что-то выспрашивать у продавцов. Деревьев покорно следовал за ним. Деньга чужие, стало быть, не следует проявлять особенную живость в составлении карты вин. Впрочем, он был уверен, что все кончится обыкновенной водярой. Просто Жевакин как преданный клеврет, нукер, ординарец, вассал старается сэкономить бабки своего господина. Когда они миновали пятнадцать, наверное, киосков, Деревьев, начиная замерзать, осторожно высказался по поводу того, что нужно наконец «определиться». В ответ Жевакин начал гримасничать, объявил зачем-то, что «от этого снега у него чешутся ноздри», и вдруг купил, совершенно не прицениваясь, две бутылки «Мартини», штоф «Амаретто» и что-то с бананом на этикетке.
– Понимаешь, – виновато сказал он, кивая в сторону витрины, – он ничего этого не пьет.
– Тогда зачем ты купил?
– Мало ли, вдруг девочки образуются. Не обязательно, конечно, – испуганно поправил он себя и нервно потер довольно изрядную свою лысину. – Просто на всякий случай. А пока давай на ту сторону перейдем.
Они спустились в гулкий переход, где зверски наяривал простуженный джазбанд. Жевакин бросил в их обшарпанный чемодан, распахнутый на мокром полу, червонец и остановился, как бы непреодолимо заслушавшись. Гремели «Вишни в саду у дяди Вани». Жевакин закатывал глаза и продолжительно причмокивал. Деревьев чувствовал себя неловко. Его толкали прохожие, он ловил ехидно-поощрительные взгляды разнообразных спекулянтов, стоявших поблизости, и неприятно оживившихся музыкантов. Жевакин все глубже впадал в совершенно неуместное самозабвение. Деревьев дернул его за рукав, сначала осторожно, потом злобно. Старый друг очнулся, шаря вокруг себя как бы ничего не узнающими глазами.
– Да-да, – пробормотал он, – пошли.
Когда выбрались наверх, он объяснил:
– Ничего не могу с собой поделать, как слышу эту песню – шалею.
В ближайшем киоске он купил несколько жестянок с сардинами, крабами, икрой, две банки ананасового компота.
– Закуска, – пояснил он, хотя никто у него ничего не спрашивал. На этой стороне повторилось то же, что и на противоположной. Жевакин вставал на цыпочки и приседал перед каждой освещенной витриной, морщился, сплевывал, препирался с продавцами. На лице его озабоченность сменялась раздражением, переходящим постепенно в отчаяние.
– Слушай, этот твой пахан какой-то прямо Анчар, ты готов сдохнуть, но добыть ему жидкость по вкусу.
Получилось что-то среднее между ассоциацией и инсинуацией, Жевакин брезгливо отмахнулся от литературной ерунды и купил две бутылки смирновской водки.
– Это нам с тобой. Правда, бутылки пластиковые, ну да лучше нет.
Жевакин пожевал губами и купил третью бутылку.
– Пойдем еще вон там посмотрим.
– Да мы уже около часа гуляем.
– Около часа? – Жевакин задрал рукав. – Академического. Но тоже немало.
Они все-таки прошлись еще в сторону ресторана «Арбат». Была приобретена связка бананов, банка маслин, две коробки консервированного мяса, а также полторы дюжины «Сникерсов» и «Марсов».
– Тоже для девочек?
– А? Да, для них, для девочек, девчушек, девуленек.
В пакет все не помещалось. Бутылку джина Деревьеву пришлось сунуть в карман. Уже почти наладили к дому.
– Сигареты забыл, – взвыл Жевакин и бросился к ближайшему киоску. Деревьев огляделся. Летел крупный веселый снег, сновали машины, сновали люди, как-то празднично светились окна. Деревьев громко хмыкнул, вспомнив вдруг все то, о чем благополучно забыл во время этой великолепной прогулки.
– Мир матерьяльный нам любезен, – процитировал он сам себе одну из любимых строчек поэта Дубровского. Подошел все еще озабоченный Жевакин.
– Ну что ж, мы не всесильны, – сказал он из-за громадного пакета, глядя на свои часы, – возьмем литр «Абсолюта» и на этом – генук.
Деревьев спросил:
– А это что, все его деньги, да?
Жевакин хмыкнул.
– Неужели ты думаешь, я стал бы на свои тебя угощать?
И в этот момент стал похож на прежнего Вовку Жевакина, дружелюбного хама и хорошего товарища.
Когда они вошли в квартиру, семенивший на кухню Сан Саныч союзническим шепотом сообщил на ухо жильцу:
– Только что пришел второй.
Деревьев вздрогнул: два Ионы Александровича для одного вечера многовато. Оказалось, что испугался он всего лишь изгиба собственного воображения: на тахте, держа в руках шапку и даже не расстегнув свой ярко-красный пуховик, сидел Тарасик. Иона Александрович все наоборот: во-первых, он стоял, во-вторых, шубу свою он давно сбросил и оказался в двубортном костюме благородной шерсти. Выглядел он как человек, дела которого складываются очень хорошо. Между тем беседа с новым старым другом хозяина у него явно не клеилась.
– Мне нужно с тобой поговорить, – поднимаясь тяжело, как приступ тошноты, сказал Тарасик, – и наедине.
– Жаль, – очаровательно ухмыляясь, сказал парирующим тоном Иона Александрович, – на сегодняшний вечер господин Деревьев ангажирован мною.
Тарасик помедлил, взвешивая обстановку. Все приняли его молчание за окончание переговоров. Деревьев и Жевакин, с которым Тарасик не счел нужным даже поздороваться, начали выгружать на очищенный от вздорных мультипликационных бумаг стол свою роскошную добычу. Тарасик некоторое время наблюдал, потом решительно рванул липучку на груди. Иона Александрович с едва заметным неудовольствием покосился в его сторону, продолжая весомо прохаживаться по комнате. Он то и дело заслонял своей расчесанной головой стоящую на шкафу лампу, создавая мгновенные затмения. Тарасик понес пуховик на вешалку, хозяин выскочил на кухню за посудой. Молчаливое неудовольствие гуляющего гиганта обратилось на Жевакина, тот выразительно развел руками и сделал отчаянные глаза. Иона Александрович задумчиво потрогал крохотную бородку под нижней губой, в глазах у него что-то промелькнуло. Он придумал, как устранить это вздорное препятствие.
Наконец все было откупорено и нарезано. Выпили. Сразу по полстакана водки, сопроводив самым примитивным тостом. Иона Александрович, несмотря на весь свой богатейский лоск, французский одеколон, бриллиантовые запонки, предпочитал такой стиль. Не успели бросить в рот по маслине, хорошо вышколенный Жевакин уже снова занес бутылку над стаканами.
– Ну все-таки, – прожевывая кусок балыка, спросил Деревьев, – чем могу, так сказать?
– Давайте ни с чем не будем спешить, попробуем лучше узнать друг друга.
– Зачем?
Предубеждение против деловых и деловитых людей уже успело сформироваться в писателе. И хотя этот странный гость все больше ему нравился, он старался на всякий случай возбудить в себе недоверие. Нельзя дать себя проглотить за полстакана смирновской водки. Может быть, ему, как и этому дрянному Нечитайле, всего лишь негде переночевать. Эта мысль позабавила Деревьева, он усмехнулся.
– Чему вы смеетесь? – со всем своим гигантским изяществом наклоняясь к нему, поинтересовался гость.
– Себе.
– Тогда выпьем, – вклинился Жевакин.
– Что-то мы без тостов, – неуверенно сказал хозяин.
Иона Александрович осторожно ощупал свои вместительные щеки.
– Я почему-то всегда бледнею, когда пью.
– Не к здоровью, – буркнул Тарасик, намазывая хлеб икоркой.
– Во, – обрадовался хозяин, – за здоровье!
Иона Александрович улыбнулся ему сквозь стакан, что резко выпуклило глаза. Деревьев поежился под этим изучающим взглядом и сказал:
– Вы чрезвычайно похожи на Бальзака.
– Я не написал ни строчки.
– Очень, очень…
– Я ненавижу кофе.
– И тем не менее.
Иона Александрович выцедил из своего стакана весь «Абсолют» и признался:
– Это была моя институтская кличка.
– У меня богатейшее воображение, – сообщил Деревьев, – не надо вам писать и кофе совсем не надо, мне достаточно этого, – он похлопал себя по щекам, – чтобы у меня было полное ощущение, что я пью с творцом «Божественной комедии».
– Человеческой, – ехидно поправил Тарасик.
– Дурак, – спокойно возразил Деревьев, – его комедия, – он ткнул в сторону Ионы Александровича, – написана божественно. У него все там, и блеск, и нищета. Мне с детства запало название его романа – «Огсц горя», – правда, я был талантливый ребенок? – Тут он вздохнул. – Хотя во многом я был трус и гад.
Появился куда-то исчезавший Жевакин и объявил, что ехать подано.
– Куда? – обеспокоенно вскинулся хозяин, пригорюнившийся было.
– Я предлагаю сегодняшний вечер продолжить у меня в гостях. На даче.
– А где это?
– Это близко. Обратную доставку гарантирую.
Писатель еще помнил, что должен быть предубежден против великолепного богача, но начисто забыл, почему. На лице его выразилась растерянность.
– Я уже и девчонкам позвонил, – вкрадчиво сообщил Жевакин.
Это мгновенно склонило Деревьева к решению ехать. Произошли торопливые, но не слишком организованные сборы. В комнате появился еще один человек, как потом выяснилось, шофер. Он подхватил тяжелый чемодан, с которым Иона Александрович прибыл. В коридоре Деревьев встретил возбужденного любопытством Сан Саныча и сунул ему банан.
«Мерседес» въехал в густой сосновый лес. Сквозь него что-то светилось. Огромный двухэтажный дом. Деревянный дворец.
– Это же целое состояние, – сказал Деревьев.
– Это только пол-состояния, – не совсем понятно ответил Бальзак. Деревьев не успел вдуматься в смысл сказанного, его восхитила внезапная седина Ионы Александровича – шевелюра, как магнит, притягивала снежные хлопья. – Мне принадлежит только верхний этаж, приходится взбираться по лестнице. Некоторое неудобство.
Первым этажом владел какой-то адмирал, а может, и пианист. Все было устроено так разумно, что соседи между собою не виделись, если этого не хотели.
«Девочки» уже были на месте. В наброшенных на плечи пальто они выскочили на улицу и, весело вереща, кинулись обнимать Иону Александровича. Он мощно тряхнул своею «сединой», и они с визгом разбежались в разные стороны.
– Лиза и Люся, – хозяин сделал властно-игривый жест в их сторону, – а это замечательный, хотя и молодой, писатель, девочки. Гвоздь нашей сегодняшней программы. С товарищем.
Сбросив свою доху на руки Жевакину, Иона Александрович поднялся на порожек, топнул несколько раз ногами и отворил дверь. Устроенная на английский манер лестница круто и прямо уходила наверх. Иона Александрович взошел по ней мрачным взглядом и, вздохнув, поставил ногу на нижнюю ступеньку.
Да, подняться наверх было нелегко, но подняться стоило. Никогда ни до, ни после Деревьеву не приходилось бывать в столь роскошно обставленных помещениях. Запомнилось не все: столовая, обшитая дубом, синие штофные обои в спальне, мягкие кожаные чудеса в гостиной, бронзовые бюсты, серебряные подсвечники и золотые корешки книг в библиотеке. В этот вечер Деревьеву пришлось попутешествовать здесь, но, скажем, набросать хотя бы примерный план второго этажа он бы не смог.
Все было готово к продолжению банкета. Над большим круглым столом нависал огромный оранжевый абажур, создавая обстановку нестерпимого уюта. Лиза и Люся сняли передники и теперь поправляли стоящие парусом салфетки, ножи, вилки и фужеры. Деревьев присмотрелся к ним, каждая была соблазнительна на свой манер, и понравились они ему одинаково. Подразумевавшаяся доступность их волновала молодого писателя. Единственное, что казалось ему несколько досадным, это их неразрывность. Он так и не смог запомнить, к какой какое имя следует применять. Он так к ним и обращался: «Лиза и Люся», и та, что оказывалась поближе, выполняла просьбу.
Тарасик расположился где-то справа, и, кажется, ничуть не чувствовал себя не в своей тарелке. Время от времени угрюмая казацкая голова выплывала из марева всеобщего замедленного веселья, и тогда Деревьеву хотелось задать ему чуткий вопрос, но он всякий раз не успевал, волна гулевания несла дальше.
Чопорный стиль за столом продержался недолго. Тарасик случайно перевернул стакан с соком, и пошло-поехало. Буквально через десять минут скатерть была загажена.
Деревьев все время ловил себя на том, что болтает ерунду и слишком по-пижонски выдыхает сигаретный дым. Сквозь этот дым он видел монументально и церемонно возвышающегося хозяина. И каждый раз к Деревьеву возвращалось ощущение, что этот человек очень для него важен и неплохо бы в его глазах выглядеть посолидней. Но тут же то над правым, то над левым ухом хихикала Лиза или Люся, и вся сосредоточенность шла к черту.
Жевакин кое-как исполнял роль тамады: то есть время от времени вздымал рюмку и орал:
– А ну-ка выпьем, господа, а ну-ка! – и неуклюже норовил хлопнуть то Лизу, то Люсю по юркому задку. Деревьев ревновал, причем обеих, хотя и осознавал, что это глупо, и жалел, что он не может ни подняться, ни опуститься до столь великолепной фамильярности.
Наступил момент, который бывает в каждом застолье. Гостям стал тесен стол. Писателю, например, надоело все время видеть в клубе дыма загадочно улыбающегося Иону Александровича. Причем улыбка его с течением времени становилась все более отрезвляющей. То есть в ней убывало дружелюбия и прибавлялось загадочности. Где-то я ее уже видел.
– Иона Александрович, – сказал Деревьев громко и развязно, – вот что я только что понял: вы поразительно похожи на Джиоконду.
– Я похож на Бальзака, – сдержанно ответил хозяин, отправляя в рот дольку лимона.
Жевакин тут же провозгласил что-то более-менее уместное. Лиза и Люся зааплодировали.
– Не-ет, – покачал полным стаканом писатель, орошая руку алкоголем, – тогда не улыбайтесь столь двусмысленно и… – ему расхотелось с этого места продолжать свою мысль, он откинулся на стуле и потер щеки, глаза. Когда он их открыл, то Ионы Александровича перед ним больше не было. Кроме того, он обратил внимание на то, что одна из девушек уходит из столовой, неся перед собой опорожненное блюдо. Исчезает, такая соблазнительная! Надо с ней наедине где-то встретиться в глубинах дома. Будь она хоть Лиза, хоть Люся, я до нее доберуся, сказал себе бывший поэт. Он встал со своего стула и с нарочито безразличным видом, с головой выдававшим его истинные намерения, последовал за девушкой. Имя – вздор, у него есть прекрасный ориентир – блюдо. По блюду узнаем ее. Но из столовой он попал не на кухню, как собирался, а в кабинет. Он узнал его по бронзе, по серебру и золоту. И по огромному письменному столу, который тут же больно толкнул его в бок. Здесь было все, кроме девушки с блюдом. Обнаружив свою ошибку, он решил продолжать поиски и, распаляясь, выскочил в соседнюю комнату, где с разбегу угодил в пасть широкого кожаного кресла, долго из него выкарабкивался – и только лишь для того, чтобы попасть в объятия второго мягкого гада. Какая странная мебель! Она как-то слишком была наготове, она не давала рухнуть полностью, но изматывала своею уступчивой заботой. Деревьев едва не забыл в этих кожаных теснинах о цели своего путешествия. Но все же не забыл.