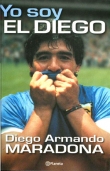Текст книги "Невольные каменщики. Белая рабыня"
Автор книги: Михаил Деревьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)
Но тогда что же? Деревьев бросил недокуренную сигарету в окно, не попал, она ударилась о стекло и, рассыпая искры, рухнула на «доказательство». Писатель с безумным возгласом кинулся спасать рукопись, вызывающую у него столь мучительные подозрения. Сдул пепел и долго разглаживал, с ужасом осознавая, что у него нет никакой другой возможности вписать этот шестистраничный феномен в картину привычного мира, кроме как только признав, что Ионе Александровичу Мамонову удалось перебросить, просунуть, пропихнуть, транслировать хорошенькую сумму денег из инфляционного 1993-го в незабываемый 1985-й. Причем посылка эта попала герою повести за месяц или два до описываемых там событий. Ему необходимо было какое-то время, чтобы обрасти всеми этими дорогими шмотками и освоить эти дурацкие манеры. Добропорядочная мудрость издавна твердит нам о вреде злата. В данном случае имел место вопиющий факт влияния внезапного обогащения на человеческий облик. Впрочем, размышления морального плана мало занимали писателя. И даже претензии профессионального характера, столь ярко полыхнувшие в первые минуты процесса идентификации, быстро поблекли и отступили в задние ряды. В самом деле, не все ли равно, что в результате этих денежных «переводов» станется с вялой незаконченной повестушкою.
Всерьез Михаила Деревьева занимало вот что: если история, возникшая из случайного столкновения двух невероятно разных людей; история, которая завязалась на дерзкой плебейской грубости, которая прошла через тяжелые постельные сражения и увенчалась попыткой побега, очень напоминающей признание в невыносимо сильной любви; так вот, если такая история обречена, если она не ведет ни к чему, кроме тайных сердечных кровотечений и сложно маскируемого восьмилетнего отчаяния, то, может быть, стоит довериться другой истории, которая открывается сценой благополучного знакомства и продвигается через хорошо ухоженные луга пошлого ухаживания; истории, где неизбежно возникает приятная симпатия между людьми, не разделенными ни социальным барьером, ни выращенными по разные стороны этого барьера комплексами.
Может быть, вообще разумнее всего доверять запись истории любви бесталанным и неизобретательным добрякам.
Чтобы проверить эти мысли, существовал только один способ – завтра же утром сесть за сочинение очередного беллетристического оборотня для фирмы Ионы Александровича.
Деревьев взял две сумки и сходил за продуктами и сигаретами. Как всегда, принял контрастный душ. Завернулся в свой старый халат и уселся в единственное, разболтанное, как шлюха, кресло. Закурил и задумался. Ему надлежало решить, какой из нескольких толкавшихся в воображении замыслов полнее созрел для осуществления.
Кроме того, нужно было разобраться еще с одной проблемой. Он так до конца, до самого внутреннего пользования, и не понял – верит ли он, Михаил Деревьев, наконец, в возможность диффузии времени и денег или нет. Истратив пять сигарет, писатель отмахнулся от этой проблемы. До менее экстренной ситуации. Он решил не уподобляться человеку, которого размышления о смысле жизни лишают возможности добывать средства к существованию. Работать надо, работать, вот что было существенно в данный момент. Деревьев переместился к столу.
На улицу он не выходил вообще, иногда выбирался покурить на крохотный балкон, напоминавший накладной карман на лохмотьях старьевщика. Всегда это случалось ночью. Три-четыре окна в шестнадцатиэтажке, стоящей напротив. Огромная беззащитная луна, отсвечивает замерзшая лужа во дворе. Одинокий пьяный плавает в мутном аквариуме автобусной остановки.
Полюбовался, и обратно к машинке.
Сам с собой он никогда не разговаривал и не комментировал вслух результаты работы. Однажды только, пересчитав под утро количество «сделанных» страниц и присовокупив эту стопочку к уже сложившейся на краю стола пухлой стопе, он, откинувшись на стуле и медленно закурив, вдруг тихо рассмеялся и сказал, впрочем, негромко и даже чуть иронически:
– Видела бы она меня сейчас.
Нетрудно догадаться, кого именно он имел в виду и какие инвективы парировал.
То, что выходило из зубов машинки, он, разумеется, не перечитывал, но с удивительной отчетливостью помнил каждый поворот сюжета и все сколько-нибудь существенные детали. Ему уже не казалась сверхъестественной и загадочной производительность авторов «Фантомаса» и Эркюля Пуаро. Он словно получил возможность захаживать в недоступный прежде клуб, не опасаясь неприятных вопросов швейцара.
Такие попутные, мимолетные настроения, возникнув, некоторое время сопровождали тяжелую телегу его обузданного ремесла. Деревьев не смотрел по сторонам и старался не заглядывать внутрь себя. Он законсервировал свою неврастению и самоиронию до получения новой порции «доказательств».
Только один день был подпорчен и вырван из рабочего ритма. Явился с пьяным визитом Дубровский. Уселся на кухне и два часа пил принесенный с собой портвейн и снова читал прозаику его стихи, сопровождая чтение своим дружелюбно-зубодробительным комментарием. В знак благодарности за гостеприимство. Хозяин, терпеливо улыбаясь, сидел напротив и смотрел на бутылку, как на песочные часы, отсчитывающие время до освобождения. Наконец пьяный критикан ушел. Деревьев уже попал в поле притяжения своего стола, как снова раздался звонок в дверь. Покачиваясь, как водоросль, Дубровский сообщил:
– Чего я к тебе приходил-то. Тебя тут искали.
– Где?
– В редакции.
– Два лица кавказской национальности?
– Нет, Медвидь приходил.
– Чего ему нужно?
– Да я не понял. Поговорить. Но мирно. Что там у вас?
– Пить надо меньше, вот что.
Дубровский принял это замечание на свой счет тоже и попытался подобраться, но потерял равновесие и отступил в глубину неосвещенной площадки. И уже оттуда сообщил:
– А два лица кавказской национальности – ты прав – были.
Вторая встреча с представителем издателя была назначена на прежнем месте. Деревьев приехал за полчаса. Некоторое время ходил кругами вокруг памятника, перебарывая волнение. Потом сел на скамейку, так было легче совладать с неудержимой до смешного дрожью. Разумеется – сигарету за сигаретой. Непрошеные цитаты. «Как ждет любовник молодой минуты та-та-та свиданья», «Всадник не отвечает за дрожь коня». И тут же увидел приближающегося Жевакина. Тихо выругался, ему совершенно не хотелось общаться сейчас со старым другом. И не сразу удалось сообразить, что просто сегодня другой гонец. Но не удержался и спросил:
– А где негр?
– Какой негр? Ах, негр. Ну, негр как негр. Принес?
Деревьев передал ему завернутую в газету стопку бумаги. Жевакин невообразимо долго, со специальными жевакинскими причитаниями запихивал ее в портфель. Наконец все устроилось. Вовчик похлопал портфель по толстому боку и сказал с непонятной интонацией:
– Молодец, па-ашешь.
– Ты ничего не хочешь мне передать?
– А, это, – Жевакин полез в карман, достал изрядно помятый конверт и протянул его, небрежно так. Деревьев уже начал на него злиться. Резким, даже слишком резким движением выхватил конверт. Слава богу, он был заклеен.
– Ну что, все? – зевнул Жевакин.
Распрощались.
Уже сидя в поезде метро, Деревьев пожалел, что не спросил у него о судьбе «Илиады». Если исходить из доступных Ионе Александровичу темпов издания книг, она вполне могла бы уже выйти в свет. Но долго думать в этом направлении он, конечно, не смог. Начал медленно, сладострастно надрывать конверт, хотя несколько раз давал себе слово потерпеть до дома.
«Как раз к разливу явилась Лизок, белобрысая, востроносая, пронырливая девица, полуактриса-полуфарцовщица. На кухне воцарилась словесная свистопляска. Лизок рассказывала одновременно три или четыре истории, каждая из которых была в свою очередь очень запутанна. В каждой из них она играла блестящую или, по крайней мере, главную роль. Мы с Дашуткой хохотали наперегонки. Я тоже вспомнил несколько историй из горнолыжного фольклора, они имели огромный успех. Лизок прижала ладони ко рту, стараясь сдержать рвущийся наружу кофе.
Внезапно сменив тему разговора, она сообщила Даше, что ее заказ выполнен. Тут же из прихожей был доставлен большой белый полиэтиленовый пакет. Даша аж заверещала от удовольствия при вице вытаскиваемых из него шмоток.
– Примерь, – предложила Лизок.
Даша ушла в свою комнату.
Раздался звонок в дверь, явилась парикмахерша Вероника. К моменту „опубликования“ обновленной Даши забрела на кухню и молчаливая маман с непременной собакой. Даша, сияя, повернулась перед публикой.
– Блеск! – сказала Лизок, довольная своей работой.
– Отобьют! – сказала Даша, кокетливо поглядев в мою сторону.
– Не одежда красит человека, а прическа, – сказала Вероника.
Маман сняла свои монументальные очки, слегка продвинула их по воздуху в направлении красавицы дочки, продолжая рассматривать ее сквозь стекла. После этого убыла, скрыв свое мнение.
– Только знаешь, Лизок, – сказала Даша несколько напряженным голосом, – папа на рыбалке, а у мамашки я брать не хочу. – По лицу актрисы было видно, что она недовольна, и, кажется, очень.
– А Сергунчик?
Тут в свою очередь скорчила недовольную гримасу Дарья Игнатовна – мол, сама понимаешь, что это тоже невозможно.
Вероника отвернулась со скучающим видом.
– Сколько? – негромко спросил я, вытаскивая бумажник, и на меня тут же устремились три пары восхищенных женских глаз».
Деревьев несколько раз перечитал эту сцену. Как и в первый раз, «материальная часть» доказательства (почерк, бумага) выглядела безупречно. Что же касается нематериального содержания, то можно было сказать – намеченная в первом послании из прошлого тенденция проявилась полностью. Герой этой подозрительного происхождения рукописи все дальше расходился с тем настоящим Михаилом Деревьевым, претерпевшим роман с реальной дочкой большого начальника. Но не это взволновало нынешнего Деревьева, а то, для начала, что этот разбогатевший парень, судя по всему, пользовался значительно большим успехом у Дарьи Игнатовны, чем нищий прототип в изначальной редакции.
Писатель еще пытался сохранить в глубине души островок трезвого недоверия к происходящему, но в «оперативной» психической жизни вовсю пользовался допущениями Ионы Александровича. Нашептывания здравого смысла его раздражали, как трескотня шуга раздражает короля Лира, но отказаться от нее вовсе он боялся, хотя и хотел этого. И чем дальше, тем хотел этого сильнее. Он называл про себя выдумку длинноволосого гиганта и дурацкой, и аляповатой, и убогой, и нелепой, и бредом называл, и интеллектуальным развратом, и блекокотанием, но желал и жаждал, чтобы она хоть в какой-то своей части оказалась правдою. Он сам подбрасывал эту беззащитную сказочку на стол холоднокровному хирургу точного знания и требовал для нее самых свирепых скальпелей и самых беспощадных бритв, но делал это все лишь затем, чтобы потом утащить ее, истекающую недостоверной кровью, в укромную каморку и там зализывать, зализывать ее оскорбительные раны.
Несомненное раздвоение происходило в душе писателя. С одной стороны, он боялся сойти с ума, поверив россказням загадочного издателя. С другой стороны, он вел себя так, словно давно уж, с первого разговора, до конца как раз и поверил. Горы испещренной бумаги об этом свидетельствовали убедительно.
Еще произвело на Деревьева сильное впечатление то, что навязываемый старой рукописи новый сюжет все же вышивается поверх прежнего. То ли фальсификатору деревьевской судьбы не хватает смелости фантазии (взял бы да отправил прекрасную пару в Таллин или Пицунду), то ли по законам того условного мира, где он действует, он не сможет преодолеть тяготения оригинала полностью и прыгает, как Армстронг по Луне, легко и подолгу зависая над поверхностью, но не имея возможности улететь к звездам.
Поезд разгонялся и тормозил, что-то стремительно выло за окном, а потом гулко сверкало. Конечно же, писатель не замечал того, что происходит вокруг. Весь его сгорбленный над невозможною бумагой организм, попав под напряжение все более напрягающихся мыслей, пошел на помощь бедному воспаленному мозгу. Он начал слегка скрючиваться, сживая себя самопроизвольной судорогой, стараясь взогнать хотя бы часть своей грубой энергии в сферу высшей психической схватки. Там казалась доступной самая тонкая нить истины, ухватившись за которую, можно бы размотать клубок бесполезной плоти и восхищенно вытянуться сквозь, в «туда».
Когда приступ схлынул, Деревьев увидел глаза сидящего напротив человека и сразу догадался в чем дело. Этот старичок принял его за начинающего эпилептика. Он имел для этого основания. Пальцы продолжали медленно массировать воздушный мяч, ноги все еще заплетались в неуклюжую косу, что-то творилось с позвоночником. Телесная машина, старт которой в иное измерение сорвался, работала на холостом ходу, постепенно сбавляя обороты.
Вечером Деревьев торопливо и мрачно напился. Количество алкоголя было так велико и было принято с такой скоростью, что даже самым сочувственным и пристальным оком не удалось бы рассмотреть блестки мыслей и настроений, сопутствовавших катастрофическому опьянению. Какое-то время он плакал и пытался прочитать стихотворение, реконструировать которое труднее, чем старинную фразу по трем-четырем бесформенным обломкам. Может быть, он даже читал несколько стихотворений одновременно. После неудачной читки он упал на пол и долго ерзал и сокращался на липком линолеуме, заплетаясь ногами в ножки кухонной табуретки. Какая пьяная химера руководила этими его поползновениями, определить совсем уж невозможно.
И вот он заснул, мертвецки пьян. Поскольку от главного персонажа ничего добиться в этот момент нельзя и пристальное, непрерывное к нему внимание утомило самого наблюдающего, имеет смысл взглянуть, чем в это время занимаются другие персонажи.
Дубровский тоже был в этот момент пьян, и, может быть, Деревьев с ним даже и встретился в пьяном аду. Пьян был и Нечитайло со своим Борьком, причем пили они по поводу того, что Борек стал накануне генеральным директором «Империала», а Нечитайло взял к себе на работу бухгалтером. Наташа, та, которая псевдохудожник-псевдомультипликатор, в это время с кем-то спала, с кем именно – рассмотреть трудно, не человек, а сплошная лоснящаяся спина. Девушки Лиза и Люся тоже спали, и опять как в той дачной истории, втроем. Причем не столько спали, сколько, хохоча, барахтались в огромной кровати с пузатым лицом кавказской национальности. Намного сосредоточеннее и тяжелее любвеобильничала Антонина Петровна. Партнер ее время от времени вскакивал и, шлепая огромными подошвами, бежал к столу, где надолго прикладывался к банке с березовым соком. Когда он возвращался обратно, Антонина Петровна нежно гладила его крепкою рукой и шептала на ухо с немыслимой ласковостью в голосе: «У тебя не диабет, а просто похмелье».
Брат Модеста Матвеевича, профессор, тоже, как ни странно, пользовался обществом женщины. Даже и молодой. Объяснение тут простое. Молодая женщина, во-первых, несмотря на свою относительную молодость, была похожа на… и, кроме того, являлась аспиранткой профессора. Но, тем не менее, ночь была полна любви, за окном с чрезмерной даже старательностью орали соловьи. За стеной всхлипывал во сне Модест Матвеевич. Профессор огненным шепотом рассказывал своей будущей жене, каким образом ему удалось сохранить столько мужской силы до преклонных, казалось бы, лет.
Легко видеть, что в эту ночь весь мир разделился на две почти равные части, на любовников и любителей выпить, только Иона Александрович, как и полагается незаурядному человеку, не лежал ни с какой женщиной в постели, а сидел абсолютно трезвый в майке и трусах на роскошной кухне своей дачи. Волосы у него были в беспорядке и немыты. По красному окаменевшему лицу пролегли широкие мокрые полосы. В руке он сжимал огромный мясницкий нож и медленно постукивал вооруженным кулаком в громадное круглое колено. Из глубины дома доносился отвратительный женский хохот.
На следующее утро обычная программа: писатель вскочил и в душ. Долго плескался, пускал то горячую воду, то холодную, пока не понял, что никакого похмелья у него, собственно говоря, и нет. Тогда он с аппетитом поел ветчины, яиц, майонезу съел целую банку, заварил кофе и сел думать, придумывать, что бы еще такое бросить в метафизическую дыру, с которой спроворило его сблизиться. Не долго думая – придумал. Проверил наличие чистой бумага, выкурил две сигареты, почистил зубы и засел.
Сосредоточиться на работе на этот раз было труднее, чем обычно. Стоило лишь слегка ослабить вожжи – внимание дезертировало на другой фронт, и Деревьев заставал себя перелистывающим вторую часть своей старинной повести в поисках той сцены, на основе которой, вероятнее всего, будет изготовлено очередное «доказательство». Если исходить из логики того, что уже сделано фальсификатором, то ожидать следовало счастливого конца с великолепной свадьбой и роскошным свадебным путешествием. Новый, идеально сфальсифицированный Михаил Деревьев напоминал непрерывно курящему и корпящему над бездарною халтурой оригиналу некий Кувейт, сумевший рационально использовать свалившееся на него богатство. Никакого отвращения, пренебрежения или другого недоброго чувства Деревьев образца 1993 года к нему не испытывал. Его поведение в недрах свалившегося на голову благосостояния не казалось 1993-му предательством по отношению к тому варианту судьбы, где остались чужие квартиры, драные носки, плохой портвейн, вечный гастрит и неуверенность в завтрашнем дне своих отношений с Дарьей Игнатовной. Появилось, наоборот, что-то вроде отцовского чувства: я не смог, так пусть хотя бы у него все будет нормально.
Правда, явилась ему однажды мысль, породившая определенную панику. Такая мысль: только ли в пределах известной рукописи происходят все эти счастливые изменения? Может быть, рукописное цветение нового сюжета вызывает отмирание сюжета прежнего, причем отмирание реальное. Что счастливое бракосочетание, гармоничная супружеская жизнь обновленного Деревьева с удовлетворенной Дарьей Игнатовной, как нейтронная бомба, взрывается над тем миром студенческой нищеты, безысходности, веселого разврата и бесцельных мечтаний, выжигая все неповторимые переживания, одноразовые презрения, единственные мысли. Причем, как всякая нейтронная бомба, она щадит все вещественное – стены общежитий, коммуналок, аудиторий и норы метрополитена.
Деревьев решил установить круглосуточное наблюдение за своею памятью. Он рассудил так, что если в самом деле в его прошлом происходят какие-то изменения, если в самом деле там, в «тогда», он, являясь молодым самодовольным гадом (являясь, а не будучи описан лишь), небрежно дарит счастливой Дарье Игнатовне жемчужное, скажем, ожерелье или норковую шубу, то из хранилища его сегодняшней памяти должно симметрично исчезнуть воспоминание о рефлексах закомплексованного студента, жеманно пожирающего привезенную любовницей колбасу. Но поскольку и первое – дарение ожерелья, и второе – пожирание сервелата – есть процесс, то есть вещь не мгновенная, то должен быть заметен, уловим хоть каким-нибудь чувством легкий парок над местом исчезающего воспоминания. Воспоминания, лишившегося опоры в прошлом.
Но это самосоглядатайство пришлось оставить. Уследить за формированием таких изменений было невозможно хотя бы потому, что сам наблюдавший становился предметом наблюдения. Глаз не может рассматривать самого себя. Но дело даже не в этом, другая, намного более сильная мысль захватила его. Вернее, даже не другая, а та же самая, но повернувшаяся другой стороной. Он просто додумал ее до конца, и вышло в конце следующее. Что если этот новый вариант судьбы в один прекрасный момент из пятистраничного текста обратится в кусок настоящей, телесной, натуральной жизни? Тогда эта свадьба, мысль о которой уже приходила Деревьеву в голову, и гармоничная совместная жизнь с Дашей будет возможна не только на бумаге этой новой, кем-то благожелательно придумываемой повести. Деревьев встал, бросился в ванную и обрушил на себя самый холодный душ, который был возможен.
«Оригинальный текст заканчивается разрывом, и поэтому ее сейчас нет со мной, – сотрясаясь от возбуждения, бормотал писатель, – впрочем, и обратное верно: ее нет со мной потому, что оригинальный текст заканчивается разрывом!»
И тогда получается – если этот новый банальный, скучный, нудный, примитивный, убогий роман придет к своему логическому завершению, то Даша должна будет оказаться здесь, в этой квартире. Это построение казалось ему логически безупречным.
То есть, надо полагать, идет неуловимое непосредственным образом сближение нынешнего «я» с руслом иного, кем-то пролагаемого сквозь время варианта существования. Доступного пока лишь в форме литературных описаний. Деревьев был убежден, что проделан уже громадный кусок этого неизъяснимого маршрута. Почему не видно никаких внешних свидетельств того, что это продвижение происходит? Кстати, почему же не видно? А само это знакомство с Ионой Александровичем, а эти свалившиеся как бы ниоткуда деньги? А потом, что значит отсутствие верстовых столбов, когда так саднят сбитые ноги. Внутренний шагомер показывает цифры со многими нулями, поэтому можно относиться как к иллюзии к неизменности пейзажа. И потом, кто сказал, что на этих дорогах все будет линейно и обыкновенно? «Может быть, я сейчас, – думал писатель, все более возбуждаясь, – растянут, как некая резина, между двумя метафизическими точками, и эти неизвестные мне ранее настроения – лишь превращенная форма тех растяжений, которым подвергается мое нездешнее тело? И скоро, очень скоро настанет тот момент, когда здесь отпустится конец звенящей резины, и я в одно мгновение весь целиком окажусь там, куда меня давно и с такой силою тянет»?
И тут ему послышалось, что в дверь позвонили. Но как-то странно. Может быть, просто звук видоизменился, прорвавшись сквозь шум воды.
Деревьев резко выключил душ, не вытираясь, босиком выскочил из ванной и замер посреди прихожей в позе заинтересованного идиота. Он бы нисколько не удивился, когда б сейчас дверь отворилась и к нему вбежала, вся в счастливых слезах, Даша.
Грохнул лифт, залаяла собака на лестнице. На линолеум сыпались капли воды. Писатель припал к дверному глазку, исследовал округлый неглубокий визуальный туннель, разогнулся, медленно и глубоко вздохнул. Оставленная на полу лужа лежала, как шкура издохшей мечты.
Попытался вернуться к уже начатой и, как говорят, продвинутой работе. Сам по себе этот замысел ему нравился не меньше, чем первый. Решено было написать продолжение знаменитой американской саги «Унесенные ветром». Спровоцировала Деревьева на это некая Риплей, толстая книжка которой под названием «Скарлетт» валялась на всех книжных развалах всю зиму. Деревьев счел это прямым вызовом. Госпожа Риплей, сама, разумеется, этого не осознавая, своим нелепым гибридом попирала территорию той тайной страны, где он яростно и честно предавался своему своеобразному рабству. Как человек с высшим филологическим образованием, он знал, что случай Риплей не единственный в своем роде, слишком даже не единственный, но чем-то невыразимо отвратный. Дело было даже не только в коммерческом привкусе этого предприятия (его собственная деятельность тоже не являлась бескорыстной). Задела Деревьева громоздкая, неопрятная самоуверенность этого замысла. Возможно, здесь сыграла определенную роль и ревность. Вот я, со своими разнообразными, самоироничными до изящества, изобретательно сработанными филологическими фантомами должен навек остаться в неизвестности и темноте литературного подполья, а ты, бездарная, глупая, самонадеянная баба, со своею монотонной, бледной поделкой нагло улыбаешься в перекрестке юпитеров и денежных струй. Он решил нанести этой выскочке удар. По своему профессиональному обыкновению он вызвал к письменному столу дух Маргарет Митчел и пообщался с ним. И если Сабатини и Хаггард после таких консультаций обещали ему в конце концов свой нейтралитет, то в данном случае он мог, как ему казалось, рассчитывать на определенную поддержку. Госпоже Митчел, женщине вполне достойной, как он понял из предисловия к ее роману, читанному лет пять назад, тоже должна была показаться отвратительной фамильярная возня, затеянная вокруг Скарлетт.
Так появился замысел романа «Ретт».
Но, как часто случается, столь замысловато составившееся настроение оказалось неустойчивым. Неприязнь к наглой писучей тетке поблекла, и колеса замысла начали пробуксовывать. Отложив листы с приключениями крутого мужика Ретта Батлера, Деревьев начинал в сотый раз мусолить последние страницы повести, где им самим были описаны собственные не слишком блистательные приключения. Итак, по всем расчетам они должны с Дарьей Игнатовной соединиться в конце неизвестно кем сочиняемого романа. Но интересно, она сама ощущает это? Может быть, давеча, когда он, голый, припадал к дверному глазку, руководим он был не исключительно лишь собственным безумием? Может быть, в этот момент Дарья Игнатовна проходила или проезжала мимо этого дома. Может быть, это она хлопнула дверью лифта, когда он, голый и мокрый… А сейчас она, сидя в собственном кресле, тихо недоумевает: что за сила потянула ее на Бескудниковский бульвар и заставила подняться на шестой этаж ничем не замечательного дома?
Для того чтобы шагнуть сквозь обжигающий туман этих рассуждений, нужно было бросить под нога кирпич еще хотя бы одной литературной поделки. И, сцепив зубы и скрепя сердце, Деревьев возвращался к своему Ретту Батлеру, который, чувствуя, что его создатель находится в помрачении душевном, начинал выкидывать на страницах престранной этой повести самые невообразимые штуки. В общем, работа шла намного медленнее, чем в случаях первом и втором. Уже выстрелили древесные почки и мелкая агрессивная зелень начала набирать растительную скорость. Классическая гроза прогрохотала и раз, и другой. Мерцающие окурки продолжали до рассвета вылетать из окна, и орущий в ветвях соловей мог подумать, что это такая медленная за ним охота, но не сдавался.
А Ретт не уставал и никак не исчерпывал свою извращенческую изобретательность. Он предавался своим приключениям с каменным выражением лица и облачком дыма марки «Мальборо» у левой щеки. Выбиваясь из последних профессиональных сил, писатель вытащил-таки неуклюжую ладью на гребень переката, в какой-то момент сопротивление материала прекратилось, и он поплыл дальше без усилий, захлебываясь в волнах текста. Треснули печати на самых укромных тайниках души, из пожизненного заключения вырвались на свет повествования и жабы-воспоминания, и мечты-чудища. Прежде их разрешалось использовать только с величайшей осторожностью, поодиночке, под конвоем иронии и при трехслойном стилистическом камуфляже. Здесь же они поперли на просторы страниц толпами.
Если фальсификации Сабатини и Хаггарда производились на манер хирургических операций, при помощи хорошо продезинфицированного инструмента, с натянутой на органы литературного вкуса белой марлевой маской, то теперь все было по-другому. Экзальтированный, полупьяный фельдшер совершал при помощи грязного мясницкого ножа торопливое самооскопление.
Буквально в течение пяти-шести дней достроилась фантасмагорическая сюжетная конструкция, в каждой клетке которой осталось навсегда по горячечному призраку садомазохистского акта, по фермам и опорам которой текли, охладевая, струйки самых сокровенных человеческих жидкостей (начиная с крови и ею кончая), под потолками и куполами которой затихали раскаты горького и гнусного хохота.
Деревьев лежал в кресле голый и изможденный – не попытка соответствовать стилистике сочинения, а просто жара. И присыпанный пеплом, как склоны вулкана. Лежал вот так он и опустошенно ощущал, что все – кончил. Обезумевшая машинка сжимала в своих мелких зубах последнюю страницу.
Испытывал он облегчение в этот момент? Огромное. А также и еще десяток синонимов к нему. Усталый, зевающий зверь воображения убрел на окраину делянки то ли соснуть, то ли оправиться, пока у хозяина исчерпалась в нем нужда. Вдруг вернулся, удивленно протягивая неожиданную находку. Говоря простыми словами, Деревьев понял, чего именно ему нужно ждать от издателя в ответ на только что завершенные приключения Ретта Батлера. Напрасно он всматривался в не освещенную словами темноту, начинавшуюся за границами рукописи (имеется в виду первая, главная «рукописная» рукопись). Зря он пытался приметить, что может произойти после его дурацкой поездки домой. Ведь никакой поездки просто-напросто не будет. Новый сюжет расплюется со старым не после последней страницы, а значительно раньше. Просто не произойдет конфликта, который стал причиной отъезда. А из-за чего он возник? Из-за того, что у честно нищенствующего поэта не было машины, на которой можно было бы приличным образом собрать в нужное время в нужном месте нескольких капризных академических старцев. Но ведь у благодушного богатея в лайковом пальто собственная машина – пусть не «мерседес», а заурядный «жигуленок» – конечно, должна появиться к концу повести. Да он специально ее купит, чтобы угодить возлюбленной. И транспортировка оппонентов будет произведена с блеском.
Деревьев снова стоял под своим сакраментальным холодным душем, радостно отплевывался, гоготал, фырчал, сладострастно ныл, старался подставиться воде как можно полнее, чтобы расширить пределы удовольствия, но тут… Опять, конечно же, мысль. В самой глубине, в неназываемой, в тихой и сухой глубине блеснули глаза этой ползучей мыслишки. Он подумал о том, что не умеет водить машину. До сих пор не умеет водить. И это неумение как особый род мнимой величины может проникнуть в положительную постройку, возведенную на впрыснутые в прошлое инфляционные деньги. Конечно, рассуждая логически, можно было бы заметить, что тот выдуманный богач не стал бы покупать машину, не получив права. Но в данном случае логика отнюдь не убеждала. Иона Александрович отвечал за переброску денег, но не за трансляцию каких-то навыков и умений. Причем о такой трансляции можно было бы говорить, имей он, Деревьев, такие навыки здесь, сейчас. Закончи он какие-нибудь автокурсы в прошлом году. Ведь и деньги стало возможным отправить в мистическое путешествие только после того, как они были заработаны в 1993 году. Деревьев снова пустил горячую воду. Он слишком живо представил себе, как улыбающийся джентльмен во французском костюме, золотых запонках, ботинках из змеиной кожи садится за руль новенькой «тойоты», улыбается поместившейся рядом сексапильной прелестнице Дарье Игнатовне и, сомнамбулически нажав на первые попавшиеся рычаги и педали, выкатывается на середину Садового кольца прямо под колеса озверевшего «икаруса».