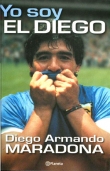Текст книги "Невольные каменщики. Белая рабыня"
Автор книги: Михаил Деревьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц)
Чувствуя, что проиграл, ощущая себя надоедливой нелепой жертвой, я ринулся к ней, и вместе с хрипом похотливого нетерпения из моего горла вылетели ошметки нищенского рыдания.
Легко видеть, что, несмотря на мои внутренние бури, наш роман в основных своих частях оставался неизменным. (Низменным.) Тянулась развратная весна. Вокруг железной сторожки орали в темноте коты. Институт напоминал театр теней. Какая-то неокрашенность во всем, выцвеченность. Жизнь столько раз проносилась по декорациям города, неизбежно изнашивая их способность выглядеть реальными. Телеги в Помпее продолбили знаменитые колеи в камне мостовых. Страстная, яркая зимняя жизнь иссушила замысел города. Поезда в метро с трудом узнавали станции, их била дрожь, как больных лошадей. Картина, которой мы привыкли восхищаться, совсем не та, что была триста лет назад, – она изъедена взглядами. Уличные люди стали как бы недостовернее, намного легче стало по весне нанести человеку мелкое транспортное оскорбление.
Брезгливо проступили первые листочки на серых деревьях. Короче говоря, весна была весною даже в городе.
Моя унизительная болезнь, моя беспредметная подозрительность – и та перестала освежать… Раньше, мучая, она оставалась чем-то внешним по отношению ко мне. Теперь она слилась с моим метафизическим телом, наподобие хорошо подогнанного платья. Чем, например, являются очки? Частью зрения или частью зримого мира?
Если измерить эту историю в принятых единицах времени, выяснится, что этот период с участием гипотетического мучителя раз в пять длиннее засыпанного счастливым снегам начала. Условная природа времени отчетливее всего видна в таких индивидуально достоверных опытах. Я перелистал сейчас эту мою несчастную рукопись, она может быть убедительным свидетелем в данном вопросе. Сколько вопиющих и сияющих мгновений метели пришлось отсечь мне во имя самой общей стройности изложения. Какие скудные сусеки неприглядной весны приходится выскребать мне, чтобы приготовить ужин бесу композиции.
Вот кладу перед собой календарь 1986 года. Конец марта, начало апреля. Две недели. Что происходило? Целыми днями лежали в койке?
Впрочем, кажется, вдень рождения Гоголя посетили мы близняшек-парикмахерш.
Все было по обыкновению. Щебечущие женщины, мое острое ощущение собственной неуместности, угловатости и т. п. Я пытался себя урезонить и даже взглянуть на себя со стороны, помня философические советы. В самом деле, что ты насупился? Твоя возлюбленная заразительно хохочет и с аппетитом лакает птичье молоко. Любой учебник гуманизма подтвердит: главное в любви – счастье того, кого любишь. Высшее наслаждение – жертва во имя предмета любви. Радуйся, скотина, – она здорова, она довольна!
Разговор, разумеется, велся пустейший, но «когда б вы знали, из какого сора»… Из этого ничтожнейшего обмена мнениями выросли махровые цветы моего сумасшествия.
Более субтильная из куаферш, кажется, Вероника (они для меня так и остались объединенным существом с двойным именем) сообщила с самым серьезным видом, что «надысь» прочла в «Неделе» статью какого-то знахаря в белом халате. Оказывается, каждой женщине «мужчина нужен в четырех… э-э… лицах, или там ипостасях».
– Ну, ну, ну, – подбодрили ее Даша и вторая парикмахерша.
– Первое – герой, – Вероника медленно загибала умелые пальчики, – второе… лицо – любовник. Третье – если не ошибаюсь, собеседник, а четвертое, четвертое – муж.
– Да-а?! – общее оживление, как в крокодиловом питомнике, когда в него бросают кусок падали.
– И вы знаете, девочки, кто важнее всех?
– Кто? Кто?
– Ну, на минуточку, ни один мужчина не соединяет в себе все четыре эти ипостаси, а самая важная…
– Ну!?
– Ничего оригинального – муж. Ну, это, по-ихнему, тот, кто до-ом, семья-а…
– И не только по-ихнему, – улыбнулась Даша, – и в этом смысле Сережечка… – Она не закончила фразу, но было понятно, что под сенью умолчания скрывается отнюдь не похвала.
Невольно я примерил эту схему к себе. Пожалуй, что я могу считать себя любовником. Это по отношению к Даше. И собеседником по отношению к Иветте.
Возбужденные дамы кокетливо примеривали ярлыки, как фиговые листки к голым мужским статуям. Мелькали неизвестные мне имена, и дамское общество разражалось хохотом.
– А Игнат Северинович? – неожиданно произнесла Виктория, бледнея от собственной наглости.
– Герой, – абсолютно серьезно заявила Вероника.
Миновав опасный участок разговора, веселея, ринулись дальше.
– Даша, Даша, а профессор? – кричала Вероника, наливаясь заранее смехом.
Речь шла о сладострастном стиховеде. Мне было неприятно, что эта гомерическая фигура выпущена из камеры нашей с Дашей тайны на волю всеобщего посмешища.
Дарья Игнатовна откинулась на спинку дивана. Глаза закатились, рот был разорван беззвучным смехом.
Вот этот хохочущий кашалот – это для меня вершина мира, самая главная и жаркая тайна, центр и смысл всего…
Я находился полностью за пределами развлечения. После полного приручения мужчины его незаметно переводят в разряд мебели. Но я не хотел смириться со своим состоянием. Улучив момент (конечно, самый неудачный), я напомнил о себе. Даша употребила некую цитату (считала нужным время от времени показывать сестрицам, кто есть кто). Я вцепился, оспаривая правильность атрибуции. Даша обернулась ко мне с удивленно-изучающим выражением на лице.
– Шатобриан не мог этого сказать, он еще не родился к этому времени, – менее всего меня интересовала какая-то научная точность, поэтому мой голос звучал фальшиво. – Нет, правда, не мог.
Она отвернулась к подругам, продолжая разговор. Моя правота мне уже и самому казалась ничтожной, микроскопической, но она все же была, поэтому я снова вмешался.
– Ну, правда, правда, не мог он этого сказать!
Не оборачиваясь больше ко мне, Даша положила мне на колено умиротворяющую руку и краем рта произнесла негромко:
– Хорошо, хорошо.
Когда я вспоминаю об этом эпизоде, мне хочется внутренне зажмуриться. Описание не в силах передать густо-коричневый цвет охватившего меня стыда. Но не взорвался, не вспыхнул, досидел до конца.
Из всех умственных россыпей этого вечера у меня засела в мозгу схема газетного умника. Иногда, чаще всего с похмелья, трудно отделаться от какой-нибудь привязчивой фразы. Тут было нечто похожее. Муж, герой, любовник, собеседник. Герой, любовник, собеседник, муж. Я позволял своим мыслям шляться по этой интеллектуальной помойке и делал открытия (возможно, велосипедные). Женщина – берем среднестатистическую, любую женщину – не бывает полностью удовлетворена, если хотя бы одна из четырех посвященных мужчине ниш в ее душе не заполнена соответствующей урной. Даже изможденная влюбленностью в Тарасика Иветта с наслаждением болтает со мною целыми часами. Что же говорить о таком чувственном монстре, как Даша. Она небось не маскирует стыдливо пустующую дыру и не ждет, что кто-нибудь туда случайно забредет. Она решительно выходит со своей жаждой общения в люди. Если есть потребность, она должна быть удовлетворена.
Итак, муж, любовник и герой у нее есть. У нее нет собеседника. Мой смутный, мой гипотетический враг вышел из безликой толпы, окружавшей нашу с Дашей кровать, и, снисходительно улыбаясь, повесил на грудь табличку «Собеседник».
Ах ты сволочь!
Муж не может быть серьезным объектом для ревности. Муж – это, так сказать, «Русь уходящая», а герой… ладно, не будем с этим возиться. Тем более что в данном случае героем является отец.
Но собеседник! Мысленно поднимается указательный палец. Ему ничего не стоит посягнуть на чужую территорию. В этом смысле наименее укреплена как раз территория любовника. Мужу не может стать хуже, вторая пара рогов не вырастет. Ба, да я и сам ведь попал в спальню любовника из кабинета собеседника.
Нужно что-то делать, панически озираясь, решил я. Но что? Хотя бы бдительность на всех прежних направлениях. Плюс еще одно: следы постороннего влияния в живой речи подозреваемой. Женщина начинает «опускать» мужчину с его «словечек». Здесь были две сложности. Во-первых, нужно было выделять и отметать общепрофессиональные заимствования, учитывая род работы Дарьи Игнатовны, и во-вторых, приходилось считаться с тем, что общались мы с нею в последнее время крайне мало, лишь в постели и только на специфические темы.
Размышляя в этом направлении, я натолкнулся еще на одну проблему. Наверняка ведь все то, что моя любовница в известные моменты шепчет или кричит мне, тоже скорей всего не изобретено ею, а воспринято. За исключением, может быть, лишь сакраментального «ой, мамочка, мама!». Я, конечно, отмахнулся от этих призраков, полезших с похабным ревом из всех щелей прошлого.
Женщины любят ушами. Я решил перейти в наступление против невидимого противника и перенести сражение сразу на его неизведанные земли. Проще говоря, стал я занимать свою полюбовницу беседой. Как только к ней возвращалась способность слушать, я начинал говорить. Я не блестящий рассказчик, почти все в мире мне кажется одинаково занимательным, мне трудно выделить. В этой ситуации разумнее всего было начать с самого начала. Я рассказывал остывающей влажной Даше о своем прадеде, потом о деде, об отце с матерью, о других родственниках. Даша слушала обычно молча, и в темноте мне трудно было определить, лежа плечом к плечу, какое я на нее произвожу впечатление. В свое время зашла речь о моем появлении на свет, детском саде и школе. Далее, естественно, армия. Однообразное молчание бывало мне ответом. Самую богатую пищу для этих рассказов дал, конечно, институт. Несчастный страдалец за эротику Вивиан Валериевич получил свою порцию смешков, но жила эта была уже истощена мною.
Очень скоро я почувствовал полное опустошение. При этом я стал бояться своего молчания. Мне казалось, что в те минуты, когда мне нечего сказать, ползучие словеса Собеседника отбивают с таким трудом захваченный плацдарм.
Дошло до того, что в самый момент совершения любви я отвлекался от своего яростного трудящегося тела и торопливо придумывал, о чем бы поговорить после. Однажды именно в момент такого неуместного умствования застланные страстью глаза Дарьи Игнатовны приоткрылись, она перестала отвечать моим слишком механическим и в силу этого оскорбительным движениям и спросила бешеным шепотом:
– Что с тобой?
Плод моего умозрения почти созрел, мнимая величина существенно уменьшила степень своей мнимости. Количество ожидания имело разродиться качеством. Я свыкся с мыслью… хуже, доказал себе существование этого болтливого гада так же точно, как физик доказывает существование гамма-лучей. Тот факт, что я ни разу не видел его и ничего о нем не слыхал, смущал меня мало.
Ожидание мое начало обретать истерические цвета. Полетел тополиный пух, овеществляя пространство между людьми. Воздух жил бездуховной жизнью.
Легкая аллергия, я до крови расчесывал ноздри и слезящиеся глаза. Ноздри сверхфизического нюха воспалились еще отчаяннее. Среди всеобщего болезненного раздражения жизни началась неуместная сессия.
Даша позвонила мне утром перед экзаменом и сказала, что ей нужно со мной поговорить.
– Во дворе института после экзамена. Я постараюсь отделаться поскорее.
Когда я вошел в аудиторию, Вивиан Валериевич улыбнулся мне так, как должен был улыбнуться человек, неоднократно в качестве третьего партнера присутствовавший в моей любовной постели. Я, разумеется, странный отсвет этой улыбки отнес на счет пуха, неврастении и т. п. Но, получив билет и заняв удобное, у окна, местечко, вдруг ни с того ни с сего ускользая с экзамена, принялся размышлять о проницаемости мира как одном из его универсальных качеств. Вот летит уже упоминавшийся пух на плечи чугунного истукана, а обжигаемый тенями этого пуха классик корчится от боли по ту сторону моего воображения. В этом неочевидном направлении мир проницаем для летящего пуха. Человеку, знающему повадки веществ, столь же легко подобрать научные слова для объяснения таких феноменов, как мне найти причину этого омерзительного экзаменаторского внимания к моей персоне. Да, мы с Дашей часто и подолгу хихикали над вами, поэтому не боритесь с собой, спокойно ненавидьте меня (я поднял глаза, Вивиан продолжал жечь меня глазами). А рациональных причин не ищите, не найдете. Нынешнее ваше раздражение против меня есть результат своеобразного путешествия во времени, это только в дурно-фантастических романах человек может перенестись ко двору какого-нибудь динозавра в полном телесном обличье. Эти топорные поделки скомпрометировали идею подобных путешествий в глазах здравого смысла. Стена тупо напирающего времени не может иметь сплошную фактуру. Какими-то тончайшими своими материями человек способен просачиваться навстречу бесчувственному натиску. Иногда даже не осознавая, что происходит, как, например, Вивиан Валериевич в настоящий момент. Такая гримаса может быть на лице у человека, обнаружившего, что он является посмешищем. Поскольку я ничем не мог выдать своего коварства, ибо не появлялся на его лекциях полсеместра, а о существовании Дарьи Игнатовны экзаменатор и не подозревает, то приходится поверить в то, что изможденная тень его самолюбия часами простаивала в изголовье наших веселых бесед.
Чтобы убедиться в правоте своей очень уж прихотливой логики, я снова посмотрел на экзаменатора: невзирая на то что перед ним сидел и бойко врал какой-то шпаргалочник, основная часть его мстительного внимания была все еще направлена в мою сторону.
Что тут еще нужно доказывать, подумал я, обращаясь к тополевому скверу, где мне суждено было увидеть Дашу. Конечно, какие-то ветки и листья вмешались, и я заерзал на месте, пытаясь по совокупности просветов сделать волнующий вывод. Уже через несколько секунд я не сомневался. Не только в том, что она пришла, но и в том, что она не одна. Что она с кем-то разговаривает.
Разумеется, я отдавал себе отчет в том, что в те часы, когда мы с нею не видимся, ей доводится перекинуться парой слов с кем-нибудь, что она не лежит, как спящая красавица в хрустальном гробу. Но увидев это собственными глазами, я испугался. Вот она беседует с кем-то, кого закрывает от меня памятник Гоголю. Почему этот факт сводит меня с ума?! Потому, что слишком видно, что эта беседа доставляет ей удовольствие? Как она остойчиво переступает на острых каблуках, какое ощущение своего пола! Но все-таки – с кем это она? Я перевалился через свой стол так, словно меня рвало. Потом запрокинулся на стуле, не щадя его суставов. Ни на одну секунду мне не приходило в голову, что в тени Гоголя может скрываться женщина. Приехавшая вместе с Дашей подруга.
Конечно, странности моего поведения не могли остаться незамеченными, тем более в атмосфере и без того повышенного ко мне внимания.
– В чем дело? – вкрадчиво поинтересовался экзаменатор.
Я одернулся, но не полностью. Даша же продолжала… жестикулировала, закидывала смеющуюся голову и ногами опять вела себя отвратительно. Могло бы создаться впечатление, что она заигрывает с каменным гостем, когда бы не выпархивала из-за гранитной фигуры парочка болтливых рук…
Я встал и потребовал, чтобы меня выпустили. Немедленно.
– До ветру? – применил тупую шпильку Вивиан Валериевич.
– Но мне очень нужно, очень, – так проникновенно сказал я, что Вивиан мне поверил, и его глаза загорелись мстительным вдохновением.
– Вы можете ответить вне очереди, – он указал копьеобразной ладонью на стул перед собой.
Стол экзаменатора располагался таким образом, что, заняв место экзекуции, я мог под новым углом и с некоторыми удобствами наблюдать происходящее в сквере. Уселся. Положил перед собою вызывающе чистый лист. Вивиан выжидающе молчал. Даже его тщедушного тела хватало, чтобы загородить большую часть окна. Я непроизвольно стал клониться влево. Он занервничал, не зная, принять ли ему это на свой счет. Поправив воротничок сорочки и пригладив оттопырившийся локон, он сказал:
– Ну, может быть, вы нам что-нибудь расскажете?
– О чем? – искренне испугался я, с трудом высвобождая взгляд из растительной толщи.
Вивиан встал и, отойдя от стола, с загадочным видом прислонился спиной к потрескавшимся изразцам старинной печки.
– Н-ну?
Когда я выскочил на улицу, из чугунных ворот института как раз выкатывал большой белый «мерседес», увозивший Дашиного красноречивого собеседника. То есть мне не удалось застать их на месте преступления. Я настроился на совершение какой-то расправы. Бегство одного из участников омерзительного заговора против моей доверчивости лишало мою ярость законного вида.
Когда я подошел к скамейке, на которой расположилась Даша, что-то во мне еще полыхало, потому что она, поджав губы и кокетливо отстранившись, спросила:
– Пошто ты на меня так зыркаешь, Мишечка?
Я терзался диким несоответствием между степенью моей моральной правоты и невозможностью ее обнаружить без того, чтобы не выставить себя в качестве ревнивого кретина.
Дашу не интересовали мои внутренние бури, у нее были более насущные и реальные проблемы. Оказывается, на ближайший вторник назначена ее защита. Я уже сто раз слышал, как сложно все подгадать к нужному дню, сам не раз бегал на почту, рассылал письма, какие-то рефераты, сопутствовал Даше в сборе бесконечных справок, пытался протолкнуть в журнальчике Дубровского отрывок из диссертации под видом статьи. Работа эта казалась мне бесконечной и как бы не направленной ни к какой конкретной цели. Подготовка к защите диссертации была для меня такой же частью Дашиной жизни, как семья, машина, собака. И теперь все это должно было кончиться. Странно.
Но нет, радоваться было рано. Дело в том, что сам акт защиты – очень громоздкое мероприятие. Оппоненты, члены ученого совета, большинство из которых старики, люди страшно привередливые и капризные. Собрать их вместе в определенный день крайне трудно. Но обязательно нужно. Потому что иначе все придется отложить до глубокой осени и в Англию ехать аспиранткой. Ах да, еще и Англия, – я внутренне заскулил.
Я покорно кивал головой, все, что она говорила, не вызывало у меня сомнений. Но Даша почему-то начала раздражаться.
– Ты не представляешь, чего мне стоило уломать Кокошина, чтобы он перенес мою защиту в весенний список, понимаешь?!
Чего тут было не понять.
– Значит, меня нет ни в каких официальных бумажках. Я, конечно, разослала извещения, но многие на дачах, лето почти, да и почта у нас работает сам знаешь как! Но даже если они получили эти извещения, то, скорей всего, забыли о них в тот же самый момент. Понимаешь?!
– Нет, – честно признался я. Даша побледнела и несколько раз стремительно облизнула губы – высшая степень озлобления.
– За ними надо съездить, – оскорбительно отчетливо произнося слова, сказала она, – и, вежливо улыбаясь, привезти в институт.
Я, чувствуя себя полным идиотом, сказал:
– Для этого нужна машина.
Даша внимательно смотрела на меня, взгляд ее наливался презрением.
– Я… – я пожевал губами, у меня зародилась болевая точка в солнечном сплетении, – …возьму такси, съезжу.
– Ну так не делается, нельзя такси, – проныла сквозь зубы Дарья Игнатовна.
– Почему?
– Ну потому, не принято.
Не глядя на нее, я медленно ковырял ногтем отставшую от скамьи краску.
– У меня нет машины.
Даша промолчала, но чувствовалось, до какой степени она не удовлетворена ответом.
– Я не могу чувствовать себя виноватым из-за того, что не в состоянии купить себе машину.
Она посмотрела на меня спокойно и как бы объективно:
– Ну хорошо, женишься ты на мне, проедим мы мои драгоценности и шмотки, а дальше что?
– Так ты… так ты считаешь, что я всего лишь хочу наложить лапу на твои, на эти…
Я встал, остановился на несколько секунд в этом положении, пропитываясь возмущением. Оно не казалось мне убедительным. Двигала мною отнюдь не оскорбленная гордость. Просто я знал, что в ответ на то, что она произнесла, обязательно надо обидеться. Постояв, изображая, видимо, потрясенную задумчивость, а на самом деле ощущая внутри только ровную тихую пустоту, я пошел вон из сквера. Кое-как миновал ворота. Добрался до метро. Сел на скамейку. Что-то мешало. Вытащил зачетку. В графе «оценка» рядом с нервной росписью Вивиана Валериевича было написано «один».
Чтобы лишить свое малодушие каких бы то ни было шансов, я в тот же вечер уехал домой. Как только поезд тронулся, я понял, что загнал себя в слишком глухой угол. Конечно, уже завтра она начнет метаться, поджидать у подъезда, психовать, вызванивать Иветту, но что я (да, именно я) буду делать эти три-четыре (я решил, что меньше нельзя) дня? Может быть, сойти на ближайшей станции, вернуться на электричке и посидеть у телефона? Нельзя. Не усидеть. Попытался переключиться. Предметы были. Семья хотя бы или малая родина. Ну вот, да, семья. Неохотно, как спросонья, появились передо мною соответствующие фигуры. Загорелый до полной обронзовелости, совершенно лысый весельчак – мой папаша. Преподаватель зоотехникума. Не человек – пионерский горн. Круглые очки, полотняные костюмы, ископаемые косоворотки – чем-то целинным, землемерским веяло от него всегда. Изучение ветеринарии вселило в него неистребимую веру в прогресс. Спортсмен, не помню в сочетании с ним ни одной рюмки, ни одного клуба дыма. Зимой с пацанами в хоккей играл, и здорово. Странно, а я ведь так и не научился стоять на коньках.
Матери не помню, а вот мачеха… Раньше я ее терпеть не мог, а теперь даже жалею как-то. Существо еще более нелепое, чем отец. Остроносое чучело с морковными волосами, с непременной непереваренной арией в зубах. Воображала себя меломанкой. Могла наскулить целиком какую-нибудь «Тоску», чем, кажется, и поразила воображение ветеринара. Считала себя носительницей вкуса – нацепит дрянные деревянные бусы, накрутит жидкую косу калачом на голове и заявляет, что это фольклорный стиль. Думала, а может, даже и до сих пор думает, что внесла в нашу скудную на эмоции мужскую жизнь тонкость, изящество и т. п. Раньше я бесился, сейчас хихикаю.
Об ублюдке неохота упоминать даже в таком развенчивающем смысле. Гнездится где-то там в музее, и хватит с него.
Вызванные к жизни неестественным усилием воображения персонажи слишком быстро истлевают, смешиваются с серым фоном тоски. Тогда что ж, малая родина. Сколько раз я, будучи юным первокурсником, второкурсником, припадал к окну здесь, на излучине железки, чтобы увидеть, как привычно и волнующе громоздятся на высоком и холмистом берегу сразу все достопримечательности нашего Калинова. И монастырская стена в тени ленивых лип, и так далее, так далее, так далее. Когда поезд грохотал над узкой неподвижной речкой – камыши, рыбаки, ивы, – к горлу каждый раз подкатывал хорошо узнаваемый ком. Что и говорить – родина.
Вот и в этот раз.
На привокзальной площади – утренняя пустыня. Забор со следами каких-то выборов, опечатанная бочка с квасом, пьяненький бомж на вытоптанном газоне. Никто больше меня не встречал.
Дома мне тоже никто особенно не обрадовался. Впрочем, обижаться было не на что. Я перестал учитываться порядком здешней жизни. Помог отцу натянуть какую-то проволоку между сараем и крольчатником. Зачем? Мачеха была на дежурстве, а ракалия на работе. И то и другое меня устраивало. После проволоки отец убежал по делам, для чего-то обещая, и даже клятвенно, вернуться не позже чем через час. Я пил прошлогодний компот на веранде, заставленной помидорной рассадой. Отца я, собственно, не ждал, но немного обиделся, когда он не появился и через два часа Пошел бродить по городу, раз все равно приехал. Вот они, мои булыжные мостовые, вот керосиновая лавка, где мне рассекли губу, вот школа трехэтажная, вот ее самодельный (предмет гордости) ботанический сад. Кишащий объяснимой зеленью. А вот и звонок. Я тихо отступил от родимого забора в тихий переулок. Не дай бог встретиться с кем-нибудь из учителей, считающих, что именно благодаря их самоотверженным педагогическим усилиям я теперь учусь в Москве…
Конечно же, побродил по гулкому монастырскому двору. В прошлом году здесь вдруг провели субботник, в мерзости запустения наведен порядок. А за стеной широкий овраг с волейбольной площадкою на дне. Ох уж эта волейбольная площадка…
В конце концов я выбрался на высокий муравчатый откос и, имея за спиной приземистую историческую стену, а перед глазами бесчувственное приволье, присел на траву и тихо разрыдался.
Вечером мы напились с ракалией. Мачеха была страшно довольна этим «семейным» ужином. Я бросился на вокзал и через день был в Москве. С вокзала позвонил Иветте. Изо всех сил маскируясь дрожащим от искусственного веселья голосом, спросил:
– Ну как дела? О чем вы с Дашуткой на этот раз болтали?
– А она не звонила.