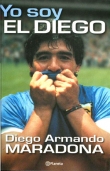Текст книги "Невольные каменщики. Белая рабыня"
Автор книги: Михаил Деревьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц)
Итак, я решил (твердо) не звонить больше белой дубленке и бело-голубому в клеточку платью. Зачем мне все это? Что мне во всем этом? Один день прошел, второй. Привет и прощай, третий. К концу четвертого стало ясно, что позвонить как ни в чем не бывало уже нельзя, придется объясняться по поводу неожиданного молчания. Стиля небрежной рассеянности мне не выдержать, начнется нагромождение ненужных объяснений и уверений и останется кислый осадок на дне разговора. Привкус поражения. И опять-таки – зачем мне все это?!
Заканчивался первый семестр последнего курса. Я время от времени посещал какие-то лекции, в основном те, к началу которых успевал проснуться. Сверхъестественно либеральный порядок на нашем филологическом факультете каким-то образом уравновешивал жесткую схему реальной литературной жизни. Тебе предоставлялась возможность бездельничать, пьянствовать, беззаботно развратничать, читать все то, что официально читать не рекомендовалось. Но вместе с тем цветы, выращенные на этой богемной помойке, никогда и никому не удавалось продать государству. Разве что на корм скоту-редактору.
Впрочем, далеко не все мнили себя сочинителями и, стало быть, мало для кого это было проблемой.
Кому-то из знакомых или приятелей по оставлении учебной филологической скамьи удавалось пристроиться в каких-нибудь журналах или издательствах. (Все же кто-то из седых сидельцев время от времени умирал.) Участь их, являясь предметом всеобщей зависти, была незавидна. Чаще всего им приходилось заниматься переписыванием чужих книг. Сначала это мне казалось нелепостью, дикостью, но потом я понял, в чем тут скрытый и одновременно возвышенный смысл. Некий писатель наворотил огромное печатное нечто о жизни овцеводов или даже пуще того. И вот выпускник филфака, чей вкус отточен на Гомере, Вольтере и трагедии в «Англетере», сокращает (иногда в разы) этот вопль степей (или гор, или тундр) и делает из него соответствующий заданным параметрам кирпич, ибо идет грандиозное вавилонообразное строительство. Почетно и ответственно стать одним из просвещенных подмастерьев в великом деле. Меня до сих пор удивляет, как эта хищная махина, поглощая каждый год все новые и новые отряды полуспившихся, изъеденных гонореей и экзистенциализмом юнцов, умудряется оставаться все такой же соцреалистически монолитной, столь цензурно непроницаемой.
Впрочем, что это? Запоздалый лепет памфлетиста. Что мне сейчас до нравов вымершей литературы?
В тот день я сидел в отделе поэзии одного из толстых журналов, где в качестве младшего литературного сотрудника подвизался Герка Дубровский. Чрезвычайной худобы и честности человек. Под глазами у него лежали такие тени, будто он не полностью еще проступил из небытия. Плюс к этому старческий прокуренный смех, рыцарская преданность бутылке и комната в коммуналке в районе Сретенки. Вот, собственно, и весь портрет.
В ожидании конца рабочего дня мы прихлебывали чай, навечно сервированный на тумбочке в углу комнаты. За сводчатым окном медленно рушился снег. Сейчас мы с Дубровским пойдем в Елисеевский магазин, возьмем две или даже три бутылки «Тамянки». Кому-нибудь позвоним, но, скорей всего, не станем звонить. Просто посидим, поговорим.
Я старался не вглядываться в будущее, снегопад шел мне в этом навстречу. Конечно – одиночество, одиночество, одиночество. Я всмотрелся в три эти совершенно разные слова. И выбрал отороченное тишиной, грустью и мужской дружбой.
В комнате появился Ярополк Антонович, ответственный секретарь журнала. Мне захотелось встать и объяснить, что я тут делаю, хотя Ярополк Антонович отлично знал, кто я такой и чего могу хотеть от журнала. На его карандаше еще не полностью высохла кровь после операции на моих текстах. В руках он держал несколько листочков, испещренных машинописью. Листочки эти спланировали на стол перед Дубровским.
– Что это такое? – спросил Ярополк Антонович.
Что можно ответить на такой вопрос? Дубровский перечитал обе страницы.
– Я опускаю вопрос о качестве стихотворений, но вычитывать текст вы должны.
Младший редактор покосился в сторону снегопада, завидуя погребаемым деревьям.
Я, негодяй, должен был бы сочувствовать своему тщедушному другу, может быть, лучшему переводчику Бодлера в этой стране, но чувства мои были на стороне молодого начальника, одетого в серую тройку, пахнущего дорогим одеколоном, сочиняющего непрерывно, даже в рабочее время, романы о рабочем классе. Мне нравилось, как он стоит, как он смотрит, как говорит, меня прямо-таки очаровал блеск демагогических финтов, которыми он добивал нерадивого редактора.
– Если хотите, я сам буду вычитывать рукописи, только предупреждайте, что вам некогда было.
Этот номер был разыгран в известной степени и для меня. Мол, смотри, представитель подрастающего поколения автуры, вот я, покачиваясь на своих «саламандрах» и даже не повышая голоса, превращаю несколькими щелчками в порошок твоего радетеля. Да, парни, еще очень много редакционного чая вам придется выпить, прежде чем замаячит ваше времечко.
Зазвонил телефон, Дубровский жадно схватил трубку – слушаю – и вдруг, удивленно отведя ее от уха, сказал лете:
– Тебя.
Внутри у меня… короче говоря, кое-как я взял трубку.
– Але, привет, – услышал я медовое пение.
Ярополк Антонович оборотился ко мне, и вид у него был такой, словно я открыто хамлю ему в ответ на только что сделанный намек. Отчего это вам звонят сюда, молодой человек? Не ведите себя как дома там, куда вас с неохотой пригласили в гости.
Больше всего меня занимало в этот момент, как Дарье Игнатовне удалось меня разыскать? Я хотел об этом спросить ее, но, глядя в налитые ледяной яростью глаза ответсека, сумел только произнести:
– А, – в смысле: «А, это ты!»
Никакого разбирательства Даша устраивать не стала. Она применила прием древних монгольских полководцев, которые заваливали возникающие на пути движения войска рвы трупами животных и людей. Она рассказала мне, что умерла кошка Манечка у ближайшей подружки («У Лизка, я тебя с ней познакомлю») и у двух любимых парикмахерш, Вероники и Виктории, скончалась тетка. Всех приходилось непрерывно утешать. Таким образом, Даша вывернула нашу ситуацию наизнанку, оказывается, это не я ей не звонил, а она не могла позвонить мне по причинам самого серьезного свойства.
Я не успел ничего ответить. Соболезновать по поводу кошкиной кончины мне не показалось необходимым, равно как и по поводу отдаленной тетки. Речь Даши уже летела дальше, оказывается, сегодня нас (ее и меня) ждут в гости.
– Если ты, конечно, свободен и у тебя нет других планов. Мы могли бы встретиться на углу Чехова и Садового кольца. Тебе как раз удобнее ехать по кольцу, какой там троллейбус?
Тонкий намек. Дашутка давала мне понять, что она, несмотря на коренное московское происхождение, не слишком ориентируется в системе муниципального транспорта, ибо привыкла пользоваться такси или собственным авто.
Это сейчас, когда у меня есть время и есть опыт нашего романа, я, взвешивая каждую из оставшихся в памяти фраз, произнесенных ею, нахожу в ней материл для саркастического комментария. Тогда я просто сказал:
– «Б».
Ярополк Антонович, все еще наблюдавший мой концерт одного телефона, многозначительно пожевал губами и вышел, не дожидаясь окончания алфавита.
Я положил трубку на место и откинулся на спинку стула, видимо, улыбаясь. И даже, кажется, что-то напевая.
– Чего это ты? – спросил подозрительно Дубровский.
– «Прощание „Тамянки“», – сказал я.
– То есть?
– Боюсь, что мы не будем сегодня пить.
Я действительно воспользовался троллейбусом «Б» и через полчаса уже смотрел чрезвычайно эротическую фильму в компании двух сестер-парикмахерш. Как я понял из разговора, они считались близняшками, хотя редко встретишь менее похожих друг на друга людей. Ту, что потолще и повеселее, звали Виктория, а младшую, девицу ехидную, сухощавую и с плохими зубами, кликали Вероникой. Общая их квартира была уютным гнездышком, лишь переизбыток антиквариата портил впечатление. Мебель у них оказалась тоже велюровой породы. Знакомые переживания.
Фильм был сдублированный, и поэтому мой слух был свободен. Парикмахерши взахлеб и наперебой рассказывали о своих успехах. Даша непрерывно и с невероятной изобретательностью восхищалась ими. Сестрички, как потом мне рассказала Даша, вырвались на простор настоящей жизни из совершенно затрапезной семьи. Отец – алкаш, брат – бандит. Короче говоря, они, что называется, сделали себя сами, чем и нравились Даше. В этом они походили на Игната Севериновича в молодости. Теперь они работают в каком-то суперсалоне, гребут деньги, знаются с кинозвездами и все такое. Даша подыгрывала их плебейскому плейбойству (ее собственное выражение) по вполне прагматическим причинам – сестры приводили ее голову в порядок без очереди и без записи, по первому предъявлению.
Пресыщенный куаферной премудростью, мой слух присоединился к зрению. Голые люди на экране на удивление много говорили, и причем с самым серьезным видом, как будто участвовали в опасной для жизни операции, а не в развлекательном, собственно говоря, мероприятии. Благодаря Даше, я посмотрел таких фильмов множество. И чем дальше, тем больше меня интересовал именно текст, сопровождающий извлечение удовольствия из глубин человеческого тела. К зрелищу самого акта привыкаешь – в конце концов, что тут можно придумать особенного. Вся эротичность, сексуальность, все по-настоящему волнующее переместилось постепенно в слова. Интересно, что нам мало попадалось фильмов, где разговаривали по-английски. Чаще по-французски или по-немецки. Французская речь – род смазки, облегчающей работу машины любви. Немецкий глагол был неизменно неуместен в виду голого тела. В углу будуара всегда мерещилась груда армейского обмундирования. Менее всего подходил для обслуживания порнографических фантазий финский. Когда рыжеволосый калевала и разморившаяся в сауне ласк дебелая нимфа начинали обмениваться мнениями о только что произведенной любви, меня разбирал хохот, особенно неуместный оттого, что я обязан был его сдерживать, чтобы не произвести дикого впечатления.
Ведя меня в очередные гости, Даша ничем не давала мне понять, что видит странность нагромоздившейся постепенно ситуации. По ходу действия фильма, болтая с хозяевами, она как бы специально старалась приурочить наиболее пресные пересуды к наиболее откровенным кадрам. И потом, когда я провожал ее домой, расстановка сохранялась. Мы или сплетничали о недавних хозяевах, или обсуждали перспективы Дашиной диссертации. Она обожала со мной советоваться и упорно продолжала делать это, хотя в самом начале наших собеседований выяснилось, что ценность моих советов по части научно-бюрократической деятельности равняется ровно нулю. А я ведь что-то искренне старался понять, вникал в детали компилятивной каши, которой, конечно же, и была ее научная работа, пытался разобраться в соотношении авторитетов на кафедре и в ученом совете. А перед внутренним оком влажно резвился праздник генитально гениальных счастливцев.
Странная пара – белая дубленка/драная куртчонка – бредет по нежному снегу, соприкасаясь классически лишь рукавами, обмениваясь мнениями о необычных внутренностях знаменитого романа, разъятого скальпелем извилистого анализа, а в двух шагах бесшумно бушует лава любви. Но о ней ни звука. Табу. Вот такая, может быть, на чей-то вкус аляповатая картинка.
Вообще надо что-то делать, изобрести какую-то удавку для неуправляемо вспыхивающего стыда. Иначе просто рукопись эта, затеянная со столь практической целью, не будет закончена. Вспоминаю, но не понимаю, как можно было принять эту роль, как можно было не видеть, сколь просто всего лишь круто выгнутой лестью меня оттеснили на площадку для безопасных дебилов.
Так получилось – уже не добраться до первых песчинок этой постройки, – что наше общение строилось по принципу: ты (то есть я) поэт, творец, к тому же мужчина, то есть заведомо умнее бабы в любой ее модификации; а я (то есть Дарья Игнатовна) – сухарь в юбке (в такие моменты всегда как бы случайно демонстрировалась сочность и статность форм), мое дело сидеть в библиотеке и нанизывать крошки пресного знания на серую нитку нудной науки. Но стоило хоть на мгновение забыться, меня тут же дружелюбно «прикладывали» самодовольной мордой о самые грубые углы книжной премудрости.
Тема эта – мужчина в жизни женщины, с точки зрения женщины – еще проявится в данной истории. Позже. Пока есть еще чем помучить себя.
Разговаривали мы очень много о Дашином папаше. Не видя его, я постепенно, но основательно проникся ощущением его значительности. Это был, может быть, и грубо выработанный природой, но чрезвычайно почитаемый истукан. И все женщины дома, включая овчарку Несси, охотно плясали вокруг него свои самоуничижительные пляски. Как стелилась перед ним Мария Евгеньевна! Даша приводила многочисленные примеры сверхпредставимой жениной преданности и услужливости. Приходилось верить.
«Зато, конечно, не работала моя мамашка ни единого дня».
Я постепенно утрачивал способность критически смотреть на вещи, хотя по внутреннему складу я был ближе к черному юмору, чем к розовым соплям.
А ведь Даша «прокалывалась», отражающая поверхность ее маски была с изъянами. Пропев какой-нибудь особливо откровенный дифирамб в мою честь и заставив меня своим абсолютно серьезным видом и нетривиальной аргументацией поверить, что она говорит серьезно, она буквально через несколько минут могла мне рассказать, какие ей давал Игнат Северинович советы для общения с творческими людьми. «Льсти, льсти крупно. Если романист, сравнивай с Достоевским и настаивай на этом, настаивай. Если поэт, – то Блок, не ниже». Произнося этот текст, она неестественно вздымала свой маленький указательный палец, видимо, копируя папашу.
Однажды я оказался участником истории, столь же странной, сколь и пикантной. У меня есть свое толкование, но мне оно не кажется исчерпывающим.
Стою я в вестибюле Института всемирной литературы. Храм, оплот, это все остро переживается. Мимо меня по роскошной лестнице к неведомым мне вершинам духа поднимаются незнакомые интеллигентного вида люди. Литературные существа. К виду простого пишущего человека я успел привыкнуть, а тут попахивало жречеством что ли. Я робел, напускал на себя независимую осанку, но всерьез опасался, что если какой-нибудь из здешних докторов обратит на меня свое очкастое внимание, я растворюсь, как облако скучного пара, вместе со своей необустроенной лирикой.
Кстати, что привело меня к подножию этой лестницы, я не помню. Догадаться, впрочем, нетрудно, наверняка договорились с Дашей.
Стою и жду. Долго. Минут семь или десять. Вахтеры посматривают в мою сторону. Когда Даша появилась на вершине лестницы, я почему-то подумал, что ее имя в творительном падеже рифмуется со словами «взашей». Очевидно, таким образом выразился подсознательный страх, что я присутствую в этом вестибюле не на законном основании.
Между тем Даша начала спускаться. На ней был ангорский джемпер, плавно меняющий окраску, и кожаные брюки. По меркам модного журнала ее фигура, вероятно, не была бы признана идеальной. Это объективное мнение существовало во мне на тех же правах, как верховный суд при тоталитарном режиме. Да, нош коротковаты. Но та область фигуры, что в основном и протягивает внимание противоположного пола, была как бы особенно отмечена, жила немного по своим, заповедным законам. Перечитал сейчас последние строчки и даже застонал в нос. Отчего выходит так пошло, словно слова набриолинены?
Тем не менее надо что-то делать, она спускается. Другими словами, погружается всем своим столь неудачно описанным телом в слегка воспаленный раствор моего воображения, вытесняя столько ноющей влаги, сколько и завещано Архимедом.
Неудивительно, что когда она остановилась передо мною, двумя ступеньками этой символической лестницы выше меня, я не смел даже ее поприветствовать. Она провела рукой по волосам, возделанным в форме античного шлема, слегка наклонила умную голову набок и спросила:
– У тебя кто-то умер?
Я ничего не ответил, даже не пошевелился, но что-то все-таки дал ей понять. Или она сама догадалась о безопасном для нее содержании моего оцепенения. Выспренние ресницы дрогнули, и светло-карие зрачки, подробные, как карты небольших стран, накрыла тень.
Придется признать, а может, даже и констатировать, что законченного образа не получилось. Это значит, придется вернуться, иначе (повторюсь) не имело смысла начинать. Может быть, попробовать старый классический рецепт, разъять объект на части. 1 – лицо, 2 – одежда, 3 – душа, 4 – мысли. И все – прекрасно.
Мы вышли на заснеженный двор.
– Нам сюда, – мягко и вместе с тем значительно сказала Даша, указывая в сторону очаровательного белого «жигуленка». «Папашка» опять доверил ей ключи. Контраст между нашими материальными базами не мог стать более вопиющим, чем он уже был. Мне надлежало оставаться равнодушным к появлению авто. Кто-то подкрался сзади и закрыл мне глаза липкими лапами. Я криво усмехнулся и сказал: «Хандра».
Некоторое время мы ехали молча. Потом она заговорила. Оказалось, что мы направляемся к ее старой знакомой. Знакомая эта жила совершенно одна в двухкомнатной «шикарной» квартире на Кутузовском проспекте. Отец ее работал в Италии в торгпредстве. Все обстоятельства этой знакомой были мне изложены не бегло, а обстоятельно, повернуты и так и эдак, как товар, который надеются продать. Не остался забытым легкий, «неснобский» нрав, чрезвычайная способность к какому-то рукоделию. Я слушал, рассчитывая, что в конце описания будет объявлена цель визита. Но тут мы приехали. Помолчали в лифте. И вот уже хозяйка в распахнутых дверях. Весьма упитанная лошадь с унылой физией и бледными залысинами.
Мы стали пить чай в комнате, обставленной весьма богато. Иконы на стенах, горы фарфора в шкафу. Чай был сервирован на столике из толстого стекла, и я в основном был занят тем, что осторожно, как бы между прочим, передвигал чашки, сахарницу, вазочку с печеньем таким образом, чтобы прикрыть ноги. Допускаю, что я выглядел странно. Один из моих ботинок промок, и сильно, и мне не хотелось, чтобы дамы подумали, что носки у меня не только грязные, но и разные.
Беседа была изумительна по своей беспредметности. Было заметно, что хозяйка – ее, кстати, звали Жанна – сама теряется в догадках, что, собственно, нужно неожиданной гостье. Из разговора я понял, что они не виделись несколько лет. Почувствовав, что уже пора выворачивать к какому-то смыслу, Даша сделала неуловимый словесный финт и страстно заговорила о том, что вот этот молодой человек (то есть я) давно и серьезно интересуется античностью и ближневосточной словесностью к тому же, и поэтому не могла бы Жанна дать ему на время вот этот томик Аполлодора. Разумеется, с возвратом и под ее, Дашину, ответственность. Ошалевшая от такого рода логики хозяйка зомбиобразно встала, сняла с полки книгу и, поколебавшись, протянула мне. С явной неохотой. Я, омерзительно изобразив дружелюбие и благодарность, сжал в руках книгу («Мифологическая библиотека»), как ценную и нежданную находку. Даша потребовала, чтобы Жанна записала мне свой телефон.
– Когда прочтешь, позвонишь и привезешь книжку.
На отдельном листочке сильно-сомневающейся рукой был записан в высшей степени не нужный мне номер.
Меня не оставляло ощущение легкой бредовости происходящего. Хозяйку, кажется, тоже. Книга обжигала мне руки. Я был уверен, что никогда не позвоню этой итальянской дочери, поэтому мне казалось, что я участвую в краже.
Наконец мы снова в лифте.
– Зачем мне это? – показал я «Мифологическую библиотеку» Даше, заранее соглашаясь принять любое объяснение.
– Ничего, ничего, – сказала мне Дарья Игнатовна. – Жанночка мне многим обязана.
Вечером этого дня я отправился к Тарасикам. Слава богу, не нужно было искать повод для визита. Распивая вино с молодыми супругами, я, бледно улыбаясь, выслушивал их добродушные препирательства. «Ты должен съесть еще одну котлетку». – «Да сыт я по горло этими котлетами», – свободолюбиво хмурился Тарасик, отставляя тарелку.
Ощущение романтической бездомности обострялось в этом оазисе пресноватой, но привлекательной домовитости. Разговор развернулся в мою сторону. Я с охотой подвергался Иветточкиным советам и готов был сколько угодно обсуждать с нею мои перспективы. По ее мнению, молодой, мозговитый (на время снятое с Тарасика определение), здоровый парень не может в Москве пропасть. Собственно, назойливое участие Иветты меня бы занимало мало, когда б я не чувствовал, что за ее речами «кто-то стоит», говоря языком шпионской прозы. Когда выпившая женщина пошла на второй круг пересудов, я решил, что мне придется подтолкнуть ее к объяснению. Это оказалось совсем не трудно, хотя, как потом выяснилось, Иветта и давала Даше слово ни в коем случае не открывать факт их чисто женских консультаций по моему поводу.
– Знаешь, я хотел бы с тобой посоветоваться, – лицо мое было напряжено, я попытался улыбнуться, улыбка вышла кривой, – в очень странную историю меня вовлекла твоя… м-м-м… подруга.
Иветта терпеливо выслушала в подробном и иронизированном изложении рассказ о путешествии в «Мифологическую библиотеку». Тарасик хмыкал, нарезая колбасу. Иветта тоже несколько раз прыснула. И сразу же согласилась прокомментировать сказанное. Причем с каких-то заранее выработанных позиций. Это отразилось даже в ее облике – она неестественно выпрямилась, заговорила медленно и словно используя давно отобранные слова. До меня доводилась официальная версия происходящего.
Как бы там ни было, но в этот вечер наконец возник канал общения между мною и женщиной, с которой я проводил много времени за просмотром порнофильмов. Поле обычного общения было заминировано, придется пользоваться услугами окольного информационного ручейка. Тихая, домашняя, искренняя Иветта разрешила проложить его по своим землям. Разумеется, к ней переходили таможенные функции. Все плывущие туда и обратно суда мягко, но решительно досматривались, наркотики и оружие изымались.
Настаивая на своем вопросе: что нужно от меня женщине, которая, измучив меня сексуальными кошмарами наяву, знакомит со своей подружкой явно сводническим образом, я, конечно, хотел услышать в ответ что-нибудь вроде: сумасбродность Дашиного поведения идет оттого, что она увлеклась, а знакомство – это испытание, Даша хочет удостовериться, что избранник ее не бросится за первой попавшейся юбкой. Иветта, в общем, удовлетворила мое тайное желание, изложив, пусть длинно и путанно, именно такую трактовку.
Под конец я решил опробовать новый канал связи. Я разыграл скупую мужскую истерику. Мне все надоело! Сколько можно надо мною измываться! Я чувствую себя идиотом! Терпение, словом, иссякает, я готов к самым непредсказуемым поступкам. Иветта помрачнела. Это меня устраивало. Если хочешь испугать противника, испугай вначале гонца.
О том, что Даше стало известно о вспышке моего недоумения, я узнал вечером следующего дня. Записка на вахте. Дежурила как раз седая грымза, сквозь вздыбленные лаком волосы отвратительно просматривался розовый череп. Сколько лет учусь, но так и не запомнил, как их зовут, наших вахтерш, что, наверное, ставит под сомнение мою народность. Ругался я с ними почти ежедневно – а что остается делать при дикой привычке запирать входные двери часов около десяти вечера и впиваться с административным воплем в кудри каждой «вертихвостке», «потаскухе», «твари», которую я веду к себе на пятый этаж. Чтобы этот ядовитый одуванчик согласился принять для меня телефонограмму, нужно было разбиться в лепешку, свернуть горы, стать на колени. И все по телефону.
Треснувший ноготь подтолкнул ко мне сложенный вдвое листок. В развернутой бумажке я обнаружил прекрасно знакомый номер телефона. В лифте обдумал положение. Положение было простое: стоит мне исчезнуть из поля зрения и слуха всего лишь на сутки, противоположная сторона начинает сходить с ума. Я решил посмотреть на себя со стороны. В мрачном зеркале с полуотставшей амальгамой я увидел изможденное лицо с внимательными недобрыми глазами, выглядывающее из капюшона. Не было даже намека на улыбку.
Выйдя из кабины к телефону, расположенному на площадке, набрал подсказанный номер и, дождавшись первого длинного сигнала, положил трубку. Этот укол заставит Дарью Игнатовну нервно обернуться и даже вздрогнуть. После этого я огляделся, оценивая позицию, на которой мне вскоре придется дать бой личного значения. Волею обстоятельств: аппарат на третьем этаже раскурочен Дагестанцами, приходившими в гости к нашим бухгалтершам, а возле нижнего сидит уже достаточно описанная цепная бабушка, мне придется разговаривать, имея по правую руку мою первую любовь, а по левую мою первую жену. Ситуация не из ряда вон выходящая по меркам нашей общаги. Между их комнатами было не больше двадцати метров. Закон симметрии. Моя первая любовь жила сейчас с моим другом, а первая жена с моим сыном. Закон жизненной симметрии усугублялся тем, что сожитель моей первой возлюбленной перестал быть, разумеется, моим другом, а ребенок первой жены оказался на поверку ребенком не от меня. С этим мальчиком у меня сложились редкие отношения. Когда с неопровержимой точностью выяснилось, что моим он быть никак не может, я испытал странное чувство утраты, которое было мнимой величиной настоящего чувства.
Не включая света в своей комнате, я подошел к окну, за которым гипнотически торчала Останкинская телебашня, электрические ожерелья охватывали замшевое тулово, самый большой манекен для демонстрации ювелирных украшений.
Я лег на диван. Закрыл глаза. Чем дольше я буду воздерживаться от звонка, тем больше будет плацдарм, с которого я поведу переговоры. Над изголовьем кровати стоял старинный стереопроигрыватель с подслеповатой иглой и неуловимыми внутренними перебоями, наподобие сердечных, это придавало исполняемой им музыке личный характер. Я относился к нему, как Моцарт к слепому скрипачу, вызвавшему к жизни знаменитый монолог «мне не смешно…»
Я поставил пластинку с итальянской лютневой музыкой. Она отвечала настроению всей этой слегка воспаленной зимы и этого вечера в частности.
Мое романтическое сумерничанье было сорвано вторжением полупьяной банды, во главе которой был Вовка Жевакин, настоящий отец не моего сына. Он, кстати, тоже был Анастасиею моей брошен (Анастасиею звали первую жену), и между нами образовалась внешне беззаботная циничная дружба.
Жевакин и двое его собутыльников прикатили из непонравившихся им гостей. Филолог-старшекурсник чрезвычайно силен в насмешках и разнообразен в формах испускания яда. Я быстро выпил два стакана портвейна и с удовольствием слушал то, что мне рассказывали. В углу, как безобидный сумасшедший, лепетала лютня. Высилась башня. Время летело. Я чувствовал себя все уверенней.
Стакана, наверное, после пятого или шестого я решительно встал и вышел в полутемные окрестности телефона. Здание при помощи лифта вело неритмичную торговлю людьми между этажами. Тот факт, что в это время суток у телефона не было очереди, вполне мог быть признан чудесным Но я-то был уверен, что это просто обстоятельства в панике расступаются передо мной, облегчая путь к успеху. Я снял трубку. Позвонил. И у меня состоялся разговор с женщиной, жадно ожидавшей моего звонка. По понятным причинам у меня нет возможности восстановить его дословно. Самое главное, что Даша не поняла, что с нею разговаривал не я, а жесткий мужчина по имени «Агдам». У меня есть такая черта: даже при очень сильном опьянении моя речь сохраняет все признаки нормы, и только внимательный и, главное, спокойный слух может в ее глубине уловить признаки добровольного сумасшествия. Я, кажется, был нагл, печален и логичен. Убийственное сочетание. Бревно с глазами для пожирания видеовремени заговорило, это было настолько неожиданно для Даши, что она начала оправдываться. И чем длиннее, путанее, разгоряченное были эти оправдания, тем самоувереннее становилась моя и без того развязная поза и тем больше моя речь отливала отвердевшей наглостью.
Даша сочла нужным сообщить мне, что с завтрашнего дня она поселяется в писательском поселке под Москвой, где ее «папашке» как человеку, имеющему громадный вес в книжном мире, регулярно отводят коттеджик. Я не упустил возможности пройтись на этот счет, причем настолько ехидно, что Даша тут же предложила мне навестить ее. «Хоть завтра вечером».
– Что ты молчишь? – тревожно спросила она. Я, зажав трубку рукой, боролся с приступом икоты.
– Если… ыкм… если… ыкм… смогу.
Проснулся я рано. Еще в темноте. Первое, что вспомнилось – вчерашняя беседа с дочкой книжника. Очертания состоявшейся договоренности расплывались в похмельном сознании. Одно было несомненно – ждет. Я попытался в одном мыслимом пространстве объединить бравирующего своим хамством плебея и утонченную, беззащитную, самоотверженную аспирантку: достигнутый контраст сотряс судорогами отравленный организм.
От пиршественного стола несло табачным перегаром. На соседней кровати насвистывал воспаленной губой Жевакин. Вдоль него робко вытянулась голая первокурсница.
Я отправился в душ. Мылся долго, страстно, как бы не только для себя. Когда я вернулся, первокурсницы уже не было, Жевакин выискивал на загаженном столе наиболее сохранившийся бычок. Я покопался в своем бельишке и, достав самые приличные на вид носки, сел их штопать. Жевакин вяло поинтересовался, что это со мной, не собираюсь ли я их еще и постирать. И не только носки, пообещал я. Понимаю, не самая аппетитная деталь, но что поделать, если это лыко в строку.
На Киевском вокзале меня застал кинематографический снегопад, равномерный, густой, из отобранных особей. Плюс огромное количество огней, людей. В целом составилась суета, соответствующая важности события.
Событием был мой отъезд.
Погрузившись в гулкий прохладный вагон, я оказался способен размышлять. Итак – муж. Забавно, что добродетельной Иветте не пришло в голову сообщить мне об этом раньше. Я никак не мог понять, каково мое отношение к этому факту. Попробовал считать себя обманутым. Не получалось. И потом, если женщина решила переспать со мной, то мое ли дело переживать по поводу ее матримониальных обстоятельств. Они у меня, кстати, у самого своеобычны, если уж на то пошло. Тронулся поезд, я хохотнул. Немногочисленные соседи подивились непосредственности моих реакций.
У меня же тоже была жена. Пускай фиктивная. Я представил себе свою благоверную Антонину Петровну – приземистый монумент, затянутый в монгольскую кожу, командный голос и выставка перстней на пухлых пальцах. Само мое существование выглядело фиктивным на фоне этой полновесной жизни. Кажется, можно разглядеть некое недоброжелательство в только что выданной характеристике. Разве точность равняется недоброжелательству? И потом, я не могу испытывать дурных чувств по отношению к человеку, забесплатно прописавшему меня в Москве. То, что она, может быть, собиралась с помощью моей мертвой души решить какие-то свои жилищные проблемы, не мое собачье дело. Равно как и то, где она изволит работать (заведует каким-то покойницким, по-моему, учреждением).