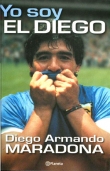Текст книги "Невольные каменщики. Белая рабыня"
Автор книги: Михаил Деревьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
– Не кричи, криком делу не поможешь.
Деревьев нервно захныкал.
– Да, да, да, теперь ты меня «уроешь», как обещал.
– Урою.
– Да ты что, опять нажрал… – но в трубке было уже пусто.
Громко и грязно выругавшись, Деревьев вернулся к себе в комнату и лег на тахту. Он собирался подумать о внезапно открывшихся странностях Тараса Медвидя, но оказалось, что мысль его уже не свободна, она уже соблазнена странным предложением холеного гиганта. И уже вовсю трудится в указанном направлении.
Надо отдать должное Ионе Александровичу, его система литературного рабства основана была на простой, то есть гениальной, идее. В самом деле, зачем разыскивать новые таланты, вкладывать громадные деньги в рекламу и ждать, когда эта работа даст отдачу? Можно использовать имена проверенные и вполне себя зарекомендовавшие. Берем голодного и писучего парня, и пусть он нам сварганит что-нибудь в манере Агаты Кристи, Рафаэля Сабатини или Роджера Желязны. Изданная соответствующим образом поделка выбрасывается на рынок, и прежде, чем кто-либо успеет сообразить, в чем дело, «улетает со свистом», принося немалую прибыль. Знаменитые тени дадут на время поносить свои имена работящему рабу. Их не убудет. Даже наоборот. Что касается профессионального уровня такой подпольной продукции, то здесь дело обстоит так же, как в торговле спиртным, – главное наклейка. Иона Александрович не будет, конечно, с этим суррогатом соваться на книжные выставки и в престижные магазины, хватит с него вокзальных лотков. Ведь и человек, покупающий у сомнительного киоскера бутылку разведенного мочою спирта, заботится о наличии градуса и навряд ли станет сетовать на отсутствие букета.
Подпольный же гений легко может себя оградить от опасности разоблачения. Никто его не заставляет имитировать неизвестные романы Набокова или Фолкнера. Его не должна интересовать мистификация в литературоведческом смысле. Только нажива, барыш и чистоган. А что касается уровня некоторых романов А. Кристи, Сабатини или любого из бесчисленных фэнтэзирующих американцев, смешно считать его недостижимым.
«Да, именно в нашей стране, – продолжал размышлять молодой писатель, – должна была возникнуть эта неожиданная мысль. Такие традиции литературного рабства. От „Малой Земли“ до заурядного и почти бесплатного переписывания в редакциях бесчисленных эпопей бесконечных аксакалов».
Раздался звонок. Сан Саныч слетал, послушал и отстучал в дверь:
– Вас.
Конечно, А Кристи плохой пример. Иди-ка сходу придумай хотя бы отдаленно детективный сюжет, когда тебя тошнит от любых детективов. Нет, придумать, конечно, можно. В принципе. Но трудно, овчинка выделки не стоит все-таки. Необходим жанр, менее защищенный от возможности безопасной профанации.
– Да, я слушаю.
– Это я, – хриплый голос Наташи.
– Я уже сказал – слушаю.
– Нам надо поговорить.
– Ты как сотрудник «Союзмультфильма» будешь со мной говорить? Или у тебя частный интерес?
– Частный.
– А по частным, равно как и по личным делам, я принимаю в конце года.
– Послушай… Так получается – ты спал со мной только потому, что я работала где-то…
– Ради бога, обличай меня поскорее.
– Ты всегда прячешься за фразами, за словами…
– Ладно, скажу тебе прямо: я негодяй, я цинично использовал тебя. Я альфонс.
Наташа помолчала.
– Можно я к тебе приеду?
– Ни в коем случае. Зря не веришь, что мне наплевать на то, как ты ко мне относишься.
– Я же не требую от тебя ничего. Я просто хочу сказать, раз у тебя все равно никого нет, раз ты никого не любишь – пусть даже меня, – давай я буду жить с тобой. Тихо, как мышка.
– Это невозможно.
– Почему?
Деревьев занервничал и стал растирать лицо свободной рукой.
– У меня появилась другая женщина. Я, кажется, к ней неравнодушен.
Наташа бросила трубку.
По дороге на тахту Деревьев завернул к своим размышлениям. Разумеется, не детектив. И не дневник, скажем, Берии. Наворотить всевозможных сексуальных зверств, тех, что погаже, не так уж трудно. Трудность в том, что нельзя будет совсем уж обойтись без какого-нибудь исторического фона. А для этого, по меньшей мере, придется перечитать что-нибудь по истории КПСС. Да и потом в данном случае никак не избежать определенного шума. Целая стая волкоголовых кинется по следу и не откажет себе в удовольствии самодовольно погорланить об успехах своей бдительности на всех газетных углах. А слава нам ни к чему. Фантастика тоже не годится. Тут уже, что называется, личное. «Переел» в детстве.
Тогда что, тогда что-нибудь в духе Сабатини. Именно Сабатини. Это имя всплыло в самом начале, на пару с Агатою Кристи, есть в этом неслучайность, есть в этом даже знак. Когда, например, выбираешь щенка, то из всего помета надо брать того, что сразу пошел к тебе на ручки.
И Деревьев рухнул на тахту.
Ближайшие три дня он пролежал на этой безногой доходяге или просидел на своем вертящемся стуле у кое-как расчищенного стола. Он сам не ожидал от себя, что сможет так увлечься столь заказной работой. Почти не отрывался от нее. Даже не выходил в магазин за продуктами. Из экзотических объедков удалось сварганить два обеда и три ужина. Единственно, кто отвлекал его от дела, – это телефон. Сузив канал общения с миром до сечения телефонного провода, Деревьев претерпевал тем не менее целое нашествие. В окружающем мире вдруг возбудился острый к нему интерес. К такому прежде ненужному и незаметному. Это наводило Деревьева на мысль, что он оказался в точке пространства-времени, обладающей сверхнормальными свойствами. Такие размышления работали на образ Ионы Александровича. Его предложение не становилось менее фантастическим, но менялся статус фантастического в мире.
В тот момент, когда Деревьеву пришло в голову название новой книги Рафаэля Сабатини – «Илиада капитана Блада» – и он восхищенно крутнулся в кресле, возгоняя себя на максимально доступную высоту, позвонил Модест Матвеевич. С извинениями. Молодой друг режиссера не столько вслушивался в смысл слов, произносимых им, сколько пытался отыскать в них признаки сумасшествия. Режиссер говорил долго, но ни разу не «проговорился». И попросил позволения позванивать время от времени. Отказать ему было бы и бесчеловечно, и неприлично. Деревьев разрешил, не зная, на что себя обрекает.
Ну так что – «Илиада»? И звучно, и, главное, привычно для читательского слуха. Из названия следует, что события этой новой книги должны по времени предшествовать событиям, описанным в «Одиссее» того же капитана. И в ней должно быть нечто напоминающее долгую осаду некоей крепости. В крепости должна быть женщина. Не слишком ли много предварительных условий диктует звучное название? Впрочем, следует попытаться превратить неизбежные ограничения в своего рода фундамент. Как архитектор поступает с законами геометрии.
Наконец-то вот он, лист бумаги, летящее к нему перо. «В белом плаще с кровавым подбоем…» То есть —
«В черной шляпе с красным плюмажем, придерживая отделанные серебром ножны, Питер Блад поднялся на шкафут. Он посмотрел туда, где величественно разворачивался большой трехпалубный корабль. Золотая скульптура на его носу сверкала в солнечных лучах. В синих глазах капитана возникли иронические искры.
– Положи руль к ветру, Джереми, – скомандовал он негромко».
– Поймите меня правильно, мой юный друг, эти часы, проведенные вами в моем уединенном убежище и мною в вашем обществе, навсегда – слышите, навсегда! – останутся со мной. О, так я ценю эту дружбу. Представьте, о, только представьте – живописные дали и долы, уютное убежище отшельника и романтика, да, черт возьми, да, и романтика, и вы читаете вашу трагедию, вашу драму; создание вашего, если хотите, ума… Я в слезах, я потрясен, я плачу, и я ваш. Но молчи, грусть, молчи.
«Борт вражеского судна окутался дымом, у носа „Арабеллы“ поднялись водяные фонтаны. Одно ядро продырявило фальшборт неподалеку от полубака. Сверху на кватердек посыпались обломки такелажа.
– Следующим залпом они накроют нас, Питер, – сказал штурман Питт, стараясь выглядеть спокойным.
– Не успеют, – ответил капитан, застегивая кирасу. Подойдя к перилам, он крикнул: – Волверстон, крючья!
Повернувшись к штурману, он…»
– Теперь я объясню тебе, почему я должен тебя урыть. Ведь должен, а? Ну, по правде, а?
– Послушай, Медвидь, проспись, потом поговорим.
– Переходишь на личность и на фамилию?
– Все, пока, у меня тут срочная работа.
– Все-таки надо мне к тебе приехать. На-адо.
«Побросавших мушкеты испанцев согнали в трюм. Переступая через обломки рей и многочисленные трупы, постукивая себя острием шпаги по голенищу высокого сапога, Блад подошел к человеку в растерзанном окровавленном камзоле, сидевшему спиной к грот-мачте. Над ним возвышались два корсара с обнаженными абордажными саблями. Еще выше хлопали изодранные паруса.
– Дон Мануэль де Амонтильядо, – сказал капитан Блад и церемонно поклонился, – однажды я вас уже предупреждал – не пытайтесь подтасовывать карты, когда играете со мной.
Испанец под пронзительным взглядом ирландца опустил голову и тихо сказал:
– Напрасно ваши люди обшаривают корабль. Все деньги находятся на „Эскориале“.
– Вы считаете, я взял вас на абордаж только для того, чтобы узнать то, что мне и так известно?
Дон Мануэль вздохнул и поморщился.
– Я хочу знать, где Елена? Напрасно вы испытываете мое терпение. В конце концов испанский сапог развяжет язык испанскому кабальеро.
– У вас репутация человека, избегающего таких приемов в достижении цели, – прохрипел дон Мануэль.
– Вы сами поставили меня в безвыходное положение своими хитростями.
– Она в крепости, – испанец тяжело вздохнул, – неподалеку от Санта Каталаны. Но это неприступное место. И сил там больше, чем у вас. Как минимум втрое.
– В Трое?»
– Ты извини, мне, конечно, не нужно было тебе звонить.
– Вот именно.
– Но я подумала, что наш разговор не закончен. Что-то внутри мне подсказывает…
– У тебя начинается раздвоение личности.
– Ты можешь оскорблять меня сколько тебе угодно.
– У меня нет времени для выдумывания оскорблений.
Вернувшись к столу, Деревьев зачеркнул последнюю строчку первой главы. Игра со словом «втрое» здесь совершенно неуместна. Пожалуй, не годится, чтобы английский корсар второй половины 17-го века каламбурил, как московский студент. Причем каламбурил по-русски. Деревьев пробежал только что составленный текст с самого начала. Написано было твердо, без единой помарки. Написано динамично, можно даже сказать, убедительно. Нет никаких оснований, чтобы старинные поклонники не признали своего любимого героя. Некоторое сомнение вызывало употребление специальных мореходных слов, таких, как такелаж, фальшборт и особенно шкафут. Писатель поколебался – не заглянуть ли в словарь, и тут же Дал себе слово впредь обходиться только тем запасом знаний и сведений, который находился в голове к началу работы. Погоня за точностью деталей лишена в данном случае смысла. Никто все равно не оценит. И потом, следует думать, что огромное большинство читателей разбирается в тонкостях устройства парусных судов времен королевы Елизаветы, по крайней мере, не лучше автора. Что же касается знатоков, то тьфу на них.
Что ж, теперь все ясно с завязкой. Красавица Елена заперта в этой самой Санта Каталане. Деревьев занес перо над сомнительно лоснящимся топонимом. Нет, ничего менять нельзя, это будет нарушением только что принятого кодекса литературного рабства. Снобский вкус не должен совать сюда свой брезгливый нос.
И в этот момент раздался звонок в дверь. Был третий день работы. Деревьев уже в известной степени смирился со странностью своего положения… Как будто находился в очень слабом растворе какого-то наркотика. Поэтому грубое вторжение его просто взбесило. Деревьев выпрыгнул из кресла и бросился к двери, опережая Сан Саныча. Он был уверен, что это приехал Медвидь с лопатой.
– Уроешь, да? Ну давай, дорогой, давай, – бормотал писатель, набегая на дверь. Сдернул цепочку, лязгнул замком, рванул на себя дверь. Никого.
Не совсем так. Перед дверью сидел черный пудель. Он игриво наклонил голову сверкнул круглыми глазами. В зубах он держал полиэтиленовый пакетик.
Деревьев вышел на площадку и стал осматриваться в поисках людей, которые могли бы дать объяснения.
Пудель поцокал коготками по кафелю, поскулил, потом открыл пасть, и конверт шлепнулся на пол.
– Что это? – строго спросил у него писатель. В ответ пес коротко тявкнул и весело запрыгал вниз по лестнице. Деревьев еще раз огляделся. На площадке было светло, тихо и скучно. Клетка лифта, сводчатое окно, двери соседней квартиры, окрашенные зеленой краской стены. Окурок в углу. Все выглядело на редкость реально, однозначно. Деревьев наклонился и поднял мокрый собачий подарок. Развернул и обнаружил там пятьдесят тысяч рублей – сумма нечитайловского аванса. Вместо того чтобы испытать законное чувство удовлетворения ввиду столь картинно свершившейся справедливости, писатель поежился, остро почувствовав скрытую в глубине окружающей материи зыбкость. Очень может быть, что это чувство было всего лишь частью его неврастении, а отнюдь не приведенным свойством вещества, но Деревьеву стало так неуютно, что он торопливо вернулся в квартиру.
В пакете пуделя нашлось еще письмо «Империала» с извинениями. Стало быть, собака объяснялась легко. Была даже своего рода художественная логика в том, что существо, занимавшее столько места в его переговорах с Нечитайлой, вдруг материализовалось, причем таким изящным образом. Изобретательность и дрессировщицкие способности этого фарцовщика Нечитайлы вызвали у Деревьева некоторое даже уважение. А фигура Ионы Александровича громоздилась все возвышеннее и окутывалась туманом самой грозной непроницаемости.
В прихожей Деревьева встретил телефонный звонок. Нет, подумал писатель, с этой жизнью надо кончать. Он снял трубку, нажал на рычаг, отсекая кого-то из назойливых своих знакомых, и позвонил Дубровскому. Поэт был пьян, но, слава богу, вменяем.
– Помнется, кто-то у тебя сдавал квартиру.
– И все еще сдает.
– И сколько?
– Тридцатка.
– Беру.
– Ты?! – поэт на мгновение выпал из своего чадного состояния.
– Давай, давай, звони, договаривайся.
Переезд назначили на послезавтра. Деревьева это вполне устраивало. Через четыре дня подходил срок платы за комнату, и вместо того чтобы в очередной раз выбросить восемь тысяч терпеливому Сан Санычу за находящуюся под перекрестным огнем конуру, появлялась возможность приобрести за несколько большую плату квартиру не только отдельную, но и, главное, никому не известную. Как всякий глубоко непрактичный человек, Деревьев был очень горд тем, как ловко удалось ему соблюсти свой интерес.
За оставшиеся до переезда семьдесят два часа капитан Блад продвинулся очень далеко по просторам Карибского моря. Ему удалось собрать целое корсарское воинство на Тортуге и Кюрасао. И французские, и голландские, и, естественно, соплеменные каперы принуждены были присоединиться к пиратскому адмиралу. Добивался этого Питер Блад разными способами. Чаще всего – вступая в открытый поединок с очередным харизматическим лидером. И не обязательно шпага, знаменитая кровавая шпага решала исход дела. Одного из самых известных французских пиратов Гийома Фротте он превзошел по части сексуально-куртуазной изобретательности (сцена решающей оргии технически базировалась на собственном общежитском опыте, а стилистически – на «Тристане и Изольде»); голландский капер признал превосходство ирландца против замысловатого диспута о способах выращивания тюльпанов (спасибо статье из «Цветоводства», прочитанной как-то в очереди в парикмахерской).
И вот, когда громадный разношерстный флот, спаянный не столько даже «страхом, корыстью и жаждой крови», как это утверждалось в тексте, а в основном волею сочинителя, затерянного в пучинах бездарного будущего, показался в водах Большого Наветренного пролива, в дверь Деревьева снова постучался его титанический гость.
И опять он был таинственен, и опять был с мороза, и опять на его плечах была громадная запорошенная шуба. И опять Деревьев оробел.
Иона Александрович улыбался. По-моему, где-то выше уже говорилось, что улыбка его была сложной. Даже если особенно не всматриваться в его лицо, становилось понятно, что за внешней гримасой надменного отношения к миру скрывается что-то другое, но очень мощное. То ли бесконечная печаль, то ли лютая злоба.
Сели. Хозяин на свою издыхающую тахту. Ее неустойчивость передавалась ему и выразилась в заискивающей позе. Гость накрыл полами кресло, превратившись в чудовищное существо на колесиках, в кабинетного кентавра. Сел, не произнеся ни слова, даже не поздоровавшись, и это не казалось ненормальным. Так вот, расстегнул он молча свой поразительный, как бы выточенный из куска антрацита дипломат, вынул оттуда книгу и протянул хозяину комнаты. Сначала Деревьев не понял, в чем тут дело, его предчувствие вознеслось на такую высоту, что в решающий момент проявило нелепую слепоту. Выручили руки. Присущий им автоматизм. Они не только приняли книгу, но и погладили верхнюю крышку, и тут, словно этим неосознанным движением была удалена некая пелена, Деревьев увидел: М. Деревьев. «Избранное». Вначале дрогнули руки, потом – тахта.
Иона Александрович улыбался лениво и победоносно. Он встал и отошел к вешалке, давая писателю побыть со своей первеницей один на один. Хотя бы несколько секунд.
– Сигнальный экземпляр. Должен перед вами извиниться. Не все из того, что было мною задумано и обещано, удалось осуществить. Сроки, сроки.
Писатель поднял книгу на вытянутых руках и прищурился, словно проверяя, не исчезнет ли она при определенных оптических условиях.
– Прошла всего неделя.
– Подставляйте свою бочку меда, сейчас я к вам с ложечкой-другою дегтя. Лучше вы все сразу узнаете от меня.
Иона Александрович снова сел в кресло и начал обмахиваться платком. Он посмотрел на заваленный исписанными листами стол.
– Работаю, – перехватил его взгляд писатель, – «Илиада капитана Блада».
– Что-что?
– Ну, была, если вы помните, «Одиссея капитана Блада», так вот, теперь будет его же «Илиада». Строчу день и ночь, страниц уже полтораста наберется.
– А вы… впрочем, поздравляю. Впечатляет. И идея… вполне.
Деревьев скромно пожал плечами, листая книжку.
– Но вернемся к моим извинениям. Не удалось, во-первых, вот что: человек, которому было заказано предисловие, – я хотел, чтобы все было с соблюдением принятых в подобных случаях правил, – в последний момент отказался. Несмотря на баснословный гонорар.
– Кто он?
– Доктор соответствующих наук. Человек вполне приличный. Фамилия его вам вряд ли что-нибудь скажет.
Писатель слушал невнимательно, он с осторожной жадностью расклеивал слипшиеся страницы. Движение, которым он это делал, выглядело очень эротично.
– Так вот, он позвонил в последний момент и заявил, что ни в коем случае не может быть автором предисловия к этой книге. Впрочем, он не знал, что в значительной степени срывает замысел. Я просил его написать максимально быстро, но об истинных темпах в известность не ставил.
– Да, темпы, это просто… – пропел автор.
Иона Александрович поднял руку, как оратор, утомленный овациями.
– Он зависимый от меня человек. Так что, если он отказался, значит, имел серьезные основания. Их еще предстоит выяснить.
– Конечно, – равнодушно согласился писатель, проверяя состояние позвоночника своей вокабулы; переплет издавал сдобный хруст.
– Знаете, Иона Александрович, мне даже немного приятно, что у вашего могущества есть хоть какие-то границы, – сказав так, Деревьев почувствовал, что гостю не совсем приятно и попытался исправить положение, – это придает вам человеческое измерение, как-то страшновато все время общаться со сверхчеловеком.
Смягчить свою мысль ему вряд ли удалось. Иона Александрович продолжал говорить, не обращая внимания на мелкие помехи.
– Отсутствие предисловия – главная неприятность. Но есть еще одна. Несколько в ином роде. Но она, я подчеркиваю, – продукт сознательного решения. Лично моего. Там у вас ближе к концу расположена пьеса «Невольные каменщики». Небольшая такая.
Пальцы Деревьева тут же стали нашаривать нужное место в приятной толще.
– Да, правильно, вот пьеса. Действующие лица Фил и Фоб, но…
– Вот именно, кое-что я решил там изменить. Строго говоря, всего лишь одно слово. Причем руководствовался я при этом вашими интересами.
– Но погодите, – Деревьев, выпучив глаза, тыкал в книгу, переворачивая страницы, морщился.
– Да, да, да, – мягко, но непререкаемо сказал Иона Александрович. – Я сделал это, все взвесив и полностью разобравшись в вашем замысле. Кстати, чтение меня развлекло.
– Но поймите, все тогда теряет смысл. Ну представьте себе… Ну вот, два человека по пьянке заспорили на любимую российскую тему – о еврейском вопросе. Один из них, стало быть, ИудоФил, другой, естественно, ИудоФоб. Тема их так увлекла, что они подрались и угодили на пятнадцать суток…
– Я читал пьесу.
– …суток. И вот они утром, вывезенные на общественно полезные работы, кладут себе кирпичную стенку, отсюда и название – невольные каменщики…
– Вы зря думаете, что я всего этого не понял, – издатель достал щипчики и занялся своими ногтями. Возбуждение писателя его оставило равнодушным.
– Так вот, кладут они кладут, вяло переругиваясь и вспоминая вчерашние аргументы. Стена все выше и Выше, наконец их голоса доносятся как бы из склепа. Бессмыслица окончательно монументализирована.
– Я уже сказал – пьеса мною прочитана.
– Так вы представьте себе, Иона Александрович, что в этой ситуации речь пойдет не о евреях, а о каком-то малоизвестном, хуже того – несуществующем народе.
– Абсолютно несуществующем, – охотно заверил издатель.
– Кто это будет читать или слушать, если дойдет до постановки?! – горестно и саркастически воскликнул Деревьев.
Громко щелкая щипчиками, издатель молчал. Деревьев спросил с трагическим ехидством в голосе:
– Вы, может быть, боитесь скандала, шума какого-нибудь вокруг этого, – Деревьев описал возмущенным пальцем петлю вокруг книги.
– Что вы имеете в виду? – зевнул Иона Александрович.
– Да то, что вы зря испугались неприятностей в связи с антисемитизмом или чем-то таким похожим. Ведь вы говорите, что читали пьесу?
– Читал.
– Но тогда вы не могли не обратить внимания, что произведение это ни в коем случае не антисемитское, равно как, впрочем, и не наоборот. Неужели не видно, что автор издевается, хохочет над всем над этим? Идея любого, всякого национализма автору этому противна. Извините, что у меня такое лицо, всегда кривится так, когда приходится произносить подобные банальности. Так вот, ни одной, самой крохотной, капли ксенофобии никогда у меня не было. Я космополит в самом широком смысле этого слова. Что люди, в детстве у меня не было отвращения даже к змеям, крысам и лягушкам, то есть ко всему тому, что высшая сила старается скрыть от глаз человека.
– Успокойтесь.
– Неужели, неужели, Иона Александрович, вы не почувствовали запредельного идиотизма этой похмельной разборки на стройплощадке? Ну скажите, разве можно вот это написать всерьез, – Деревьев нервно перелистнул страницу: – «Фил: Скажи мне, Фоб, где ты видал, чтоб иудей детей едал?» Или вот эта полемика: «Фоб: Они споили динозавров. Фил: Они же создали Луну». А сделано это все для того, чтобы дать всю эту бредятину в предельных формах, поэтому я взял евреев. И даже не евреев, а иудеев. Я выбрал это слово, чтобы поставить вопрос как бы на котурны. Это придает каждой речевой ситуации дополнительный отблеск высокородного идиотизма.
Речь писателя оборвалась, превратившись в чистое отчаяние, Иона Александрович прервал маникюрные упражнения.
– А я по-прежнему стою на той точке зрения, что стало лучше.
– Выпущена, вы понимаете, выпущена вся кровь. Был олень, стала говядина.
– Оленина.
– Да-а, – отчаянный жест рукой.
– Вы поставили перед собой высокую задачу – высмеять всякие и всяческие манипуляции с понятием «кровь». Кстати, кровь по-английски – блад. Н-да.
Деревьев неприязненно хмыкнул.
– Так вот, тему вы наметили, задачу, так сказать, поставили – извините за казенный стиль, – зачем же затемнять все выбором столь взрывоопасного материала? Никто не будет пытаться понять вашей очень даже, может быть, изящной и честной идеи, а просто начнут непристойно гоготать – это те, кто погрубее, или растаскивать на фразы – кто поинтеллигентнее.
– Не надо упрощать.
– Ничуть не упрощаю. Просто так человек устроен. Если вы даже «Три сестры» поставите таким образом, что сестры у вас будут выходить на сцену голыми, то никто не станет слушать бессмертного чеховского текста, основное внимание будет уделено… ну, сами знаете чему. Вы согласны со мной?
Деревьев пожал плечами.
– Да что я, действительно, – кто платит деньги, тот и заказывает музыку.
– Кроме того, если честно, пиэса эта стоит как бы особняком на обочине вашего творчества. Все прочее, вами написанное, посвящено, если обобщить, проблеме времени, солидной такой, фундаментальной проблемище. Нигде больше вы не опускаетесь до копания в этнической тине.
– Напрасно вы говорите со мной как с душевнобольным.
Иона Александрович развел громадными руками.
Деревьев продолжал машинально взвешивать на руке толстый, богато заляпанный золотом том. Чувствовалось, что удовлетворение постепенно перетягивает высказанную горечь.
– Просто, понимаете ли, Иона Александрович, хотелось раз и навсегда расплеваться с этим… с этой темой. В конечном счете, эти «Невольные каменщики» – всего лишь шалость, правда, мне казалось, сделанная не без изящества и хорошо настоянного яда. Но раз не получилось, пусть не получилось. Пусть на том месте, где должна была быть эта «пиэса», будет большое пятно бессмыслицы.
Издатель снова развел руками, примирительно и понимающе кивая.
– Только вот знаете еще что, – вдруг хихикнул писатель, – название несуществующего этого народа надо было сделать поярче, а то что это такое – «еидуи», а? Вязнет в зубах. И, ей-богу, невозможно представить, что может быть народ с таким названием.
– Знаете, я буквалист по природе и, даже навязывая свою волю, не захотел идти дальше анаграмматического превращена вашего слова.
– Е-и-ду-и, – произнес Деревьев, брезгливо смакуя слово. – Бред!
– В данном случае этому надо радоваться.
Раздался стук в дверь. Осторожный, негромкий. Появился Жевакин. Войдя, он остался стоять у двери, тиская в руках свою вязаную шапку. Пробормотал что-то вроде: по вашему приказанию явился. Деревьев отправился в туалет. Когда шага его завернули за угол, Иона Александрович сказал:
– Я тебя должен наказать, Владимир.
– Петрович, – автоматически отозвался Жевакин. Но из тона Ионы Александровича совсем не следовало, что он собирается отнестись к своему помощнику столь церемонно, и Жевакин смешался.
– Так вот Владимир… Петрович, я сейчас в течение получаса придумывал, откуда могли появиться в книге писателя Михаила Деревьева эти…
– Еидуи, – подсказал Жевакин.
– Еще одна такая опечатка, и пойдешь в сторожа, понял? Понятие «опечатка» я предлагаю понимать расширительно.
Провинившийся страстно прижал свою шапку к груди, и на лице его выразилась готовность «ноги мыть и воду пить».
– Надо было все валить на меня, Иона Александрович.
Шеф грузно вздохнул и поморщился.
– В настоящее время мне нужно произвести на твоего соученика (он произнес это слово так, что могло послышаться «сученка») определенное впечатление. В моей фирме не могут случаться подобные «опечатки», понял?
– Очень уж спешка, Иона Александрович…
– Поэтому пришлось придумать хоть и сложное, но убедительное, на его взгляд, объяснение.
В комнату вернулся Деревьев, он вытирал руки о штаны и загадочно улыбался.
Иона Александрович встал, явно собираясь уходить.
– Вы знаете что, – обратился к нему писатель, – я хотел бы попросить у вас извинения за свою горячность. Я сейчас там, в туалете, очень сам себе удивлялся.
– Чем же вы там занимались?
– Нет-нет, вы, конечно, остроумно, но я о другом. Ведь если меня в самом деле очень мало интересуют какие бы то ни было национальные проблемы, меня ни в коем случае не должно было задеть то, что вы сочли нужным сделать с моей пьесой. Ведь я хотел сделать тему межэтнических противоречий абсолютной бессмыслицей и думал, что мне это удалось, но вы превзошли меня. Вы не только тему, но и саму пьесу превратили в абсурд. И таким образом, вы меня вернули в прошлое, в «до момента», когда я начал работать над ней. Вы совершили гениальный финт, я нисколько не шучу, – замахал руками писатель, заметив, что лицо огромного друга вытягивается, – вы, кажется, действительно специалист по своеобразным путешествиям во времени. Жаль только, что не все тексты можно подобным образом «переписать». Ведь согласитесь – я немного пофантазирую, – если речь библейского змея (извините этот приступ неуправляемого творческого зуда) можно было бы таким или пусть даже в тысячу раз более тонким образом видоизменить, то Ева бы его не поняла и мы сейчас жили бы все еще в раю. Я, может быть, выражаюсь путано и даже диковато, но какая-то рациональная крупица тут поблескивает, правда? Тут лучше бы подошел какой-нибудь образ. Вот если заразить мировой смысл неким вирусом и заставить его болеть навстречу, ну знаете, как лосось против течения, – это ведь он против закона всемирного тяготения прет, и добивается, и нерестится где хочет, собака… – Деревьев остановился и обвел взглядом лица присутствующих. Следов ответного горения в обмен на его зажигательную мысль видно не было.
– Собственно, нам пора. Осталось только уточнить, когда мы можем ждать вас с вашей «Илиадой»…
– Недели через две. Потом еще перепечатка…
– А вы пишите сразу на машинке.
Иона Александрович медленно застегнул пальто, в лице его появилась отрешенность и высокомерие. Он смотрел на писателя подчеркнуто сверху вниз.
– Больше мы с вами, вероятнее всего, не увидимся. Связь будете поддерживать с Владимиром Петровичем.
До писателя смысл этих слов дошел не сразу. Иона Александрович успел величественно покинуть комнату. Жевакин сунул в руку старому другу конверт с купюрами и последовал за хозяином.
Накануне переезда, укладывая и увязывая свои пожитки, Деревьев хотел было навсегда избавиться от части своих многочисленных, вечно расползающихся черновиков. Остановил его, как ни странно, мельком брошенный когда-то совет Ионы Александровича: относиться к черновикам как можно бережнее. Деревьев уже даже втайне не надеялся, что ему когда-то что-то удастся соорудить из этих пыльных бумажных развалин, но авторитет издателя был в его глазах так велик, что он не мог не последовать его совету хотя бы частично. Присовокупив к рукописям две пачки самых ненужных книг, он уговорил Сан Саныча (при помощи тысячерублевой банкноты) предоставить им временное убежище на тумбочке в темном, пахнущем прокисшей обувью углу коридора. И избавился, и не выбросил.