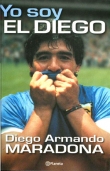Текст книги "Невольные каменщики. Белая рабыня"
Автор книги: Михаил Деревьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц)
Квартира как квартира. Однокомнатная, более-менее меблированная. Единственный недостаток – отсутствие телефона – в глазах нового жильца выглядел как раз достоинством. Дубровский, конечно, пообещал бы никому номера не сообщать, но обещания по слабости характера не сдержал бы. Об этом удовлетворенно думал новый хозяин, рассовывая вещички. Слава богу, кочевая жизнь не позволяла обрасти имуществом, обустройство на новом месте прошло почти мгновенно. Дальше что же? Надо обмыть событие. Деревьев с удовольствием избежал бы этого. «Илиада» и только «Илиада» была у него в голове. Но лучший друг уже уселся на табурет посреди кухни и всем своим видом выказывал справедливое ожидание. Скажем, Жевакин в этой ситуации решительно и грубо заявил бы чего и сколько он желает выпить. Дубровский вел себя деликатнее и тоньше, но отказать ему было так же невозможно.
Деревьев решил, одеваясь, раз уж все равно не избежать ненужной пьянки, надо удивить «старика» – на один вечер сделаться Ионой Александровичем и устроить небольшое алкогольное шоу. Разумеется, переплюнуть возможности издателя писателю трудно, но когда Деревьев укладывал свои покупки в сумку, зрелище получилось впечатляющее. Тут за его спиной раздался громкий женский голос:
– Какая встреча!
Внутренне побледнев, как сказано где-то у Диккенса, Деревьев обернулся. Перед ним стояла его законная жена. Конечно, он растерялся. У него было такое чувство, что его застали на месте преступления. Антонина Петровна смотрела на него так, будто видела насквозь. В ее улыбке было больше превосходства, чем удивления. Она была по-прежнему моложава, крепка, свежа, все добротные женские свойства с годами в ней как бы «настоялись». Она очень уютно себя чувствовала в длинном пуховике, круглые ясные глаза убедительно смотрели из-под роскошной меховой шапки.
– Откуда ты здесь взялся?
– Живу. Теперь. – Деревьев кивнул в сторону двенадцатиэтажки, из которой только что прибежал.
– Ну что ж, соседи мы, – Антонина Петровна махнула тонкой кожаной перчаткой на соседнюю. Над ней как раз кружились и орали вороны. – Года четыре уже как разменялась.
Деревьев понемногу приходил в себя.
– Бывают странные сближения, – буркнул он, продолжая складывать добычу в сумку.
Антонина Петровна внимательно взвесила взглядом каждую покупку, и в мозгу у нее сама собой составилась соответствующая сумма. При этом она не могла не видеть, что «муж» ее одет все в то же затрапезное пальтишко, в котором когда-то вступал с нею в брачный сговор против правительства. Брюки с пузырями на коленях. Геологические соляные разводы на башмаках.
– А работаешь ты все там же? – спросил муж, стараясь придать голосу независимое, но заинтересованное звучание. Вышло фальшиво.
Антонина Петровна ответила подробно и охотно. Прежнюю работу она бросила, «на те деньги теперь не прожить», и теперь «крутится на фирме». Было видно, что она с удовольствием сообщит, какие деньги она зарабатывает сейчас. Но муж мстительно не спросил.
Не сговариваясь, муж и жена двинулись с места и пошли в сторону от магазина, обмениваясь более-менее случайными фразами. В том месте, где пути их естественным образом расходились, жена спросила:
– Не пора ли нам оформить наши отношения, а?
– Что ты имеешь в виду? Ах да!
– Ты куда-то пропал, теперь вот, слава богу, нашелся. Ты вон в том доме живешь?
– Да, в белом.
– Я еще женщина не старая. Как видишь. Могу еще свою судьбу устроить.
– О чем речь.
– Ну так как?
– Конечно, разведемся.
Антонина Петровна полезла в свою сумочку и достала оттуда – Деревьев долго не мог поверить своим глазам – визитку.
– Позвони мне, ладно? И не тяни, хорошо?
– У меня нет телефона… В том смысле, что я с улицы звякну.
– Вот и отлично.
Отойдя шагов на пять, Антонина Петровна остановилась и обернулась к продолжавшему стоять неподвижно писателю.
– Да, – ты знаешь, мне звонила Нелька, ну эта, со старой квартиры, хромая. Тебя там вчера спрашивали.
– Спрашивали меня?
– Два каких-то мужика. Черные, но такие, интеллигентные.
– Ошибка, – усмехнулся Деревьев, – среди моих знакомых лиц кавказской национальности нет.
Дубровский от вида дружеских подношений остолбенел. И, как всегда в минуту сильных душевных переживаний, стал сильно похож на изваяния острова Пасхи. Вытянутая, базальтового цвета физиономия, запавшие до полной невидимости глаза. Многозначительно-бессмысленное молчание.
От природы Дубровский был опаслив. Приступы непонятной щедрости, откуда бы они ни исходили, вызывали у него в первую очередь тревогу. И потом, размеры благодарности слишком превосходили размеры оказанной услуги. Дубровский решил компенсировать Деревьеву его траты. У него для этого был только один единственный способ. Он считал себя – и считался в кругу общих знакомых – значительно более талантливым стихотворцем, чем Деревьев, и поэтому он весь вечер цитировал к месту и не к месту поэтические произведения щедрого прозаика Деревьева. Дубровский редко запоминал стихотворение целиком, но если уж что-то западало ему в память, то навсегда, как пчела в янтарь. Причем, как правило, это было самое интересное и ценное в данном стихотворении. И читал замечательно, без аффектации, которая так же неуместна при чтении стихов, как, например, вопли хирурга при прикосновении скальпеля ко внутренностям больного. Под стихи и напились.
Чтобы избежать утреннего продолжения деревьевских чтений, пришлось дать Дубровскому денег на такси для форсирования ночной Москвы.
За окном еще было темно, а начинающий литературный раб, приняв контрастный душ, уже сидел за столом. Он решил последовать совету хозяина и, отринув шариковую ручку, которой слишком доверял в своей прошлой творческой жизни, напрямую соединился с пишущей машинкой. Работа загрохотала у него в руках.
На семьдесят первой странице флаг капитана Блада наконец появился на рейде бухты Санта Каталаны. На ультиматум о выдаче Елены Бильверсток испанцы ответили гордым отказом. Как и ожидалось. Последовала бомбардировка внешнего форта Эспаньол, защищавшего вход в бухту. Под прикрытием бомбардировки полторы тысячи английских и голландских пиратов, французских охотников и лесорубов, гаитянских мулатов высадились на берег вместе с двумя десятками осадных орудий. Испанцы сделали отчаянную вылазку, но были после кровопролитной стычки отброшены. Потянулись долгие дни осады. Перестрелки, ночные диверсии. Во время одной из них гиганту Волверстону испанской пулей был выбит второй глаз. Слава богу, он остался цел. Пуля вылетела на волю через височную кость. Гигант не пожелал покидать лагерь, хотя у него была такая возможность. Он сказал, что хочет присутствовать при столь великом событии, как взятие Санта Каталаны.
С этого момента способ повествования усложняется. Причем непроизвольно. Джереми Питт становится глазами Волверстона, и бóльшая часть текста представляет собой рассказы штурмана жадно внимающему морскому вожу. Тот запоминает их наизусть и начинает распевать, тут же, по ходу дела придумывая незамысловатую музыку.
Деревьев осознал появление этого приема в тексте романа только страниц через двадцать и, естественно, переделывать ничего не стал.
Обороной крепости руководит дон Мигель де Унамуно, высокородный кастильский кабальеро. Его сын Пабло, очень горячий юноша, влюбляется в похищенную Елену и вследствие этого ищет личной встречи с капитаном Бладом. В поединке во время одной из вылазок он убивает Жан-Клода Килли, командира французского отрада.
Между тем появляется известие о том, что к Санта Каталане направляется огромная испанская эскадра, и таким образом осаждающие сами оказываются в роли осажденных. Они сдавлены с двух сторон. С одной – стенам крепости, а с другой – пиками и багинетами испанской пехоты. В лагере пиратов поселяется уныние.
События в крепости не стоят на месте. Пабло де Унамуно страстно, но безуспешно добивается взаимности Елены Бильверсток. Она защищена словом дона Мигеля и дружбой его дочери Аранты от безумств пожираемого страстью юноши. Описанию дружбы двух девушек посвящено несколько проникновенных страниц.
Пиратам грозит капитуляция, которая равняется для них виселице. Понимая это, капитан Блад решается на дьявольски хитрый ход. Он разыгрывает бунт среди подчиненных ему англичан и под предлогом спасения своей жизни от мести соратников переходит на сторону Мигеля де Унамуно. Он сообщает, что во главе испанской эскадры, прибывшей для обороны крепости, стоит дон Мануэль де Амонтильядо, страстно влюбленный все в ту же плененную Елену. Пабло понимает, что красавицей овладеет тот, кто победит армию пиратов, поскольку будет хозяином положения и ему никто не посмеет воспротивиться. Капитан, понявший переживания юноши, предлагает ему хитроумный, построенный на знании всех деталей устройства корсарского лагеря план. План настолько хорош, что не может быть ни малейших сомнений в успехе дела. Взамен он требует Елену. Она, кстати, присутствует при этом торге, равно как и Аранта. Услышав, что знаменитый своим благородством ирландец унизился до предательства, она бросает ему в лицо слова презрения. Пабло соглашается с предложением Блада, разумеется, притворно, рассчитывая после победы взять свое слово обратно. Он понимает, что другого пути у него нет. Ему достается от Елены, потрясенной его низостью. Сестра тоже не сдерживает своих эмоций. Девушки удаляются. Дон Мигель, хваченный апоплексическим ударом в самый разгар омерзительного торга, наконец обретает подобие дара речи, но по приказанию Пабло его, хрипящего и проклинающего всех, уносят.
Пабло де Унамуно и дон Педро Сангре (так испанцы зовут пиратского перебежчика) приступают к осуществлению своего коварного плана. Последние окончательные детали, пароли, условные сигналы капитан Блад, разумеется, держит в тайне, чтобы не потерять влияния на юношу. Глубокой тропической ночью защитники города выходят за городские стены и продвигаются к условленному месту. Пикантность ситуации и истинное лицо замысла капитана Блада заключается в том, что навстречу защитникам города от побережья к тому же самому условленному месту движется армия дона Мануэля де Амонтильядо, потому что накануне его склонил к этому помощник Блада, капитан Хагторп, также выдавший себя за перебежчика. Снедаемый страстью кастилец поверил ему. Он тоже прекрасно понимает, что только победа над пиратами даст ему возможность взять Елену Бильверсток себе.
Пираты, разумеется, обо всем предупрежденные, скрываются в пещерах старинной каменоломни, расположенной как раз под их лагерем. Наступает нужный момент, Блад и Хагторп подают друг другу условные сигналы, и мгновенно темнота взрывается выстрелами, бранью и воплями отчаяния. Взаимоистребление двух испанских армий началось. Когда силы бессмысленной ярости начали иссякать, ведомые Оглом, Дайком и Ван дер Спуном джентльмены удачи «проступили» из-под земли, как армия ада, и вонзились в смешавшиеся испанские ряды, доведя их до умоисступления внезапностью своего нападения.
Теперь нужен был финал. Деревьев сбегал на кухню и, шумно всасывая воду из чайника, вдруг обнаружил, что за окном начинается весна. Черные проплешины среди снежных полей между домами. Что-то неуловимое появилось в воздухе. Ветки голых деревьев торчали не так безжизненно, как еще неделю назад, когда капитан Блад, сверкая синими глазами из-под полы своей черной, украшенной красным плюмажем шляпы, смотрел на тающий в утренней дымке город, где суждено было разбиться его сердцу. «Именно!» – внутренне воскликнул писатель. Хеппи энда не будет.
Когда пираты вошли в город, хитроумный ирландец предложил пленному юнцу Пабло де Унамуно в честном поединке решить, кому должна принадлежать Елена Бильверсток. Ему необходимо было вернуться в пределы рыцарского образа, чтобы вернуться в сердце красавицы. Испанскую армию он победил хитростью, женщину он собирался победить благородством. Он сразился бы и с доном Мануэлем, если бы тот не погиб в ночном сражении. Погибли также Хагторп и Питт, старинные друзья капитана. Слепой гигант Волверстон, прослышав о затевавшемся поединке, устроился со своими самодельными цымбалами на ступеньках башни, в которой заперлись Елена и Аранта. Наблюдая слепыми глазами за яростным поединком, запел песню, выражая восхищение мужеством бойцов. И огромная толпа пиратов, сгрудившихся вокруг места сражения, подпевала ему, больше веря поэтическому слову, чем даже собственным глазам.
Поединок получился длинным. Капитан дал ранить себя несколько раз, дабы его схватка с юным Пабло де Унамуно не выглядела легкой прогулкой. Но в конце концов ирландец проткнул соперника и, отбросив окровавленную шпагу, направился к дверям башни и постучал в них, смиренно склонив голову. И в этот момент произошло то, чего никто не мог ожидать. Обе девушки, обнявшись, бросились сверху прямо на вымощенную камнем площадь. И погибли, не разжимая объятий.
Перевернув пухлую рукопись «лицом» вверх, Деревьев начал выправлять опечатки. Дошел до третьей страницы и бросил. В этом не было никакого смысла. В фирме Ионы Александровича, судя по оперативности, с какой было сработано «Избранное», полным-полно корректоров, редакторов и всего прочего в том же роде. Чисто писательская часть работы сделана, а вычитать – вычитают. Мысль о том, чтобы еще раз войти в мир подвигов капитана Блада, вызвала у писателя нестерпимое отвращение. Сложив все триста страниц в картонную папку с жирно написанным и жирно зачеркнутым словом «Самотек», писатель вышел на улицу и направился к ближайшему телефону-автомату. Его слегка пошатывало от весеннего ветерка, авитаминоза и волнения.
Трубку долго никто не снимал. Волнение усилилось. В висках стучала безработная кровь, она еще не успела привыкнуть к тому, что в мозгу ничего не происходит, и носилась просто так. Напрасно Деревьев себя убеждал, что оснований для таких нервов нет. В худшем случае, его обманули, разыграли. Но если учесть все эти ликеры, девочек, дачи и тысячи, то пусть даже и разыграли.
Монета провалилась.
– А, привет, – сказал Жевакин сонно.
– Я сделал, – сообщил Деревьев со всей возможной сдержанностью.
– В каком смысле?
– Закончил я, перепечатал. Может, только опечатки, а так…
– Ничего себе, – неудержимый зевок. – Ладно, сейчас. Побудь у телефона. То есть перезвони через пару минут. Проконсультируюсь с начальством.
Второй пятнашки в кармане не оказалось. Пришлось плестись к «Универсаму». Там удалось добыть пару пятнашек. Когда вернулся – автомат был занят. Другого поблизости не было видно. Гражданин попался разговорчивый, так что повторно в кабину Деревьев попал минут через десять и услышал в трубке довольно нетерпеливого Иону Александровича.
– Где вы пропадали?
– Да просто… В общем, бежать я никуда не собирался.
– Это хорошо, – в голосе издателя было слышно раздражение, как если бы Деревьев нарушил его планы. – Итак, сегодня в семнадцать часов. Возле памятника Пушкину.
– На Пушкинской площади? – уточнил Деревьев и пожалел об этом.
– Вот именно. К вам подойдет такой невысокий и невероятно глупый негр. Вы передадите ему рукопись и получите от него то, что будет для вас доказательством серьезности нашего договора. Вы меня поняли?
– Да.
– Повторите.
Деревьев повторил.
– Прощайте.
После этого разговора волнение писателя рассеялось, но заменилось недоумением. Готовясь к встрече, он размышлял о двух вещах: о том, почему это так разнервничался всегда столь монументальный издатель, и еще о том, зачем нужен в этой и так ненормальной истории негр. Может быть, волнение Ионы Александровича как-то связано с глупостью высылаемого им курьера? Как бы он чего не напутал. Но тогда – почему бы не отправить за рукописью того же самого Жевакин а или какую-нибудь из тех бойких девчушек с дачи. Темновато как-то все. Кроме того, разве можно на взгляд определить глупость человека, хотя бы и черного. Или, может быть, здесь слово употреблено в переносном смысле? И имеется в виду именно Жевакин? Ростом он невысок, пробовал подвизаться в фирме Ионы Александровича в качестве литературного негра, но показал в этом деле полную глупость.
Придя домой, Деревьев обнаружил как раз звенящий будильник. Последнее время он ставил его на половину восьмого. Вот и объяснение нервности издателя – не привык он водить деловые разговоры в такую рань. А встречу назначил на вечер, чтобы успеть изготовить «доказательство»?
Поставив будильник на три часа, Деревьев лег спать.
Стоя спиной к Пушкину, готовясь к встрече с таинственным посланцем, писатель представлял себе все же нечто аллегорическое, изящное. Не зря же и сама встреча была назначена поблизости от единственного отечественного классика, имеющего негроидное происхождение… Все оказалось значительно проще. Ровно в семнадцать ноль-ноль откуда-то сбоку появился самый настоящий черный парень в кожаной куртке и джинсах. Улыбаясь скорее весело, чем глупо, он протянул Деревьеву продолговатый конверт размером чуть больше почтового и осторожно потянул к себе папку, которую тот держал под мышкой. Причем – все молча. Было что-то смутно неравноценное в предлагаемом обмене. Писатель инстинктивно продержал свое творение, такое пухлое, увесистое в сравнении этим письмецом. Негр, не переставая улыбаться, отпустил папку, открыл конверт, оказавшийся даже незапечатанным, и черно-желтыми пальцами вытащил из него несколько листков бумаги, сложенных поперек. Бумага была старая, подержанная на вид. Не выпуская папку, действуя в полторы руки, Деревьев листки эти развернул и начал читать.
«Звонок в этой квартире напоминал спившегося трагика: сначала рассеянно пошамкал, а потом разразился тирадой.
Увидев меня, Тарасик не удивился и не обрадовался. Я быстро скинул свое длинное лайковое пальто и достал из кейса бутылку итальянского вермута и пакет с бананами. И тут услыхал сочный женский хохот, доносившийся из сумрачных недр квартиры. Рядом с моим пальто оказалась роскошная белая дубленка с вышитыми по подолу красными и синими цветами. Поверх ниспадал богатый – не знаю породы – платок.
– Веткина одноклассница, – неохотно пояснил хозяин. Он вообще говорил только в тех случаях, когда без слов обойтись было нельзя.
– Однокла-ассница? – фатовски протянул я и, потирая руки, пошел внутрь квартиры, попирая темный панцирный паркет своими итальянскими, еще не вполне разношенными сапогами».
Деревьев потряс головой, потом зачем-то потряс бумаги, которые держал в руках. Огляделся. Вокруг обычная суета Пушкинской площади. Ни негра этого глупого, ни романа под мышкой. Но не это было самым интересным, а то, что текст на листах посеревшей бумаги, полученный в обмен на «Илиаду», был написан его, Михаила Деревьева, рукой. Безусловно и однозначно. Писатель был потрясен этим фактом, но до него еще не во всех деталях дошел смысл. Сразу, с первых строчек ощутив внутреннюю недостоверность, нарастающую поддельность текста, он не мог отделаться от крепнувшего и перемешанного с острым восторгом ужаса.
Автоматически следуя глубинному редакторскому инстинкту, он продолжил чтение.
«Она сидела вроде бы и удобно, но вместе с тем так, чтобы как можно меньше соприкасаться со здешней жизнью. Я имею в виду не только закопченную стену, изрезанную клеенку, запах горелого лука, но и более тонкие вещества. Она была слишком – вместе со своей улыбкой, отставленным пальчиком руки, державшей разорванное великолепными зубами пирожное, со своим сиренево-серым, бешено дорогам свитером, с подкравшимся к моим ноздрям вызывающе благородным запахом – не от мира сего. Употребляю этот затхлый поэтизм не в привычном смысле, конечно. Ничего небесного, воздушного, романтического в ней не было. Она представляла на этой романтической кухне мир других материальных качеств. Мир великолепно выделанных кож, тщательно спряденной шерсти, шампуней, одушевляющих волосы, велюровых кресел и настоящих драгоценностей. Наш с ней мир».
В этом месте мельтешение эмоций прекратилось, и писатель наконец рассмотрел изваяние. Итак, Иона Александрович в качестве доказательства того, что существует некий способ сношения с прошлым, передал ему, Михаилу Деревьеву, главу из его старой, в сердцах написанной, незаконченной, никому не известной и даже не перепечатанной рукописи. Переданный негром текст даже на первый взгляд отличался от того, который мог и должен был бы по всем признакам Михаил Деревьев написать тогда, шесть лет назад, по кровоточащим следам событий. Все разночтения определить сейчас, на глазок, было невозможно. Да и не в этом было главное.
Писатель опять зачем-то потряс в воздухе серыми страничками. Эти несколько листков бумаги должны, по мнению Ионы Александровича, доказать, что он обладает способом какого-то прикосновения навстречу времени? Деревьеву стало нестерпимо стыдно, что удочка, на которую он попался, оказалась столь самодельной.
Он прошелся вокруг памятника, возмущенно фыркая и тихо матерясь. Его провели, как пацана, как самого зеленого пацана. В данной ситуации надо что-то предпринять. Нельзя же все это оставить так. Он был убежден, что легко разгромит эту примитивную издевательскую комбинацию. Он решил сделать это немедленно. Он сейчас же позвонит загадочному не в меру хозяину черного курьера и выскажет вес, что по поводу этой затянувшейся шутки должен высказать человек, хотя бы отчасти себя уважающий.
Деревьев стал оглядываться в поисках телефона.
Не зря же он с самого начала, еще в момент самых первых объяснений там, на этой дикой даче, почувствовал безусловную бредовость всех его построений. Все началось с наглых нелепостей, все и продолжается в том же стиле. Нагромождение бреда. И этот негритос, так вычурно отрекомендованный, и эта явно заранее сфабрикованная подделка, и тот факт, что издатель «перевел» деньги в прошлое еще до того, как ознакомился с рукописью. Не счел, собака, нужным даже перелистать. Вдруг там, в папке, настолько мрачная галиматья, что даже такой бездонно богатый гад, как он, не стал бы платить за нее никаких денег. Даже тех, за которые (с учетом инфляционного коэффициента, конечно) можно было приобрести в 1985 году лайковое пальто и итальянские сапоги.
Сложив, причем аккуратно, издательское «доказательство», Деревьев быстрым прокурорским шагом направился в сторону подземного перехода.
Но пока он бродил в поисках возможности позвонить, начали поднимать голову аргументы, затопленные первой волной оскорбленного самолюбия. Во-первых, само «доказательство» выглядело слишком убедительно в материальном смысле. Деревьев достал листы рукописи из кармана и еще раз тщательно изучил их. Сомнений быть не могло: это его почерк, и бумага изношена как раз настолько, насколько ей положено было изноешься за шесть лет погребения в его архиве. Во-вторых, текст этой рукописи он не только никому не показывал, он о нем даже не рассказывал никому. Более того, он сам старался забыть о его существовании. И еще более – порывался пару раз уничтожить это свое недоношенное ублюдочное дитя. Ни у одного человека не было никакой возможности не только прочитать эти отвратительные откровения, но даже догадаться о факте их существования. Ни у одного нормального, обычного человека.
Что же касается таких вещей, как «выплата» до ознакомления с «Илиадой», то они, откровенно говоря, были в порядке характера Ионы Александровича. Он любит производить впечатление человека щедрого, широкого. Кроме того, с профессиональным уровнем своего литподенщика он ознакомился заранее и заказал ему отнюдь не «Героя нашего времени», так с какой стати он стал бы привередничать и мелочиться. Информацию о том, что текст готов, он получил рано утром, и у него было время для посещения своей мистической почты.
В результате этих размышлений Деревьев раздумал звонить Ионе Александровичу. Не стоило поднимать скандал до выяснения тех обстоятельств, которые можно было выяснить собственными силами. Например – не являются ли эти шесть страничек лишь похищенной частью собственноручного его, Михаила Деревьева, черновика? И не есть ли в таком случае ощущение, что страницы эти каким-то необъяснимым образом «отредактированы», просто причуда авторской памяти? За шесть лет пребывания текста втуне представления о том, что хотелось написать и что на самом деле написалось, могли сильно разойтись. Как раз на величину восхищенного ужаса в момент первого ознакомления с «доказательством».
Деревьев спустился в метро, собираясь ехать домой, чтобы вскрыть свои закрома, и даже проехал несколько остановок, когда вдруг вспомнил, что нужная рукопись должна находиться на его прежнем месте жительства под присмотром Сан Саныча. Пришлось возвращаться, что лишь подогрело нетерпение. Из вестибюля метро Деревьев позвонил старику, тот, слава богу, оказался на месте. И очень обрадовался звонку своего бывшего жильца, запричитал и даже затараторил, торопясь рассказать ему все, что случилось в квартире за последние две недели. Среди прочей словесной шелухи прозвучала информация:
– А вас разыскивали. Два раза. Двое приходили два раза и разыскивали. Я им сказал, что вас уже нет совсем. То есть вообще нет. Но они опять приходили и письмо вам пришло.
Деревьев довольно резко прервал старика и поинтересовался, на месте ли оставленные им бумаги.
– Конечно. Там же темно, – бодро заверил Сан Саныч.
– Я сейчас приеду.
Войдя в квартиру, писатель сразу бросился в тот темный закут, где стояла старинная тумбочка, набитая его черновиками. Света там не было никогда.
– Нет ли у вас фонарика, Сан Саныч? – спросил он на ходу.
Фонарика не оказалось, старик принес свечной огарок в грязном блюдце и устроился за спиной у присевшего на корточки гостя.
Старые общие тетради, исчерканные чужими чернилами стопки машинописи, конторская книга с фотографией истребителя на обложке. Все милю, мимо.
Сан Саныч завис над самым ухом, что-то упорно бормоча, отчего подрагивало пламя свечи и казалось, что все вокруг ходит ходуном. От нетерпения.
– В чем дело, Сан Саныч? – весьма недовольным тоном спросил бывший жилец, – какое еще письмо?
Конверт давно уже царапал ухо. Деревьев схватил его, неаккуратно надорвал. Оттуда выпал листок бумаги. Писатель торопливо пробежал первые строчки.
«Каждый народ есть одно из воплощений Господа. Никто не может и не должен оспаривать это. Безумием было бы выступать хотя бы против одного из божественных воплощений. Не то велико, что грандиозно, и не то ничтожно, что не общеизвестно…»
– Ну что это такое, Сан Саныч, что вы мне суете, – заныл писатель, отбрасывая бумажку вместе с конвертом, – теперь в каждом подземном переходе стоит сумасшедший и бесплатно раздает что-нибудь подобное.
– Но там адрес, там персонально, – попытался возразить хозяин квартиры и именно в этот момент из тумбочки вывалилась та самая синяя, заляпанная белилами папка…
– Тише, – прошептал писатель так, что пламя свечи съежилось и задрожало.
Несколько секунд автор не решался отворить свою давнишнюю папку. Несколько раз сглотнул отсутствующую слюну.
Первое, что нужно было проверить, все ли страницы на месте, или хотя бы те, что воспроизводились в «доказательстве». Проверил – нужные страницы были на месте. Внезапно вспотел до того, что в глазах все поплыло. Смахнул пот рукавом. Несколько капель упало внутрь папки. Теперь нужно было сличить текст на тех страницах, что принес глупый негр, и на этих, шесть лет сберегавшихся в заляпанной папке. Совершенно необязательно было производить эту процедуру в условиях пыльного темного закута, но писатель не вполне контролировал себя в этот момент, он даже забыл о затекших и онемевших ногах. Он бросился к своему внутреннему карману и… и ничего там не обнаружил. Первая мысль была, что разоблаченные страницы, испугавшись очной ставки, растворились от стыда в воздухе. Но вторая мысль напомнила ему, что по дороге он переложил шесть страничек в боковой карман пальто и, – и действительно, вот они, – стало быть, разоблачение бесовства придется отложить.
В результате подробного сравнительного исследования, проведенного уже дома, писателю удалось установить следующее: переданные черным посланцем бумаги заключают в себе неизвестно кем и неизвестно как воспроизведенный текст, представляющий собой искаженный вариант сцены знакомства Михаила Деревьева с Дарьей Игнатовной, входящей в автобиографическую повесть, начатую и заброшенную шесть лет назад. Сцена эта занимает в оригинальном экземпляре рукописи страницы с 4 по 10. Все без исключения искажения касались образа главного героя автобиографической повести. Все попытки неизвестного редактора направлены были на то, чтобы из голодного, бездомного босяка, коим являлся в те годы автор повести, сделать лощеного, холеного и очень состоятельного на вид денди.
Как известно, образ главного героя решающим образом влияет на тематическое, стилистическое и сюжетное строение романа, повести или рассказа. Достаточно, скажем, Илье Ильичу Обломову придать черты любопытного, завистливого или хотя бы сексуально озабоченного человека, как классическое одноименное творение рассыплется в прах. Неизвестный редактор, исходя из суммы оказанного Михаилу Деревьеву образа 1985 года финансового споспешествования, начал отсекать от реалистически выписанного образа все неприятное, все комплексы, стоптанные башмаки, дырявые карманы и заменять импортными шмотками, уверенными манерами и щедрыми жестами. И он, этот редактор, мгновенно вступил в противоречие с основной тенденцией текста. Ему пришлось изъять и самовлюбленную самоиронию, и саркастическое сопение по адресу благопристойных персонажей. Градус драматизма начал заметно падать, и вместо скулежа и страданий облезлого совкового Растиньяка при виде богатой наследницы получилась завязка банального, благополучного, по-советски светского романа. К концу главы под тяжестью этих изменений дала трещину и сама конструкция сюжета. В оригинале влюбленный ублюдок в приступе своеобразной низменной гордости подсаживает пронявшую его воображение мадам на борт муниципального рыдвана, и та возмущенно недоумевает по поводу того, что ее сексапильность осталась до такой степени невостребованной. В экземпляре глупого негра молодой денди выводит молодую леди на бульвар и, изящно остановив такси, провожает до дверей дома.
Ни один самый тупой, самый мстительный или безразличный гад-редактор былых времен не смог бы так изувечить эту рукопись в те незапамятные тоталитарные времена, попадись она ему в «карандаши».
Деревьев закурил очередную сигарету и стал прохаживаться по комнате. Да, было бы намного проще, если бы эта подделка не казалась до такой степени оригиналом. Сто раз он смотрел ее на свет, принюхивался, тряс, втайне надеясь, что она испарится. Но чем дольше она валялась на столе, чем дольше он предъявлял ей свои подозрения, тем она становилась упрямее, как факт. Конечно, можно было бы поискать каких-нибудь криминалистов, графологов и проработать ее с этой стороны. Но, во-первых, где их искать, а во-вторых, в глубине прокуренной души писателя уже поселилась тоскливая уверенность в том, что и криминалист, и почерешник скажут: и бумага, и буквы на ней – все настоящее.