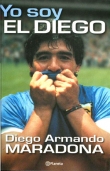Текст книги "Невольные каменщики. Белая рабыня"
Автор книги: Михаил Деревьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
– Запомнил, – пожал плечами Деревьев.
– Изменил бабе, грязно, тупо изменил, а на бумаге развозит хитрое такое оправдание, даже не оправдание, на нее же возводит вину за свою блудливость. Видите ли, с японцем чаю попила! Если вдуматься, это женская логика. Куриные бабьи мозги в твоей голове напиханы, писатель. А самое гнусное знаешь что?
– Уже было про самое гнусное, – осторожно возразил Деревьев.
– Нет, ты браток, послушай. Самое гнусное – это литературщина. Причем лживая и жалкая какая-то. Насквозь, везде. Где ты чувствуешь, что подлец, напускаются слова. Побольше, покраше. Или поученее. Ты только подумай – человек видит, что кто-то сманивает из-за памятника его бабу, – бабу, которую он якобы зверски любит, – и он, вместо того, чтобы все снести, всех послать к черту, в том числе и экзамен этот, – тоже мне, кстати, препятствие, – так вот, он разводит самую что ни на есть отвлеченную болтовню. В одном романе то, в другом се. Наврал ты, брат, наврал, сильно, очень сильно. Согласен с критикою, а?! – издатель поставил громоподобную вопросительную точку в конце своей речи.
– Нет, – вяло возразил писатель.
– Ну и хорошо, – внезапно возвращаясь в благодушное состояние, сказал Иона Александрович и хлопнул его по плечу. Потом налил себе еще водочки, откинулся б панически скрипнувшем кресле с видом человека, одержавшего большую моральную победу.
– Я, – тихо начал Деревьев, – все же не могу быть уверенным стопроцентно, что и эта ваша версия – не розыгрыш. Где гарантии, что вы меня не обманываете?
– Где, где – на бороде! В чем я могу тут вас обмануть? И какого именно обмана боитесь вы? (Он почему-то решил вернуться к прежней форме обращения.)
– Что вы имеете в виду, я не очень понимаю.
– Что тут понимать? Два есть варианта. Первый: вы хотите разоблачить меня как похитителя ваших романов, или второй: вы хотите вывести меня на чистую воду как человека, скрывающего все же существующую вопреки всем словам и очевидностям машину времени.
– Дело в том, что подделки, Иона Александрович, эти отредактированные главы были изготовлены так похоже на настоящие… они вообще не отличались от настоящих. И почерк – я, слава богу, знаю свой почерк, и бумага…
– А-а, бумага… – издатель презрительно махнул рукой, – листов двадцать я украл из вашей папки, вы предполагали на них продолжать свое сочинение, судя по всему. А почерк… уже упоминавшийся здесь Ярополк Антоныч имеет такой удивительный по этой части талант. Он умеет подделать любую подпись. Да иго подпись, он доллар так нарисует, что лучше настоящего будет. Улавливаете, куда клоню, улавливаете? – Иона Александрович вдруг громогласно расхохотался и так же вдруг пресекся.
– Ну вот, теперь вы знаете почти столько же, сколько и я, только пользы вам от этого, уверяю, никакой. – Он встал. – Мне пора к гостям.
– У меня еще один, последний вопрос. Мои неизданные рукописи, они уничтожены?
Иона Александрович рассеянно потер щеки.
– Где-то здесь валяются. Я имею в виду, в доме, – он отворил дверь на крыльцо, – можете их забрать, если они вам на что-то нужны.
И Деревьев остался один. Он довольно долго сидел в своем кресле, уставившись на остатки плавленого сырка, истерзанные пальцами его левой руки. Постепенно до него доходило, насколько огромная победа была только что одержана над ним этим толстяком с крашеными волосами. Стоило, безусловно стоило тратить время, деньги и воображение на эту запутанную и экстравагантную мистификацию ради того, чтобы упрятать в заключение тень своего соперника. То, что между ним, Деревьевым, и Дарьей Игнатовной ничего не было и даже ничего не могло быть задумано, не имеет в данном случае никакого значения. Этого героического ревнивца вероятный соперник волновал как раз в качестве величины потенциальной, как форма собственного кошмара, бесплотной угрозы. И когда при помощи иезуитски выверенных манипуляций удалось посадить в добровольное заключение дух вероятного любовника своей жены, то можно было не опасаться несчастного автора тайком ксерокопированной рукописи. Оставался, правда, вопрос – не было ли это искусство борьбы с призраком все же потрачено зря? Может быть, на ином участке сложной обороны, которую держал Иона Александрович, другой, нераспознанный, непредугаданный призрак-проныра регулярно материализуется, как какой-нибудь лебедь-соблазнитель.
Впрочем, для пьяного и потрясенного писателя эта часть проблемы выглядела слишком отвлеченной. Он не был в данный момент способен даже на злорадство. Он, пошатываясь, встал и заново осмотрелся. Помещение это понравилось ему больше, чем при вступлении в него. Он решил не выходить на улицу. На солнечной лужайке все только что полученные им раны радостно воспалятся, привлекая сытых зевак. Пусть уж лучше эти затхлые своды. Деревьев подошел к буфету, из которого появлялась водка, и распахнул створки. Рукописей там не оказалось, сплошь бутылки: пустые, полные, начатые. «А ведь издатель здорово поддает», – подумал он, отправляясь в путешествие по первому этажу. Но у самого выхода из комнаты он был остановлен возбужденно трясущейся мыслью, выскочившей из-за поворота опьянения. За этой дверью он ведь может запросто столкнуться с виновницей всех этих вычурных событий. Где, собственно говоря, хозяйка? Где именинница?
Белая крашеная дверь отворилась с тихим скрипом. Опять пыльная, явно нежилая комната. Судя по всему, здесь никто даже и не пьет. Здесь были слышнее шумы солнечного праздника, в скрытом, обиженном воздухе покинутой комнаты они силились увековечиться. Деревьева значительно больше каких бы то ни было звуков интересовали шкафы или другие емкости, которые могли бы сохранять плоды его извращенных трудов. Но комната была пуста. На стенах классические прямоугольники невыцветших обоев, на полу обрывки глянцевых плакатов и спутанные веревки. Судя по слою пыли на щеке одноглазой красотки, бегство мебели состоялось довольно давно.
Непроизвольно перейдя на цыпочки, писатель пересек комнату и в течение нескольких минут выяснил, что таково положение на всем первом этаже. Послеэвакуационная тоска. Какие уж там рукописи. Он очень хотел их отыскать. Уйти без них – это все равно как оставить труп товарища на поругание врагу. Можно было бы отчаяться, когда бы не свежевозведенная винтовая лестница, уходившая из середины прихожей на второй этаж. Деревьев поколебался, вправе ли он воспользоваться ею. Но, кажется, разрешение к поискам распространялось на весь дом.
Новая лестница еще не прижилась как следует, она нещадно трещала, хрустела и скрипела. Когда писатель добрался примерно до середины, то обнаружил, что она скорей всего вообще не закреплена как следует, и, таким образом, ему приходится объезжать дикое архитектурное нововведение. Выбравшись на безопасный берег второго этажа, он обнаружил, что у него ощутимо дрожат колени. Он не сразу узнал место своего зимнего приключения. Во-первых, освещение. Нет, освещение во-вторых. Сначала Дарья Игнатовна. Здесь она могла попасться на каждом шагу. «Но у меня же есть причина, я ищу свои рукописи», – подбодрил писатель себя, мучаясь от недостаточности этого основания.
Он вкрадчиво обошел комнаты, узнавая и золото библиотеки, и дерево спальни. От Дарьи Игнатовны остался только полупрозрачный халатик поперек ложа. Потрогал – влажный. И от этого факта волнение, вроде бы обязанное вспыхнуть с новой силой, улеглось. Халат оказался прививкой от неожиданной встречи. Дарья Игнатовна спрыгнула с рукописного облака и теперь неизбежно должна была материализоваться в его объятиях. Деревьев развел руки и огляделся. Значит, надо подождать еще немного. А пока можно закончить с рукописями. И он обошел комнаты во второй раз. Но уже решительно и свободно. Виноватее прочих выглядела библиотека, но обыск начался все же со спальни. Из распахнутого гардероба полетели на ковер платья, костюмы, коробки с обувью. Из стенного шкафа в коридоре были исторгнуты совсем уж посторонние вещи – велосипедные камеры, рулоны обоев, заляпанный известкой огромный резиновый сапог. Все это выполнялось одной рукой, вторая хранила рукопись, отчего у Деревьева был нелепо деловитый вид. После разминки писатель с победоносным и загадочным видом проследовал в библиотеку. Оценил взглядом фронт работ и выбрал для дебюта нижние ящики книжного стеллажа. Стоило лишь повернуть ключ в дверце, на пол, как рыба из трала, хлынули глянцевитые проспекты, журналы и прочее в том же роде. В следующем ящике оказались запасы богато оформленных фирменных бланков. Тоже все к черту на пол. Равно как и специальные папки для бумаг. Над всем этим молчаливый погромщик устроил снегопад из визитных карточек. Они, видимо, являлись слабостью издателя. Золотые и красные, с тиснением и без, на русском и других языках. Тяжелые картонные снежинки, истерически вращаясь, сыпались на холмы разнообразной печатной продукции.
Печально покачиваясь, оскальзываясь на стопках поверженной бумаги, Деревьев прошелся по комнате. Да, он хорошо отомстил библиотеке этого человека за тайное надругательство, которое тот произвел над его библиотекой в тот зимний вечер. Но на сердце не воцарилась радость.
А рукописи свои он отыскал на куче странным образом изувеченных книг – с них была содрана кожа обложек. Лежала эта куча за тумбой письменного стола. Вот, значит, чем занимается Иона, сидя за своим столом. Деревьев сложил на углу стола все три свои папки и устало опустился в хозяйское кресло. Возле телефона стоял бюстик Бетховена. Деревьев подумал, а не нарисовать ли ему усы, и тут же понял, что эта мысль ему отвратительна. Потом он заметил, что из-под Бетховена торчит угол знакомого на вид конверта, рука самопроизвольно рванулась, и он только хмыкнул ей вслед. Что там могло быть? Ведь не отблеск же новой недостижимой жизни, а всего лишь ублюдочные измышления фальшивомонетчика. Конверт, судя по надписи, действительно предназначался ему. Но исследовать содержимое он не стал. Нет сил. Да и зачем? Пора, собственно, и убираться со двора. Он встал, принял со стола три расскальзывающиеся папки и вышел из разгромленной библиотеки. Отправился на кухню, надо бы подыскать какой-нибудь пакет или сетку. У выхода помедлил, быстро выдернул конверт из-под бюста. От резкого движения композитор глухо рухнул на ковер.
На кухне никого не было. Имелись повсюду баснословные следы кулинарных приготовлений. Отсюда же, с кухни, уходила вниз лестница, прямолинейная родственница той, что была уже укрощена писателем сегодня. Помимо лестницы, было здесь и еще одно отверстие, выводящее во внешний мир – большое распахнутое окно. Деревьев осторожно выглянул – снаружи все шло обычным порядком, шум диверсии оставался внутри дома.
Необходимая Деревьеву сетка долго от него пряталась, потом в нее долго не укладывались вызволенные из позора папки, слишком угловатые. Когда с тихой руганью пополам все устроилось, до пьяного, но чуткого уха писателя долетел звук неких шагов. Деревьев вздрогнул, но довольно быстро сообразил, что эти остренькие, цокающие звуки не могут принадлежать налитому водкой толстяку.
– Здравствуйте, Дарья Игнатовна, – сказал расхристанный, с нелепою сеткой в руке Деревьев раскрасневшейся, возбужденной, решившейся голове. Фраза эта была им судорожно подготовлена за время ее восхождения по лестнице, при более неожиданном варианте он бы вряд ли что-то смог сказать. Кстати, если бы снизу появилась совсем другая женщина, он все равно бы эту фразу произнес.
– Ты, – сказала она без особого удивления в голосе, – а я-то думала.
Что именно она думала, осталось навсегда неизвестным. Зато совершилось ее полное появление вместе с голубым полосатым платьем, одновременно летним и вечерним на вид, в сопровождении сложных, напоминающих чем-то русскую тройку босоножек. Деревьев развел правой рукой, поскольку левая была занята, и начал всматриваться в нее с непосредственностью почти идиотической.
– Ну, – сказала Дарья Игнатовна с неистолкуемой усмешкой.
Деревьев в этот момент удивлялся про себя, с какой скоростью и даже паникой исчезает, растворяется, тонет и рассыпается в прах та на всякий случай измышленная им растолстевшая женщина в морщинах с выцветшими волосами, с набрякшими на ногах от бесконечных родов венами, с жилистыми от постоянных сумок руками. Дарья Игнатовна не изменилась с тех пор ничуть. В ее облике не появилось ни одной даже микроскопической повадки, воспитываемой временем. Все так же беспечно оттопырен мизинец, кокетливым углом согнута рука. Такая же одухотворенная тень отбрасывается ароматической челкой на широкий разумный лоб. Ничуть не помутилась бесслезная хрустальная влага в обширных беспечных глазах. И губы, слегка стыдящиеся своей припухлости, все так же готовы ко всему: и таить ангельское щебетание, и скрывать только что слизанную кровь.
– Зачем же ты меня бросила? – спросил писатель.
Дарью Игнатовну нисколько не удивило полное отсутствие преамбулы. Ее удивило другое.
– Я?! Я тебя бросила?! Негодяй, ничтожество, тупица, скотина, мозгляк, сволочь, бездарь, босяк, дрянь, сутенер, гамадрил, трус! Я, я тебя бросила?! Ты сломал мою жизнь, развел меня с мужем, опозорил на весь белый свет, навертел вокруг меня какую-то гнусную интригу и после этого благополучно исчез! Ты сделал все, понимаешь своей пиитической башкой, все, чтобы мы расстались, а теперь явился сюда с этой сеткой. Даже подарок не смог толковый принести. И предъявляешь мне какие-то претензии!
– Нет, я здесь случайно.
– Что-о, – Дарья Игнатовна даже привзвизгнула, – и после всего того, что сделал, ты говоришь, что оказался на моей кухне случайно?
– Нет, нет, нет, – заспешил, заморгал Деревьев, – я не так выразился. На самом деле, конечно, не случайно. Даже наоборот. Даже больше чем наоборот. Именно: все эти годы, а особенно последние месяцы, я только и делал, что к тебе, в общем, рвался. Полз.
– Вот именно, полз.
– Просачивался и проскальзывал. Ты не представляешь, Даша, что это было такое. Из каких тонких и необычных препятствий все состоит… Впрочем, многое я сам… Я исписал горы бумага, – он жалобно потряс сеткой, – я не знал, где ты, и короткого пути у меня не было. Я пошел самым кружным, самым… в некоторых случаях не бывает прямых дорог. И путей.
– Все важные решения всегда простые, все остальное слова. Слова и слова. Слишком много слов.
– Может быть, ты права, может быть, и можно было как-то поскорее, но поверь…
– И опять-таки только слова. Из слов складываются объяснения, отговорки и всякое прочее вранье.
Деревьев надрывно помотал головой и сделал два шага навстречу обвинительнице.
– Да, да, да, и опять да. Я виноват. Виноват и виноват. Во всем. Полностью. Я скотина, гад, я альфонс и сутенер. Я согласен с каждым твоим словом.
– И не воображай, что я хоть одно возьму обратно. За эти годы я слишком, сверх всякого слишком нахлебалась. Он, видите ли, исчезает под действием сильных чувств, истеричный мой милок, а я, стало быть, иди побирайся Христа ради, ищи хлеба и приюта. Ты только подумай, под кого ты в результате тонких своих мучений подложил меня, дорогуша. Ты видал его, этого моего черного борова, видал?! Ты представь только, что я каждый день… тем более он не только все вот это, ну ты понимаешь, но еще и с осложнениями. И вот так из месяца в месяц. Эта тупая ревность и любовь эта его слезливая, болтливая. Представь, он часами стоит на коленях и бормочет о том, как он, видите ли, меня разнообразно обожает. Скажи, может это вынести нормальная женщина?
– Какой негодяй, какой негодяй, – потрясенно шептал Деревьев.
– А эти его родственнички! Прибабахнутая эта маман, – Дарья Игнатовна содрогнулась, – мамочке то, мамочке се. Каждый божий месяц – визит. Чокнуться же можно! И вот это все он пытался загладить деньгами. Видите ли, если у человека куча бабок, то ему, значит, можно все. Не все!
– Боже! Какой я подлец, какой я подлец!
– Деньги – это еще ладно… Да к тому же он посмел разориться. Представляешь? То, что там, – она махнула в сторону окна, – это пир во время чумы. Все, что у него было мужского, это его бабки, так и это теперь… – она трагически хохотнула. Монолог прервался.
Из-за окна волнами доносились звуки, соответствующие происходящему за окном. Этот отвлеченный шум на время трезвым раствором заполнил пространство между говорящими. Он мог бы возыметь отчуждающее действие, но ограничится тем, что отделил первую часть беседы от второй. Дарья Игнатовна и Деревьев одновременно ощутили и состояние антракта, и момент, когда началось второе действие.
– Чего это ты на меня так это… взираешь? – вдруг спросила Дарья Игнатовна немного удивленно и немного игриво. Деревьев медленно приподнял сеть с рукописями – так тяжело, будто со дна моря. Но она не сгодилась как аргумент и была разочарованно опущена.
– Удивляюсь очень.
– Чему именно? – быстро поинтересовалась Дарья Игнатовна, приступая к нему на два шага и как бы слегка вспыхивая: – Все слишком знакомо?
– Да, – тихо согласился Деревьев.
– И глаза?
– Да.
– И волосы?
– Да.
– И запах?
– Особенно, – нервно улыбнулся Деревьев.
– Такой родной, правда, привычный?
– Совсем, совсем.
– Как будто и не было этих шести лет?
– Как будто и не было, да.
– А ты знаешь, как называется все это?
– Что?
– То, что ты мне только что наговорил про волосы, про глаза и про запах?
– Нет.
– Ты пытаешься меня соблазнить.
– Да-а…
– Прямо на кухне моего собственного дома. В двадцати метрах от моего мужа.
– Нехорошо, – прошептал Деревьев, не будучи уверенным, что это так.
Руки Дарьи Игнатовны переместились с плеч писателя на его грудь.
Больше они не разговаривали – по разным, но, если так можно выразиться, взаимосвязанным причинам. Деревьев, не выпуская своей сакраментальной сетки, неловко переступил на плохо поддающихся управлению ногах и, чтобы сохранить равновесие, оперся правым локтем на подоконник, за которым продолжалось всеобщее веселье. В испытываемом им состоянии взору нельзя было не затуманиться, но он, обозрев территорию, обратил внимание на некоторые детали, свидетельствующие, что празднество теряет стройность и чинность. Вон лысый в одном жилете забрался под стол, и его так сотрясает рвота, что можно подумать – четвероногий друг его насилует. Оторвавшись взглядом от ослепительной лужайки, Деревьев смог отчетливо рассмотреть лишь острия каблуков на роскошных босоножках Дарьи Игнатовны. Каблуки были запачканы жирной дачной землей. Словно бы в поисках оставленных ими следов, писатель выпростал свой взгляд в направлении одуванчиков, дерна и прочего природного. Но там его вниманием сразу овладела высокая, в дымину пьяная дама, которая, удалившись под сень струй поливального устройства, истерически трясла своими юбками и тупо топталась босыми ножищами на мокрой траве. И снова взгляду захотелось назад. Каблуки сталкивались, перекрещивались, царапали друг друга. В этом был какой-то неприличный, но лестный для Деревьева сюжет, он попытался вглядеться в него (хотя и приходилось время от времени непроизвольно отбрасывать голову и зажмуриваться) и отыскать этому какое-то словесное выражение. В голову почему-то пришел танец двух вилок с наколотыми булками в исполнении Чаплина, которого Деревьев, кстати, терпеть не мог, и прочая совсем уж никчемная чушь. В результате он слишком надолго оставил без внимания празднующую жизнь за окном и отреагировал только на совокупный гул голосов, вдруг начавший крепчать под его правым локтем. Под окном он удивленно застал целую толпу. Пьяно подвижную, с приветственными руками повсюду и какую-то крайне глупую на вид. Центр ее занимал Иона Александрович. Причем занимал подвижно и деятельно. Тыкал толстым пальцем вперед-вверх и что-то быстро говорил, борясь с хохотом. Публика время от времени взрывалась смехом, гоготом и хихиканьем, и было понятно, что эти приступы напрямую связаны с речами Ионы. Деревьев решил, что он понимает, в чем комизм его положения. Наверное, потому, что он с этим своим выставленным, свисающим с подоконника локтем очень похож на какого-нибудь шофера-идиота в кабине самосвала-великана. И лицо у него и пьяное, и как пьяное к тому же. Но в общем, решил он тут же, причина для столь буреломного веселья слабая. Вон некоторые даже с ног валятся. Не зная, что предпринять, пьяная мысль писателя расслабилась, и он от нечего делать (несмотря на все происходящее) решил повнимательней вчитаться в список приглашенных. Помимо уже виденных Жевакина и его невесты, помимо Люси и Лизы, помимо владелицы Аполлодора и обоих американских профессоров, он обнаружил широко, но подло улыбающегося Тарасика и слегка испуганную Иветту. Увидел он и самого Игната Севериновича с лениво оскаленной пастью и монументальную супружницу его. Слава богу, все живы. Лица их как бы плавали в тумане, плотность которого то увеличивалась, то разрежалась. Деревьев подумал о том, что приятно ему видеть одну только Иветту-добрую душу, он даже попытался ее поприветствовать и услышал в ответ такой искренний, такой хоровой хохот, что опешил и смог понять наконец, в чем тут смысл, соль, суть, смак. Конечно же, скотина издатель рассказывает гостям историю своих взаимоотношений с идиотом-писателем, причем во всех деталях и с прибавлением собственных жгучих подробностей. И стало быть, два десятка этих знакомых, полузнакомых и полупьяных рож смеются над его, Михаила Деревьева, ничтожеством, глупостью, незадачливостью, смеются над нелепостью этой вот столь оберегаемой сетей. Так обидно, так горько и скучно стало писателю… И в этот самый момент неутомимые каблуки скрестились особенно каверзно и яро, и голова подвергаемого осмеянию писателя, болезненно зажмурившись, с вырвавшимся из горла стоном дернулась назад. Хористы замерли, проникнувшись видом этого страдания. А корифей их хора после трехсекундного одуряющего молчания вцепился в свой тяжелый парик и медленно поднял его с черепа, оставляя на жалобной голой коже хлопья сухого клея. Низкий, производимый всем набором внутренних сил вой содрогнул все вокруг. Даже сквозь двойную ограду сжатых зубов и слепленных губ.
В следующем кадре Иона Александрович бежал, оступаясь, слепо выставив мощные руки, к лестнице. Добежал. Одним ударом лишил дом двери и, бешено оступившись, рухнул на одной из первых ступенек. Он закупорил собой все русло лестницы и попер наверх наклонно, даже не пытаясь выпрямиться. Поворачиваясь, как кусок говядины в недрах мясорубки. Медленно, но неукротимо. Деревьев, все еще не полностью сцепившийся своим сознанием с реальностью, удивленно наблюдал толпу, развязно, растерянно, весело втискивающуюся в дом. Несколько даже больший интерес у него вызвала непонятная драка у входа на территорию дачи. Трое или четверо чернявых молодых людей били привратника. «Непорядок», – подумал писатель. Но и здесь внимание его не слишком задержалось, он зачем-то проверил состояние дел у буфетов. Официанты отдельной нейтральной группой стояли у самого дальнего стола и переговаривались. И пьяная дурында все плясала под искусственным дождичком. Только после всех этих наблюдений Деревьев полностью осознал себя на кухне, где вошли в решающую стадию два столь важных для него процесса. Иона Александрович был уже близко. Он всползал, вздымался, клокоча, хрипя и производя еще звуки, не имеющие общепринятого наименования. Как будто уровень тошноты повышался в очень глубокой шахте. И вот тут, когда… Михаил Деревьев увидел сырые осьминожьи глаза Дарьи Игнатовны.
Забуксовала, рванулась и стихла трагедия на лестнице, лопнуло чрезмерное сердце обманутого гиганта, и он стал медленно сползать вниз, гоня толпу любопытствующих мерзавцев вон из дому.
Деревьев огляделся, решая, каким путем уносить нош и рукописи. Нелишне заметить, что Дарьи Игнатовны он, полностью, очухавшись, возле себя не обнаружил. Он еще раз выглянул в окно. Вид заварухи, разворачивавшейся там, не понравился ему. Он решительно отступил в сторону винтовой лестницы. Имел повторное приключение на ней. Потом был покинутый первый этаж. Дверь на тайное крыльцо оказалась не заперта. Дальше помощь оказал сарай, с крыши которого легко было перебраться через ограду. Потом он с полчаса осторожно и путанно выбирался из поселка на трассу. Что-то ему подсказывало, что некоторые предосторожности не помешают.
Уже в кабине машины, слетавшей в Москву по Можайскому шоссе, он попытался навести хотя бы приблизительный порядок в своих впечатлениях. Но любые усилия в этом смысле только усугубляли сумбур. Непропорционально много времени у него заняло взвешивание того, какою силой выдержки должен был обладать Иона Александрович. Прочитать такое про свою жену и не задушить при первой встрече автора, даже вести с ним рассудительные беседы, всячески ублажать и платить ему деньги… Впрочем, денег у фальшивомонетчиков, конечно, как грязи.
Потом его мысль почему-то занялась пьяной дамой у поливалки. Очень ему интересно было узнать, кто такая была танцевавшая. И куда исчезла Дарья Игнатовна. Как всегда, осчастливила, но не насытила. Теперь она, по-видимому, вдова. Свободна, но под надзором траура. Неудобно будет к ней отправиться прямо завтра. Но даже «завтра» казалось ему слишком далеко.
Только бы добраться до душевой, смыть, безжалостно смыть все эти нагромождения. Он ощущал в себе возможность какой-то однозначной и, может быль, спасительной ясности.
Рукописи свои он чуть было не оставил в машине. Перестал ощущать нужду в них и какую бы то ни было ценность. Шелуха, плевелы. Причем не просто плевелы, а разглаженные, пронумерованные и сложенные в стопки. Его развеселила эта мысль, и он приближался к подъезду, загадочно улыбаясь и помахивая сеткой.
В подъезде этом, полутемном, в меру загаженном, произошло вот что. Для начала там были открыты оба лифта, что Деревьева удивило, была в этом какая-то ненормальность. Деревьев слишком поздно обратил внимание на три высокие плотные мужские фигуры, расположившиеся на площадке. Один выступил вперед: мощные черные усы, невидимые, но явно тоже черные глаза. Он что-то сказал на незнакомом языке. Хотя язык был предельно непонятен, писатель понял, что у него ничего не спрашивают, ему, наоборот, что-то сообщают. Причем что-то официальное. Вслед за этим в руке у говорившего, в это трудно поверить, но это так и было, появился пистолет. И сразу раздался выстрел. Негромкий, по-подвальному плотный, полностью вписавшийся в конфигурацию подъезда. Наверх выскользнуло маленькое шарообразное эхо. Плотные усатые мужчины быстро, но не торопясь, вышли на улицу под своды благоухающей сирени. Наверху раздались торопливые, несколько неуклюжие шаги, и показалась запыхавшаяся, возбужденная Антонина Петровна. Она не сразу сообразила и некоторое время тупо изучала судороги знакомого тела. Находясь, несомненно, в шоке, она подошла к нему. Деревьев лежал на ступеньках, вяло отталкиваясь слабеющей ногой от равнодушного кафеля. Антонина Петровна села рядом и осторожно приподняла его голову. Видимо, инстинктивно пытаясь оказать ему последнюю помощь, она прижала эту голову к своему боку. И писатель Михаил Деревьев отдал богу душу на пороге собственного дома на руках законной жены.