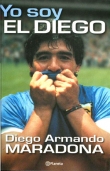Текст книги "Невольные каменщики. Белая рабыня"
Автор книги: Михаил Деревьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
Но пока вот что – пиша эти строки, я вижу один несомненный и даже вопиющий просчет в построении всего сложного этого романа. Ведь в результате получилось, что единственным стопроцентным отрицательным персонажем оказывается дама. Это слишком не в традиции русской литературы. В самом деле, кто кичлив, напыщен, самоуверен? Дарья Игнатовна. Кто высасывает все соки сначала из несчастного безродного поэта, а потом доводит до банкротства и гибели многообещающего миллионера? Дарья Игнатовна. Кто выглядит законченной, бестрепетной, жадной до красивой жизни, денег и секса эгоисткой? Она же. Я, как можно, наверное, догадаться, к женщинам отношусь без обычного даже пиетета, но простое чувство пропорции заставляет сделать что-нибудь для несколько оболганной и совсем непонятной Дарьи Игнатовны. Хотя бы потому, что я сам перед нею виноват, навязал, например, ей участие в довольно рискованном и экстравагантном эпизоде, причем на ее собственной кухне.
Я знаю, как надо поступить. Среди обломков текста, которыми заканчивалась деревьевская рукопись, задвинутых мною в дальний архивный угол, имелся довольно пространный портрет Дарьи Игнатовны. В данном издании ему, в силу разных соображений, не находилось места; по крайней мере, в первой части он был бы невозможен. Но здесь, в конце повествования, в атмосфере всеобщего подведения итогов я решаюсь его поместить. Разумеется, мне известно, что количество не всегда переходит в качество и размеры портрета не всегда способствуют отчетливости образа, но тем не менее. Для вящего равновесия я собираюсь за несколько импрессионистическим наброском Михаила расположить свой, максимально реалистичный. Я тоже видел Дарью Игнатовну, правда, почти два года спустя после описываемых событий. Так что получается крохотная портретная галерея.
«…так и не понял – действительно ли голова у нее великовата или ее делает такой прическа. Шлемообразная шатеновая волна с одухотворенным пробором посередине. Брови густые, не выщипанные по принципиальным соображениям. Рот крупный, губы тоже, естественно, крупные, какие-то сознательно чувственные. Верхняя навсегда забыта в положении удивленного неудовольствия. Невероятно плотные зубы, покрытые лаком дорогостоящей слюны. Для глаз я где-то уже приводил географическую метафору. Исчерпать феномен этих глаз нельзя. В них, например, чувствовалась огромная пропускная способность, они были готовы видеть больше и охотнее, чем обычно бывает у людей. Глаза не переключались на автоматический режим, запасов жадного, темного блеска хватило бы в них на несколько жизней. Только нос… можно сказать, был относительно слабым местом. Как бы чуть-чуть аморфный, несколько слишком мягкий. Уязвимый. Мог самостоятельно порозоветь. У меня вызывал отдельную, специальную нежность.
Теперь зайдем со стороны ног. Ступня в месте обретения ею пальцев по-крестьянски „раздавлена“. Шарнир большого пальца слегка гипертрофирован. Породу человека и в третьем поколении определяет способ передвижения предков по земле. Точеные, но слишком мускулистые икры. Ногу ставила Даша с легким поворотом, как бы вдавливая каждым шагом кнопку. Кто ощупывал колено любимой женщины, помнит, как прекрасно оно смутно ощущаемой через кожу сложностью. Решительный, наступательный характер бедер – сказались занятия теннисом. Эта не будет ждать милостей у мужской природы.
Взлетаем к ключицам. В эти углубления стекает дистиллированная нежность.
Сколькими способами можно оттопырить палец! Видимо, это какой-то язык. Когда женщина говорит, надо смотреть на ее руки, тогда есть возможность ее понять. А шея…»
А теперь от себя.
Оказавшись как-то в Москве, я – не скажу даже, что набравшись наглости, – просто взял да и позвонил ей. Сначала Игнату Севериновичу, конечно, а он уж дал мне нужный нумер. Дарья Игнатовна удивилась, но не слишком. Я назвался не братом Михаила, но исследователем творчества писателя Деревьева. Был приглашен в гости. И вот что я там увидел. Женщину-мать. Один ребятенок сопел в колыбельке, вторым Даша была заметно беременна. Мы проговорили за чаем, прерываемым материнскими позывами, часа два. Ничего нового или чрезвычайно характерного я о своем застреленном брате не узнал. Подозреваю, что он все-таки не был для Дарьи Игнатовны главным в ее жизни переживанием. Хотя тот факт, что застрелили немного в связи с нею, ей, несомненно, льстил. Вплоть до того, что она заявила: если родится мальчик, то назовет его Михаилом.
Явился муж, очень приятный, добродушный дядька. Преуспевающий компьютерщик. Стало ясно, что мне пора уходить. И я ушел, по дороге забавляясь разного рода литературными ассоциациями. Любой согласится, что, пусть не полностью, с поправкой на нравы нашего века, напоминает Дарья Игнатовна незабвенную Наташу Ростову. Впрочем – пустое.
Вернувшись домой, я опять потянулся к деревьевским материалам. Я еще ничего не начинал писать, все, о чем шла речь выше, уже готово было к рождению и ожидало последнего и самого главного знамения.
И вот как-то осенним вечером я засиделся на работе до глубокого вечера. Залы музея были уже и пусты и темны. Только в моем кабинете, заваленном старыми макетами, какими-то черепками и деревьевскими бумагами, горела настольная лампа. Я был отличной смысловой мишенью, логика засосавшего меня сюжета наконец получила возможность направить прямо на меня свое любопытствующее острие.
Я услышал множественные угрюмые шаги в глубинах музея. Я сразу понял, что это не запоздалый посетитель и не сторож. Шага приближались неторопливо, и в этом слышалась дополнительная угроза. Шаги сходились ко мне. Вцепившись белыми остатками пальцев в крышку стола, я решал, что делать. Броситься ли к окну и попросить подмогу у лягушек из заросшего ряской старинного глухого пруда? Или спрыгнуть с третьего этажа в обширную пахучую клумбу и там с поломанными ногами дождаться допроса с пристрастием?
Дверь кабинета медленно отворилась. На пороге стояли трое – общеюжного вида усачи в кожаных пальто.
Ну вот, с каким-то истерическим смешком подумалось мне. Они спросили меня, не Михаил ли я Михайлович Пафнутьев. Да, сказал я, это я, директор этого в высшей степени краеведческого музея. Страх, кореживший меня, выражался в основном витиеватостью говорения. И еще у меня в сознании сверкала кнопка, какие встраивают под стол разного рода начальникам, чтобы они могли незаметно поднять тревогу.
Усачи вошли. Один из них сел на единственный стоявший перед столом стул.
– Здравствуйте, Михаил Михайлович, – сказал севший.
– Чего уж там, – пробормотал я еле слышно.
– Мы пришли по поводу вашего брата.
Ну вот, подумал я опять, и сказал зачем-то:
– Он погиб.
– Мы знаем, – серьезно и даже соболезнующе сказал гость, – мы даже знаем, от чьей руки он погиб. От черной еидуйской руки он погиб. Вы, ваша семья, ваш город, ваш народ понесли тяжелую утрату. Но мы тоже понесли тяжелую утрату.
Первое, что я понял, что, по всей видимости, меня сегодня не зарежут.
– Мы хотели бы, и весь наш народ хотел бы, мы потому и пришли к вам сюда, чтобы память такого борца, такого человека была бы, – он сделал скупой, но выразительный южный жест, – увековечена. Как следует.
С этими словами он снял со своих колен и поставил на стул передо мною небольшой черный дипломат. После этого встал.
– Вы не уберегли, мы не уберегли, – в голосе свирепая скорбь.
Я, глупо улыбаясь, развел руками.
– Теперь мы вас должны оставить, уважая ваши чувства.
Все трое приложили правую ладонь к груди и, поклонившись, вышли.
Не скоро я пришел в себя. А придя, сразу же открыл дипломат. Конечно же, он был набит деньгами.
Н-да, оказывается, что у гордого, но мстительного народа еидуев (я так и не сумел точно выяснить, где именно он проживает) есть благородный враг, народ, имя его неизвестно, но он высоко ставит звание русского писателя.
Не знаю, это обстоятельство привнесло новую порцию абсурда в историю жизни и гибели Михаила Деревьева или же каким-то образом превознесло ее. По крайней мере, два непосредственных следствия разговор в кабинете имел. Я засел за эту рукопись, а на площади перед краеведческим музеем вскоре был установлен очень неплохой бюст Михаила. Мне, против ожиданий, довольно легко удалось убедить местные власти, что мой сводный брат достоин такого увековечения своей памяти. Сыграл роль и тот факт, что средства на это уже имелись. Надпись на памятнике утвердили самую простую: «Михаил Деревьев. 1960–1993. Писатель». Конечно, «спонсорам» было бы приятнее прочитать на граните что-нибудь вроде «борцу с еидуйским засильем», но на это пойти было нельзя. Не хватало нашему Калинову каких-нибудь терактов.
Кстати, настоящее издание осуществляется на деньги, оставшиеся от постройки памятника. И, думаю, книгу эту тоже можно счесть актом увековечения.
Иногда, прогуливаясь по залам музея, я подхожу к окну и смотрю меж крон двух громадных лип на поблескивающий на солнце монумент. Получается так, что я смотрю Михаилу в спину, как бы вслед. У меня каждый раз возникает ощущение, что он опять ушел куда-то вперед и мне еще предстоит догнать его, может быть, пока лишь только своею мыслью.
Перед памятником всегда лежат цветы, их бесперебойно поставляет ботанический сад его родной школы.
Иногда я вижу у памятника чету стариков. Андрей Иванович и Анна Пименовна, поддерживая друг друга, стоят в горестном раздумье у безжизненного гранита, что-то шепчут стариковские губы, медленно текут стариковские слезы. Потом они медленно бредут домой вниз по пустынной улочке. В такие моменты мое сердце изнемогает и скулит.
Недавно мне стало известно, что у Дарьи Игнатовны родилась вторая девочка.
БЕЛАЯ РАБЫНЯ
Глава 1
Двадцать пять фунтов
В 1672 году, в конце сезона дождей, в гавани Порт-Ройяла бросил якорь трехмачтовый бриг «Девоншир» под командованием капитана Гринуэя. Профессией этого благородного джентльмена была торговля «живым товаром». На этот раз он доставил на Ямайку большую партию рослых сенегальских негров.
«Девоншир» был первой ласточкой в Карлайлской бухте после затянувшегося сезона бурь и ливней, поэтому истосковавшаяся по новым впечатлениям публика в большом количестве высыпала на набережную. Жизнь в такой глухой провинции, какой являлась во второй половине семнадцатого века любая колония в Новом Свете, не изобиловала развлечениями, поэтому окрестные плантаторы решили совместить приятное с полезным: покупку свежей рабочей силы для своих имений с возможностью вывести своих засидевшихся жен и дочерей в высшее местное общество.
Таким образом, набережная Порт-Ройяла в это утро представляла собой нечто среднее между невольничьим рынком и благородным собранием. Благо губернатор острова, полковник Фаренгейт, которого одинаково сильно раздражал вид и слишком большого количества кандалов, и слишком большого количества женских платьев, находился в трауре в связи с безвременной кончиной своей юной дочери и не покидал губернаторского дворца.
Комендант порта майор Боллард выделил для поддержания порядка целую роту солдат, так что молодые леди могли совершенно спокойно передвигаться между молчаливыми шеренгами черных невольников. Эти люди, замордованные вконец тяготами полуторамесячного плавания в тесных вонючих трюмах, были почти равнодушны к происходящему вокруг.
Капитан Гринуэй лично сопровождал наиболее влиятельных и состоятельных посетителей выставки «живого товара» и охотно давал все необходимые пояснения. В обычной своей «рабочей» жизни он одевался просто – кожаные штаны, кожаная же безрукавка да зеленая рубаха, но для таких случаев, как сегодня, имел он в запасе камзол не слишком устаревшего покроя, хорошо заштопанные чулки и более-менее расчесанный парик.
В тот момент, когда он объяснял местному провизору, доктору Шорту и его супруге что-то из области новых методов борьбы с желтой африканской лихорадкой, на набережной появилась очень любопытная парочка. Краем глаза заметив их, капитан извинился перед четой Шортов и поспешил навстречу вновь прибывшим. Это были мистер Биверсток, возможно, самый богатый человек к востоку от Наветренного пролива, и его дочь, черноволосая десятилетняя девочка с выразительным, красивым и сердитым личиком. Она уверенно шествовала впереди своего отца. Мистер Биверсток – полный, краснощекий, ленивый на вид человек – благодушно улыбался и охотно позволял собою руководить. С тех пор, как умерла его жена, характер некогда жестокого плантатора смягчился, его взгляд на жизнь сделался несколько философическим, а единственным смыслом его существования стала дочь.
Лавиния росла ребенком в высшей степени незаурядным, создавалось такое впечатление, будто все решительные, твердые черты, присущие характеру отца в молодые годы, постепенно перешли к ней. Если бы она не настояла, мистер Биверсток ни за что не покинул бы своего кабинета на втором этаже с зелеными жалюзи. Дом этот стоял посреди роскошного парка в северной оконечности города и уступал по своим размерам и великолепию – да и то не очень – только губернаторскому дворцу.
– Мистер Биверсток! – не слишком ловко щелкнул каблуками капитан Гринуэй. – Я к вашим услугам. И к вашим, безусловно, тоже, мисс!
– Ну, что ж, – зевнул ленивый богач, – покажите, что у вас тут. Негры?
Если бы он нуждался в приобретении новой рабочей силы, управляющие известили бы его или даже скорее сами приобрели все, что нужно, но он понимал: раз уж явился сюда, то придется терпеливо сносить услужливость этого негодяя.
– Прошу вас, – вежливо изогнулся Гринуэй, – начнем осмотр отсюда.
– Нет, – помотала хорошенькой головкой Лавиния, – мы начнем осмотр с другой стороны.
Хотя двигаться подобным образом было намного неудобнее, капитан выразил искреннее восхищение планом юной леди. Экскурсия сопровождалась всевозможными комментариями, забавными сведениями из жизни жителей тропической Африки, зачастую придумываемыми тут же на ходу бойким на язык работорговцем. Лавиния, ради которой, собственно, и изливались эти речи, несколько раз досадливо косилась в сторону назойливого джентльмена. Казалось, что эта прогулка носит для нее не только развлекательный характер. Хотя, если разобраться, какой мог быть интерес у десятилетней девочки к толпе изможденных, закованных в кандалы и дурно пахнущих негров?
Когда большая часть «товара» была предъявлена и осмотрена, капитан, уже начавший испытывать легкую досаду от того, что все его ухаживания за семейством Биверстоков не приносят никакого результата, сказал, поправляя особенно надоевший ему локон парика:
– Итак, сэр?
Плантатор поморщился. Он прекрасно понимал, что столь исчерпывающие знаки внимания оказывались ему и его дочери только в расчете на то, что он сделает особенно солидные закупки. Мистер Биверсток не любил, чтобы кто-нибудь, кроме дочери, навязывал ему что-то. Он собирался спокойно и даже с некоторым злорадством обмануть ожидания этого грязного купчишки, но тут вмешалась Лавинития.
– Вот, – ткнула она смуглым пальцем между двумя ближайшими неграми.
Воспрянувший духом Гринуэй проследил за ее жестом. То же сделал и ее отец. Недалеко от трапа лежала бухта пенькового каната, на краешке которой примостилась белокурая девочка в сером холщовом платье.
– Это? – спросил капитан, и лицо у него изменилось. Тот факт, что объектом высокого внимания стала именно эта девочка, вызвало у него сложные чувства.
– Да, – спокойно подтвердила Лавиния. – Кто это?
Капитана Гринуэя трудно было смутить, но на этот раз он смутился. Ему невольно помог мистер Биверсток.
– Лавиния, почему ты решила, что эта девочка продается?
– Тем не менее она продается, господин капитан?
– Как вам сказать… Ну, в общем, да, – закивал Гринуэй. Он уже решил про себя, что все-таки не станет рассказывать о том, что девочка эта год назад была привезена его братом Гарри, тоже промышлявшим торговлею людьми, из весьма подозрительного путешествия в одну северную страну. Брат утверждал, что девчушка была подобрана умирающей на одном пустынном острове, и в силу того, что так и не удалось выяснить, кто она и откуда, пришлось ее взять с собой. Зная своего брата Гарри, капитан Гринуэй не поверил ни единому его слову, но и не подумал допытываться, откуда и каким путем он эту девочку раздобыл и по каким причинам хочет от нее избавиться. Он решил: на что-нибудь эта белокурая сгодится. Можно будет, например, обучить ее работе по дому или чему-нибудь в том же роде. Но за год, проведенный в доме капитана, девчонка не выучила ни одного английского слова и категорически отказывалась что-либо делать. Никакие наказания не могли ее вразумить. И постепенно капитан склонился к мысли ее продать. Нюанс тут был в том, что белого человека продать не так просто – легко можно было нарваться на слишком щепетильного или законопослушного покупателя.
Лавиния вплотную подошла к сидевшей. Та медленно встала, спокойно глядя юной плантаторше в глаза. Голубыми в черные. Эта молчаливая дуэль продолжалась довольно долго.
– Это дочь одного каторжника, – сказал капитан. – Я должен был доставить его сюда для продажи, но он сдох по дороге, так что эта девчонка…
Лавиния обернулась к отцу.
– Купи мне ее.
Капитан замолк, довольный тем, что ему не нужно продолжать эту неубедительную басню. Мистер Биверсток был человек и неглупый и опытный, он понимал, что капитан что-то утаивает, если уж не впрямую врет. Сомнение выразилось в хриплом покашливании.
– Папа, – в голосе маленькой черноволосой фурии прозвенело несколько гневных нот, – папа, я хочу, чтобы ты мне ее купил!
– Н-да, – мысленно взвесив все «за» и «против» и понимая, что если в конце концов эта сделка каким-нибудь образом окажется незаконной, основная часть вины ляжет на этого торговца рабами, плантатор сказал, внутренне уже склоняясь к тому, чтобы выполнить просьбу дочери:
– Дело в том, что мне еще ни разу не приходилось покупать рабов с белым цветом кожи…
– У Стернсов и у Фортескью, папочка, есть белые рабы. Ты разве не помнишь?
– Н-да, а как ее зовут? – снова обратился мистер Биверсток к капитану.
– Эй.
– Эй? Что это за имя?
– Она не откликается ни на какое другое – ни христианское, ни сарацинское, ни индейское. Мы сначала думали, что она вообще глухонемая.
Мистер Биверсток укоризненно повернулся к дочери:
– Вот видишь, немая.
– Нет, нет! – поспешил вмешаться капитан. – Мне кажется, что она просто не знает ни одного известного нам языка. Я пробовал обращаться к ней и по-французски, и по-испански, один матрос у меня знает арабский, другой – датский, но ни с кем она говорить не захотела. Между тем, могу поклясться, слуху нее в полном порядке.
– А что же ее отец, каторжник, он с ней на каком разговаривал?
Гринуэй заморгал быстро-быстро и стал смотреть в сторону. Впрочем, он чувствовал, что старик плантатор ловит его не всерьез, как бы играя, как кошка с мышкой.
– Папа! – еще жестче и нетерпеливее сказала Лавиния.
– Ладно, – усмехнулся мистер Биверсток, довольный тем, что посадил эту корабельную крысу в лужу и показал, что Биверстока не проведешь, – ладно. Сколько вы хотите за нее получить?
– Ну… четыре фунта.
– Что?! Половину цены вот этого парня? – Биверсток энергично потыкал стеком в потный, мускулистый бок ближайшего раба.
– Но она все же человек с белым цветом кожи, – ехидно заметил слегка оправившийся от смущения капитан.
– Это обстоятельство не в вашу пользу, – не менее ехидно сказал покупатель.
Препирательства могли продолжаться еще довольно долго, если бы не настойчивость Лавинии. Вскоре белокурая, голубоглазая девочка по имени Эй была куплена плантатором Биверстоком для своей обожаемой дочери за три фунта и пять шиллингов.
Спустя две недели после описанных выше событий губернатор Ямайки полковник Фаренгейт ранним утром проснулся в своем кресле в искусственном полумраке роскошного кабинета. С тех пор, как два месяца назад умерла от лихорадки его любимая дочь Джулия, сорокапятилетнего губернатора мучила жестокая бессонница. Он даже не пробовал ложиться и коротал ночи в кресле за чтением старинных книг, приводил в порядок многолетнюю личную переписку. Дворецкий, старый мулат Бенджамен, бесшумно появлялся в кабинете с новой свечой, когда огарок предыдущей начинал чадить и потрескивать.
Узкие полоски света, пробивавшиеся сквозь деревянные жалюзи, лежали на вощеном паркете, попискивали яркокрылые альтависты в кронах деревьев за окнами. Губернатор протянул руку к колокольчику, стоявшему на столе рядом с бронзовым подсвечником, изображавшим охотящуюся Артемиду. Рядом стоял второй, выполненный в форме спасающегося бегством Актеона. Эту бронзовую пару подарила полковнику Фаренгейту жена, умершая пять лет назад от той же самой болезни, что унесла недавно дочь. Он не убирал их со стола, хотя смотреть на них ему было тяжело.
Губернатор позвонил. Мелодичный, приятный и какой-то одинокий звук разнесся в сонном воздухе дворцового утра.
Дворецкий явился мгновенно.
– Бенджамен, пошли кого-нибудь, пусть пригласят ко мне мистера Хантера.
– Осмелюсь доложить, милорд, мистера Хантера нет сейчас в Порт-Ройяле.
– Где же он?
– Мистер Хантер вышел на «Мидлсбро»…
– Да-да, я вспомнил, – губернатор встал. – Умываться, Бенджамен.
Через двадцать минут, освежившись, переодевшись, полковник Фаренгейт велел заложить коляску и подать ему его плащ. Несколько слуг бросились выполнять приказания. Только Бенджамен понял, о каком именно плаще идет речь, и лично направился в дальнюю гардеробную. Об этом плаще в прежние времена среди слуг ходило немало рассказов. Говорили, что он оберегал спину полковника еще в те времена, когда он не был полковником и даже не состоял на королевской службе, а бороздил моря под вольным флагом рыцарей берегового братства. Тому минуло минимум десять лет, и многое в этих историях, охотно рассказываемых также во всех тавернах и кабаках и к востоку и к западу от Наветренного пролива, стало напоминать сказку или легенду. А люди новые в этих местах и познакомившиеся с его превосходительством губернатором Ямайки недавно лишь недоверчиво улыбались, когда их пытались уверить, что этот благородный, сдержанный, справедливый и образованный джентльмен когда-то носился по палубе с абордажной саблей в руке, выпивал за раз полбочонка рому и привязывал пленных испанских купцов к жерлам заряженных пушек, добиваясь таким образом сведений о припрятанных богатствах.
Бенджамен, перешедший вместе со своим хозяином в эту новую жизнь из той легендарной и видевший все своими глазами, теперь уже и сам иногда сомневался: а было ли все это? Может быть, и он сам, барбадосский мулат по имени Бенджамен, прослужил всю жизнь дворецким в этом элегантном и уютном дворце, а не был выкуплен пятнадцать лет назад из колодок на невольничьем рынке на Тортуге капитаном Фаренгейтом? И только когда старый слуга брал в руки этот простой шерстяной, местами заштопанный, местами прожженный пороховыми искрами плащ, его память стряхивала с себя наваждение сонной жизни, и юношеское волнение заставляло трепетать сердце двухсотпятидесятифунтового гиганта.
Прежде чем покинуть дворец, губернатор осторожно ступая квадратными каблуками своих башмаков по узорному паркету, подошел к двери, за которой спал его сын Энтони. Дверь была слегка приоткрыта, и было видно, что мальчик разметался на простынях.
– Сегодня он спал спокойно?
– Да, милорд.
Они спустились во двор, коляска была уже готова.
– Прикажете сопровождать вас, милорд?
– Не надо, Бенджамен, пусть кто-нибудь из грумов.
Порт-Ройял располагался уступами на склонах невысоких гор, поросших мангровыми зарослями. От ворот губернаторского дворца вниз к набережной спускалась извилистая дорога, присыпанная белой пылью. Его превосходительство велел доставить себя к собору святого Патрика. Вслед за коляскою, запряженною парою мулов, трусили четверо рослых негров в белых штанах, с мушкетами – что-то среднее между свитой, положенной по чину, и охраной, которая была скорее обременительна, чем необходима.
Настоятель собора отец Джонатан встретил губернатора вежливой улыбкой. Старый ирландец знал, что полковник появляется в его духовной вотчине, когда душа требует облегчения, но нуждается для этих целей не в беседе с Богом или с ним, отцом Джонатаном, а в помощи церковного сторожа Стенли Доусона, с которым он, по слухам, полтора десятка лет назад занимался на просторах Карибского моря делами отнюдь не богоугодными.
– Рад вас видеть в добром здравии, – пропел святой отец, рассматривая лицо высокого гостя. Оно никогда не отличалось здоровым румянцем, а теперь и вообще напоминало посмертную гипсовую маску.
– Здравствуйте, святой отец. Как вы уже, наверное, поняли, мне нужен этот бездельник Доусон.
Настоятель развел руками.
– Вы, наверное, еще не слышали. Дело в том, что у нашего сторожа прорезался проповеднический дар.
– Что вы имеете в виду?
– Именно то, что сказал. Он заявил мне с неделю назад, что ему явился святой Франциск, и в результате переговоров с ним Стенли понял, что должен оставить свои обязанности, надел рубище, взял в руки суковатую палку и отправился в сторону Армстоуна – хочет нести слово Божье неграм на плантациях Стеффенса и Фортескью.
– Вряд ли им это понравится.
– Неграм?
– Плантаторам.
Святой отец вежливо улыбнулся.
– В свое время он неплохо прокладывал курс моего корабля, – проговорил негромка, как бы про себя, его превосходительство, – посмотрим, как он теперь будет предводительствовать заблудшими душами.
Настоятель воздержался от комментариев.
Губернаторский кортеж направился к трактиру «Золотой бушприт». Его появление под сводами этою заведения с совершенно испорченной репутацией произвело переполох, впрочем, не чрезмерный. Очень не часто, но, можно сказать, регулярно, его превосходительство имел обыкновение здесь появляться, чтобы пообщаться с хозяином Бобом Боллом. Встретила полковника жена хозяина заведения, Ангелина, ни обликом, ни характером не соответствующая своему имени тетка. Она, как и настоятель собора Святого Патрика, изучила привычки губернатора. Она знала, что его появление в трактире свидетельствует о том, что на душе у него неспокойно, но при этом для лечения внутренних ран ему требуется отнюдь не ром, а старый товарищ Бобби, бессменный боцман капитана Фаренгейта.
– Здравствуй, Ангелина.
– Здравствуйте, ваше превосходительство. – Почему мой старый друг меня не встречает?
– Позавчера его петух Ястреб победил Красного Дьявола, и Бобби решил на радостях уничтожить все запасы спиртного на Ямайке, можете спуститься в подвал и поговорить с ним, только не думаю, что это доставит вам удовольствие.
Губернатор мрачно кивнул, надел шляпу и медленно вышел из трактира. Так же медленно, и как бы с трудом, поднялся в коляску.
– Итак, – сказал он сам себе негромко, – один изменил мне с морем, другой с Богом, третий с ромом.
– Что вы сказали, хозяин? – обернулся грум.
– Едем домой.
Коляска покатила по набережной, вызывая некоторый интерес у редких зевак. Мулаты вскочили с корточек и затрусили следом.
– Стой! – вдруг сказал вознице полковник, выпрямляясь на сиденье. – Ты знаешь дорогу к дому Биверстоков?
– Конечно, хозяин, такой красивый дом.
– Я чрезвычайно рад вашему визиту, милорд, – сказал мистер Биверсток, поднимая бокал с портвейном и любезно улыбаясь гостю. Он лгал; дело в том, что он был скорее удивлен тем, что губернатор сидит здесь, у него, на его мраморной террасе под навесом из пальмовых листьев. В дружеских отношениях они не состояли, и приглашения, которые богатейший плантатор острова посылал первому лицу колонии, носили скорее характер актов вежливости, чем проявлений искренней приязни. Хотя поводов для взаимного недовольства или недоверия между двумя самыми значительными гражданами Ямайки не было. Так что формально в визите губернатора не было ничего странного.
То небольшое таможенное дело, ради которого полковник Фаренгейт якобы навестил мистера Биверстока, было давно улажено, и теперь два джентльмена отдавали должное великолепной индейке под ореховым соусом. В основном отдавал должное хозяин – он всегда был большим охотником выпить и закусить. При этом он еще умудрялся поддерживать беседу. Его превосходительство едва следил за болтовней плантатора, время от времени кивая, но почти всегда невпопад. Причиной его рассеянности было отнюдь не пренебрежение к собеседнику, а небольшая стайка детей, резвившихся на лужайке невдалеке от террасы.
– Дети племянницы, приехали с матерью погостить с Барбадоса. Слишком они развеселились. Слокам, – сделал мистер Биверсток знак лакею, – передай мисс Лавинии, что эти крики нам мешают.
– Нет, нет, – быстро сказал полковник, – не надо, Слокам. Ничуть они нам не мешают. Давайте лучше вы пьем, Биверсток. И скажите мне, что это за девочка, вон та, с белыми волосами?
– А-а, – недовольно протянул плантатор, отхлебывая из своего бокала, – как вам сказать…
Он был недоволен собой за то, что не придумал заранее подходящей версии для подобного случая. Хотя, с другой стороны, почему он должен напрягать свою голову из-за этой дурацкой девчонки?! Кто мог знать, – что губернатор заинтересуется такой мелочью, как она? Кто мог знать, что губернатор вообще приедет сюда? Сказать, что она дочь племянницы – смешно, уж слишком она отличается от них всех. Сказать, что прислуга – но тогда почему она играет с господскими детьми? Говорить правду: что она была куплена как игрушка для Лавинии – нс хотелось. Всем был известен щепетильный характер губернатора. Как и все бывшие грабители и убийцы, он был слишком законопослушен. До каких-то серьезных неприятностей история с этой девчонкой вряд ли может дойти, но все же как-то неловко.
Пока Биверсток перебирал эти мысли, полковник следил за тем, как развивается игра. И чем дальше, тем эта игра нравилась ему все меньше… Белокурая девочка, опустив руки, стояла в траве, а вокруг прыгали, кричали, размахивали руками пятеро или шестеро детей племянницы во главе с Лавинией. Время от времени они дергали белокурую девочку за рукав или за край платья, а то и за локон. Это развлечение – чем дальше, тем больше – напоминало обыкновенную травлю. Причем девочка с белыми волосами не плакала, не огрызалась и лишь время от времени оглядывалась на самых агрессивных шалунов. В лице ее не выражалось ничего, хотя бы отдаленно свидетельствующего от испуге.
– Жулик этот, с «Девоншира», что-то около месяца назад заходил к нам в Порт-Ройял.
– Работорговец?
– Он.
– Ну и что?
– Ну и среди прочих, среди негров, сидит, смотрю, плачет. Гринуэй сказал, что это дочка какого-то каторжника. Ну и пожалел я сироту.
– Он продал ее вам?
Биверсток покашлял.