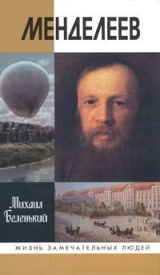
Текст книги "Менделеев"
Автор книги: Михаил Беленький
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 37 страниц)
Таких писем, способных навсегда испортить отношения с адресатом, Менделеев написал в своей жизни множество, но почти никогда не отправлял сразу – откладывал, чтобы потом перечитать. А перечитав, часто решал от отсылки отказаться. Вышеприведенное послание тоже до почты не дошло. Дмитрий Иванович сделал на нем надпись: «Это письмо не отправлено», – и просто положил в свой архив. И слава богу, а то ведь отец русской органики мог за эту «веточку химии» обидеться на всю оставшуюся жизнь.
В конце марта 1870 года Дмитрий Иванович был привлечен к расследованию сенсационного убийства отставного надворного советника Николая фон Зона. 7 ноября 1869 года фон Зон отправился днем в Благородное собрание и исчез. Разыскные действия полиции результата не дали. И только в середине декабря благодаря явке с повинной одного из участников преступления дело было раскрыто. Организатором и непосредственным исполнителем убийства оказался некий Максим Иванов, содержатель подпольного борделя и химик-любитель. Сферой его естествоиспытательских интересов с некоторого времени стали яды, действенность которых он проверял на кошках и собаках. Как только Иванову удалось разработать «надежный» состав отравы, он решился испытать его на человеке с целью убийства и грабежа. Первой жертвой и стал фон Зон, которого злоумышленник встретил в увеселительном заведении «Эльдорадо». Вместе с сутенером была одна из его барышень по прозвищу Саша Большая. Престарелый сластолюбец охотно согласился продолжить отдых на частной квартире «с женщинами и шампанским». Поехали к Иванову. Выпивка быстро подействовала, фон Зон охмелел. Саша отвела его в спальню, где вытащила все имевшиеся при старике деньги. Не успела она передать их хозяину, как в общую залу вернулся частично протрезвевший фон Зон и потребовал вернуть похищенное. Ему тут же сказали, что над ним просто подшутили, что деньги целы, и предложили выпить на мировую еще одну бутылку вина. Тут-то Иванов и подмешал в него раствор ядовитого вещества. После первого же глотка фон Зон повалился на диван. Остальное бесчувственной жертве влили в рот насильно, потом для верности задушили и несколько раз ударили по голове утюгом. Явившийся с повинной свидетель рассказал также, что труп был уложен в чемодан и отправлен по железной дороге в Москву. И точно – в московском багажном отделении сыщики быстро нашли большой чемодан, ставший гробом для старого петербургского ловеласа. Это убийство получило огромный общественный резонанс, поскольку, с одной стороны, поведало о звериной жестокости городского дна, а с другой – характеризовало моральные устои петербургского дворянства.
Имя фон Зона стало нарицательным, символом старческого цинизма и разврата. Этому немало способствовал талант Ф. М. Достоевского, дважды использовавшего в своей прозе образ пресловутого статского советника. В «Подростке» старый князь Сокольский, боясь за себя, говорит Аркадию: «Послушай, ты знаешь историю о фон Зоне – помнишь?.. Как ты думаешь, здесь ничего не может со мной случиться… в таком же роде?» В «Братьях Карамазовых» Федор Павлович Карамазов (чем не духовный брат фон Зона?) интересуется: «Ваше преподобие, знаете вы, что такое фон Зон? Процесс такой уголовный был: его убили в блудилище – так, кажется, у вас сии места именуются, – убили и ограбили и, несмотря на его почтенные лета, вколотили в ящик, закупорили и из Петербурга в Москву отослали в багажном вагоне, за нумером». И еще раз пожилой развратник упоминается в диалоге старика Карамазова с Миусовым у входа в монастырь: ««Преназойливый старичишка», – заметил вслух Миусов, когда помещик Максимов побежал обратно к монастырю. «На фон Зона похож», – проговорил вдруг Федор Павлович. «Вы только это и знаете… С чего он похож на фон Зона? Вы сами-то видели фон Зона?» – «Его карточку видел. Хоть не чертами лица, так, чем-то неизъяснимым. Чистейший второй экземпляр фон Зона. Я этого всегда по одной только физиономии узнаю». – «А, пожалуй; вы в этом знаток»». Творческая судьба Достоевского сделала всё возможное, чтобы он, находясь во время работы над обоими произведениями в Старой Руссе, не забыл использовать историю старого грешника, тем более что последний был однофамильцем еще одного доказанного старорусского прототипа старика Карамазова – Карла Карловича фон Зона 1-го, старого волокиты, плута и жадины, скончавшегося почти одновременно с питерским фон Зоном. [32]32
Коль мы отвлеклись на рассказ о литературных последствиях этого уголовного дела, нельзя не вспомнить его (опосредованный, через Достоевского) отголосок в современном романе «Прощай же, книга!» японца Кэндзабуро Оэ. Главный герой романа – реальный культовый японский писатель Юкио Мисима, в 1970 году совершивший с несколькими друзьями попытку националистического государственного переворота и после неудачи сделавший себе сэппуку. В романе Оэ описывается планотстранения Мисима от политической деятельности: его должны были соблазнить и таким образом отвести от неминуемой гибели. План называется «Мисима – фон Зон»; правда, соблазнить героя должны были не женщины, а мальчики, поскольку он был гомосексуалистом.
[Закрыть]
Для Менделеева это был не первый процесс. К этому времени Дмитрий Иванович был довольно опытным судебным экспертом – начиная с 1866 года его многократно приглашали на предварительное следствие для проведения научных экспертиз в Петербургский окружной, Коммерческий и другие суды. С конца 1867 года Менделеев – член Медицинского совета Министерства внутренних дел, являвшегося высшей судебно-медицинской инстанцией России. Несмотря на занятость, ученый никогда не отказывался от поручений Медицинского совета. Производимые им экспертизы касались самых разных вопросов: восстановления вытравленного текста, выявления подделки денежных купюр, заключений о качестве товаров (включая пищевые продукты, вино и пиво) и, конечно, отравлений.
Между тем сотрудничество эксперта с судебными органами было в те годы делом непростым. Порядок следствия в недавно открытых (по реформе 1864 года) судах явно был разработан плохо, а регламент экспертизы – и вовсе никак. На место преступления выезжал приглашенный судебный врач, а после завершения предварительного следствия звали другого эксперта, который, по сути, должен был оценить правильность действий своего коллеги. Менделеев уже вызывался для подобной экспертизы по делу о смерти коллежского асессора Курочкина, где вынужден был давать заключение только на основании ознакомления с результатами исследования, проведенного другим специалистом. Дмитрий Иванович, ценивший прежде всего не чье-то мнение, а факты, анализ и собственноручно поставленный опыт, использовал суд над убийцами фон Зона для объявления своей позиции: на вопрос судьи о точности ранее проведенной экспертизы он ответил: «Для того чтобы быть добросовестным экспертом и сказать правду, химик должен сделать научный опыт».Тем не менее он изложил суду свои предположения.
В деле фон Зона особенно неясным был эпизод, связанный с отравлением самодельным ядом. По всей видимости, Менделееву удалось доказать, что составленное Ивановым зелье ко времени использования потеряло (или так и не приобрело) убийственную силу. Об этом свидетельствует пассаж, развернутый в суде знаменитым адвокатом Спасовичем, защищавшим участницу преступления Сашу Большую: вещество, приготовленное Ивановым, не имело отравляющих свойств, а поскольку отравление предполагает использование веществ, обладающих отравляющими свойствами, то Иванов его не совершал и, следовательно, не может иметь сообщников отравления. Владимир Данилович Спасович, удивительный судебный оратор, в защитительной речи сумел вызвать жалость к подсудимой, подробно описывая не скрытые достоинства, а всю мерзость ее внутреннего мира вкупе с умственной и душевной неразвитостью. В итоге он, как водится, предложил осудить не свою подзащитную, а те обстоятельства жизни, которые сделали ее таким чудовищем. Благодаря адвокатской речи, вызвавшей полное сочувствие публики, Александра Авдеева (таково имя Саши Большой по «пашпорту») избежала смертной казни. Иванов же повесился в камере, не дожидаясь исполнения смертного приговора.
Вскоре после процесса Дмитрий Иванович выступает в газете «Судебный вестник» со статьей «Об экспертизе в судебных делах», где излагает условия, при которых можно получить действительно объективное заключение эксперта. Читая ее, убеждаешься, насколько он обогнал свое время и в этом деле, которое тоже знал досконально. Большая часть его требований реализована только сегодня, а кое-что и сейчас считается делом будущего. Он же в своей криминалистической работе по собственной воле подчинялся требованиям, которые считал единственно верными, и не упускал возможности отчитать коллег за расхлябанность. Давая заключение о смерти присяжного поверенного Ахочинского, он писал: «Взята была одна из подлинных банок, но она оказалась столь слабо перевязанной, что можно снять ее покрышку, не вредя печати. Таковые обстоятельства, по моему мнению, могут рушить всё значение судебно-химического исследования».По делу об обнаружении мышьяка в олове, используемом для лужения посуды, он буквально обрушивается на эксперта, профессора-фармаколога А. В. Пеля, который ограничился поверхностным изучением вещественных доказательств, зато подкрепил его авторитетом французских коллег: «Мнение французских ученых, высказанное к письме к профессору Пелю, я не могу принять, пока не будут выяснены опытные данные, его подтверждающие и критику выдерживающие». (Кстати, через 20 лет Дмитрий Иванович разразится серией яростных писем в защиту изобретенного Пелем спермина и пойдет на скандал в Медицинском совете.) Возможно, самым показательным в смысле добросовестности и скрупулезности Менделеева-криминалиста было его заключение по делу о загрязнении Невы сточными водами Невской ни точной мануфактуры. Для того чтобы убедиться в правильности предварительных выводов, Менделеев не только произвел химический анализ речной воды возле мануфактуры и собрал данные о количестве сырья и топлива, расходуемых на ней при различных технологических процессах, но и добыл полную информацию о всех промышленных предприятиях, расположенных выше по течению, о размерах всех отстойных колодцев и протяженности их стоков.
Два года, последовавшие за открытием Периодического закона, были у Менделеева, как всегда, насыщены разнообразными занятиями. Он продолжал читать лекции, работал над вторым изданием «Основ химии», выступал с докладами, активно участвовал в жизни научного сообщества. Время, и без того неспокойное, становилось совсем тревожным – Европа скатывалась к новой войне. Германию и Францию всё более накрывало облако едких шовинистических настроений, способных, как оказалось, отравить даже высоколобых естествоиспытателей. Взаимные выпады делались всё оскорбительнее. Русские ученые, с благодарностью хранившие память о немецких и французских университетах, испытывали понятное чувство неловкости и предпочитали не вмешиваться в полемику хорошо им знакомых и вполне ими уважаемых персонажей. Но в какой-то момент они почувствовали себя глубоко оскорбленными.
За две недели до Франко-прусской войны мюнхенский профессор Якоб Фольгард ополчился не на кого-нибудь, а на основателя современной химии великого Антуана Лавуазье, гениального ученого, обезглавленного в 1794 году французскими революционерами. [33]33
Перед казнью Лавуазье попросил о помиловании, но получил ответ: «Революция не нуждается в химиках». «Всего мгновение потребовалось им, чтобы срубить эту голову, и во сто лет не будет такой другой», – с горечью отозвался об убийстве Лавуазье математик Жозеф Лагранж.
[Закрыть]Теперь память о несчастном гении, открывателе кислородной природы горения, была потревожена немецким коллегой, приверженцем опровергнутой Лавуазье теории флогистона – мифической огненной субстанции, якобы наполняющей все горючие вещества: «Лавуазье не открыл ни одного нового тела… Ни один способ получения химического препарата, ни одна химическая реакция не носят его имени… Своим успехом он обязан честолюбию, сообразительности, образованию физика и дилетантской точке зрения, благодаря которой он был свободен от веры во флогистон». Фольгарда поддержал лейпцигский профессор Адольф Вильгёльм Герман Кольбе. «Скорбя» о «глубоком упадке» химии во Франции (и это в то время, когда там в полную мощь работали Дюма, Вертело, Вюрц и десятки других талантливых химиков), Кольбе договорился до того, что «Лавуазье даже не был химиком». Националистические выпады задыхающихся от злобы и зависти Фольгарда и Кольбе были встречены громким протестом Русского химического общества. Зинин, Бутлеров, Менделеев и Энгельгардт незамедлительно опубликовали письмо в «St.-Petersburger Zeitung», в котором дали гневную отповедь обоим клеветникам. «Кольбе написал о Лавуазье и лживо, и гадко, – прокомментировал позже Менделеев, – и потому мы ответили ему». Реакция Дмитрия Ивановича в данном случае была единственно возможной. Престиж науки, ее высокая чистота всегда были, по его твердому внутреннему ощуущению, средством излечения больного человечества, а тут вдруг он увидел, как зараза начинает проникать в лекарство. Нельзя снести, когда ученый ведет себя «и лживо, и гадко»…
Статья в защиту Лавуазье ни в коей мере не являлась политическим документом, а была просто естественной реакцией приличных людей. Менделеев воспринимал войну в Европе, пожалуй, лишь в качестве помехи для поездки за границу. Ему надо было пообщаться с зарубежными коллегами лично, самому рассказать им о Периодическом законе. Он, конечно, писал статьи, отсылал в научные журналы. Там их печатали, кто-то читал… Было не до того. Пруссия во главе стремящихся к объединению германских земель все-таки заставила Францию расчехлить пушки. Французские пушки были бронзовые, а у немцев – стальные и дальнобойные. Те самые крупповские орудия, которые немцы несколько лет назад показывали в Париже на Всемирной выставке и на которые гордые французы, по всей видимости, не обратили внимания. Еще у Пруссии был подробнейший план войны, разработанный начальником Генштаба Мольтке-старшим. У Франции плана не было, зато были скорострельные 25-ствольные митральезы, стрелявшие картечью, и император Наполеон III, лично ставший во главе армии, что, по его мнению, должно было перевесить все прусские пушки и планы. Война продлилась девять месяцев, немцы осадили Париж и взяли в плен императора. Его армия была разбита. Французский народ создал новую миллионную армию, однако переломить ход войны не удалось, поскольку маршал Базен сдал Мец и сложил оружие вместе со своим 170-тысячным войском. Французская империя пала, осажденный Париж слал во все стороны аэростаты, почтовых голубей и сотрясался народными восстаниями. Правительство между тем вступило в тайные переговоры с немцами. В конце февраля Париж капитулировал, немцы демонстративно вошли во французскую столицу и через несколько дней ее покинули. Вслед немцам рвануло еще одно народное восстание и была создана Парижская коммуна. Жизни ей было отмерено 72 дня. Коммунаров расстреляли не немцы, а свои. Франция глотала дым поражения и переживала кровавую обиду. Германия, которой теперь ничто не мешало слиться в единую империю, смотрела свысока.
Мирный договор еще не был заключен, а русский профессор Менделеев уже спешил сесть в берлинский поезд. Он ехал в заграничную поездку по своей надобности, без всяких служебных поручений. В Берлине он попал на заседание Химического общества, членом которого был избран совсем недавно, и пообщался с коллегами Раммельсбергом, Шерингом, Байером и Вихельхаузом. Поговорили о менделеевской классификации элементов и заодно обсудили другие открытия последнего времени. Дмитрий Иванович, почувствовавший, что воспринимается здесь серьезно и уважительно, отписал жене: «Отлично провел время среди берлинских химиков». Затем, наполненный новыми мыслями и свежими научными известиями, он отправился в путь через знакомые города – Герлиц, Лейпциг, Геттинген, Бремен…
В Бремене теперь жила Агнесса Фойхтман с дочерью. Менделеев хотя и сомневался в своем отцовстве, но формально его признавал, выплатил Агнессе при рождении ребенка две тысячи гульденов и до самого замужества Розамунды высылал деньги на ее воспитание. Встреча прошла вежливо и без особых эмоций. Дмитрий Иванович, ценивший каждую минуту, прямо в ходе этого визита уселся за письмо «голубчику Физе», где описал свое впечатление от немецких химических лабораторий в Лейпциге и Геттингене и далее сообщил: «А вчера приехал в Бремен. Роза здорова и выросла, но ее отец(Агнесса вышла замуж. – М. Б.) не отпускает(вероятно, Менделеев приглашал девочку погостить в своей семье. – М. Б.). Он, кажется, хороший человек, но едва ли даст образование ребенку. Сейчас Роза стоит тут, передо мною, и просит поклониться тебе и поцеловать Володю и Лелю. Ей уже 10 лет, она хорошо читает».
Из Бремена Менделеев двинулся в Ганновер, оттуда – в Бонн, где он душевно пообщался со старым знакомцем механиком и стеклодувом Гейслером, тем самым, что когда-то изготовил для него «неподражаемо хорошие приборы».Конечно, он не мог при этом не вспомнить другого мастера – Саллерона, но дорога к старому другу в послевоенный и послереволюционный Париж была всё еще рискованна. Слава богу, многие французские ученые, и среди них Дюма и Мариньяк, пережидали смутные времена в Женеве. Туда он и направился, всего на несколько дней задержавшись в Гейдельберге. Заглянул в Badischer Hof, вспомнил старых друзей и подруг, поел из знакомой посуды, с умилением попил чаю из стаканов в «русских» подстаканниках. Здесь когда-то они сиживали с Сеченовым, Бородиным и Савичем. Савича уже нет, Бородин живет полной жизнью – профессорствует, учит женщин-врачей, пишет музыку. А Сеченову не повезло – после выхода «Рефлексов головного мозга» для него начались плохие времена. Цензурный комитет обвинил автора «в материализме» и всех смертных грехах, вплоть до того, что он, «разрушая моральные основы общества в земной жизни, тем самым уничтожает религиозный догмат жизни будущей». Тираж сожгли. Начальство пригрозило увольнением и даже уголовным преследованием. В конце концов он сам ушел из Медико-хирургической академии – не мог стерпеть, что их общего друга Илью Мечникова забаллотировали при выборах в профессора. За что же травили? Может, за слова: «Смеется ли ребенок при виде игрушки, горько ли улыбается Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге – везде окончательным фактором является рефлекторное мышечное движение – ответ на возбуждение, поступающее в мозг из внешней среды»? Неучи! Взял, конечно, старого друга к себе, в университетскую лабораторию. Жаль, поработать вместе пришлось недолго – уехал Иван Михайлович преподавать в Одесский университет. И Мечников там же, в Одессе…
В Гейдельберге хотелось повидаться с Эрленмейером, но тот, как назло, оказался в отъезде (через неделю Менделеев отыщет его в Мюнхене). Зато Дмитрий Иванович встретился с А. Ладенбургом, с которым когда-то познакомился в лаборатории Р. Бунзена и Г. Кирхгофа. Этому человеку стоило пожать руку – за пару лет до войны он опубликовал «Лекции по истории развития химии от Лавуазье до нашего времени». К тому же Ладенбург оказался горячим сторонником менделеевского открытия и был уверен в его приоритете. В Гейдельберге Менделеев не упустил возможности совершить выгодную сделку – продал местному коллекционеру и торговцу Г. Блатцу 88 граммов привезенного с собой циркона (некоторое его количество он совершенно бесплатно послал английскому ученому Г. Роско), а у того накупил необходимые для работы минералы, в том числе гадолинит, ортит, вольфрам и лейцит.
Наконец он добрался до Женевы. Старик Дюма был полон доброжелательности, и дело было не только в симпатии к молодому русскому химику. Француз очень заинтересовался периодической таблицей и исследованиями Менделеева в области редкоземельных элементов. Говорили много и по существу. Дюма, с ходу вникший в суть вопроса, рассуждал точно и копал глубоко. Расставаясь, он попросил держать его в курсе всего, что происходит вокруг и «внутри» таблицы. Это была серьезная поддержка. Но абсолютное доказательство его правоты могло принести только время. «Из Женевы перебрался сюда, в Веве, чтобы немного свести мысли и вздохнуть… Дела, какие следовало, собственно говоря, все обделал и теперь надо воротить оглобли назад».В середине июня Дмитрий Иванович уже был дома.
Несмотря на привычное обилие петербургских и бобловских занятий, основное внимание Менделеев по-прежнему отдавал разработке своего учения о периодичности. Таблица быстро совершенствовалась. Важным шагом стало исследование форм кислородных и водородных соединений, в ходе которого ученый открыл еще один принцип периодической системы: высшая форма этих соединений характеризует принадлежность элемента к данной группе (сама идея высшей формы родилась у Менделеева еще в ходе его работы над теорией пределов). Далее он приходит к выводу о неправильном размещении в таблице таллия, свинца и висмута. Сопоставив удельные объемы этих элементов, Дмитрий Иванович сдвигает их соответственно в третью, четвертую и пятую группы. Уран, место которого в третьей группе Менделеев с самого начала считал сомнительным, находит надежный приют в шестой группе как аналог хрома, молибдена и вольфрама. В поисках элемента, способного заполнить пустоту в третьей группе, Менделеев обращает внимание на индий. После детального анализа свойств его соединений и проверки атомного веса этот элемент был помещен в эту группу. Результаты проверки атомного веса индия, которую Дмитрий Иванович производил методом измерения теплоемкости на приборе собственной конструкции, вскоре получают подтверждение от его старого знакомого Бунзена, использовавшего для этого совершенно другую аппаратуру.
Уже к 1871 году таблица приобрела многие важнейшие черты своего нынешнего вида. Тем не менее в России и на Западе она часто воспринималась всего лишь в качестве гипотезы. Скепсис со стороны научного сообщества странным образом поддерживался самим Менделеевым, чья вера в открытие была незыблема. Дело в том, что он и сам не понимал, почему Периодический закон действует именно таким образом. Мощная интуиция, безошибочное ощущение научной истины не могли заменить точного физического объяснения. Такое объяснение было невозможно до разработки модели атома. Великий ум, только что совершивший огромный научный прорыв, оказался в ловушке времени. Его удивительное зрение (вспомним, в детстве он был уверен, что видит две составляющие Сириус звезды) не могло заменить собой полвека исканий лучших умов Европы. Кроме этого – главного – вопроса, неподъемной для одинокого исследователя оказалась проблема поиска и размещения в таблице предсказанных им редкоземельных элементов. Он был готов к кропотливой, однообразной работе, но эта работа должна была давать хоть какой-нибудь результат. Вскоре Менделеев понимает, что тратит время зря. Найдя правильное место для лантана и иттрия, для всех остальных он выбирает промежуточное решение – оставляет семейству редкоземельных элементов почти три ряда таблицы. В декабре 1871 года ученый прекращает свои изыскания в этой области и обращается к совершенно новой тематике – исследованию газов. Впрочем, этот шаг был отнюдь не случайным.
В последние годы жизни Д. И. Менделеев внесет в Периодическую систему еще один, нулевой, период и нулевой ряд, куда он намеревался поместить элемент, в миллионы раз более легкий, чем водород. Ученый даже подобрал ему название – ньютоний. Менделеев полагал, что ньютоний – не только наилегчайший, но и химически наиболее инертный элемент, обладающий высочайшей проникающей способностью. Иначе говоря, Дмитрий Иванович был намерен вписать в свою таблицу мировой эфир, неуловимое вещество, через которое, еще по мнению Пифагора, к нам доходят лучи Солнца. Причем мысль об этом элементе начала формироваться в его голове задолго до семидесятых годов XIX века.
Он не был первым, кто после Пифагора вспомнил об эфире. Странную идею древнего идеалиста повторил в свое время материалист Аристотель, веривший, что природа не терпит пустоты. До XVII столетия понятие мирового эфира, будучи пригодным для любой системы взглядов и вообще не обязательным, существовало, не вызывая никаких драм, пока Ньютон не создал теорию тяготения и не исчислил математически его силу. А чем передается эта сила, ни предшественники Ньютона, ни сам сэр Исаак не знали. Кое-кто – например Декарт – предлагал всё тот же эфир – «тонкую материю» пространства, наделяя его совершенно нереальными свойствами; однако Ньютону, создателю опытной физики, этот эфир не подходил совершенно. Да он поначалу и не был ему нужен: к чему какие-то гипотезы, раз без них можно исчислять движение небесных тел? Но затем Ньютону пришло в голову, что, наверное, что-то в этом роде существует и, проникая сквозь небесные тела, постоянно стремится к Земле, увлекая эти тела за собой. Но тогда почему это движение осуществляется только в одну сторону, ведь тяготению подвластны все тела? Значит, эфир, конкретный и материальный носитель притяжения, все-таки существует? И тут началась мука мученическая. Увидеть эту субстанцию, изучить невидимый эфирный механизм тяготения Ньютон не мог, но он уже был уверен в его существовании, тем более что успел убедиться (испытывая огромное внутреннее сопротивление) в волновой природе света. Значит, частица света пересекает пространство на какой-то волне? На какой же, черт побери?! «Предполагается, – писал он, – что существует некая эфирная среда, во многом имеющая то же строение, что и воздух, но значительно более разреженная, тонкая, упругая… Немаловажным аргументом в пользу существования такой среды служит то, что движение маятника в стеклянном сосуде с выкачанным воздухом почти столь же быстро, как и в открытом воздухе». Но это были наблюдения опосредованные. Стоило Ньютону и его коллегам обозначить приблизительные характеристики эфира, как получался, по определению автора книги «Предчувствия и свершения» И. Л. Радунской, «…монстр, сгусток противоречий, соединение несоединимого, объединение необъединимого. Неуловимее привидения, более разрежен и прозрачен, чем воздух, маслянистее масла…». Этот «монстр» будет мучить гениального британца до конца жизни. В итоге сэр Исаак откажется судить об эфире определенным образом, оставит эту проблему другому гению.
Дмитрий Иванович «увяз» в эфире практически еще при написании «Удельных объемов», когда обратил внимание на встречающееся в ряде исследований нарушение законов Бойля – Мариотта и Гей-Люссака, регламентирующих соотношения между давлением, температурой и объемом газов, а потом в Гейдельберге, когда с непонятным упорством искал механизм взаимодействия молекул. Это ощущение всеобщего межмолекулярного поля, по всей видимости, не покидало его никогда, поэтому вполне естественно, что, убедившись в отсутствии прямых путей к физическому обоснованию Периодического закона, он начал искать разгадку в природе сил тяготения и свойствах передающей среды. Менделеев предполагал, что эфир может быть специфическим состоянием газов при большом разрежении или особым газом с очень малым весом.
Вслед за Ньютоном, наблюдавшим за маятником внутри колбы с выкачанным воздухом, Дмитрий Иванович был намерен разгадать тайну вещества в разреженной газовой среде. Возможно, в этих условиях вещество ослабляет маскировку эфира своими свойствами? Потом он изобретет другие способы охоты за эфиром, но сейчас его больше всего интересуют газы.
Не обращая никакого внимания на то, что он снова покидает химию и уходит в область физики (« Химик, который не есть также физик, есть ничто»), Менделеев вновь, как когда-то в Гейдельберге, начинает конструировать специальное оборудование. Им разрабатывается программа исследования упругости газов и определения термического коэффициента их расширения в широком интервале давлений. Подобные планы требовали весьма значительного финансирования. Оплатить такую работу могло только государство. И тут блестящим образом проявилась способность Менделеева не просто связывать воедино фундаментальные и прикладные проблемы, а оказываться на стыке теоретических и практических исследований.
В данном случае он, полностью погруженный в размышления об эфире и периодичности, кажется, даже не успел осмыслить прикладную ценность знаний о разреженности и упругости газов. Ее заметил председатель Русского технического общества Петр Аркадьевич Кочубей, очень заметный для своего времени человек, недальний родственник хорошо известного Виктора Павловича Кочубея, в 1800-х годах ближайшего сподвижника Александра I, а в 1830-х – знакомца и соседа Пушкина по Литейному проспекту (поэт дружил с его сыновьями и был влюблен в его дочь Наталью, но она предпочла ему богача-графа А. Г. Строганова). Виктор Павлович был пожалован за службу сначала графом, а потом князем, с него началась княжеская ветвь на родовом дворянском древе Кочубеев. А Петр Аркадьевич происходил из докняжеского побега этого древа, что совсем не мешало ему быть уважаемым при дворе и влиятельным в научной среде человеком. В январе 1872 года тайный советник Кочубей пришел в гости к Менделееву и застал его за «кабинетным штурмом» загадок газовой среды. Стоило искушенному Петру Аркадьевичу узнать, в чем дело, как всё начало устраиваться. В предисловии к книге «Об упругости газов», изложенном в виде письма П. А. Кочубею (ну чем не Сервантес с его посланием к герцогу Бехарскому в начале «Дон Кихота»?), Дмитрий Иванович так описывает эту встречу: «Однажды в январе 1872 года Вы, Петр Аркадьич, застали меня среди таких занятий и пожелали узнать мое мнение и проекты, а узнав их, Вы тогда же внушили мне надежду достать средства для работы, потому что Вы посмотрели на необходимость новых исследований над упругостью газов со стороны применения ее во многих областях техники. Вы припомнили, что пружина газов есть источник силы, действующей не только в разнообразных применениях пороха и других средств для получения сжатых газов, но и во многих, год от года умножающихся газовых двигателях, каковы, например, калорические машины и те, коими сверлят скалы… Таким образом, связав потребности теории и практики, Вы в качестве председателя Императорского Русского технического общества отыскали средства, необходимые для выполнения исследований, мною предположенных…»
Герцог Бехарский, он же маркиз Хибралеонский и прочее – имя вымышленное, оно придумано автором в качестве пародийного «прикрытия» романа. Петр Аркадьевич Кочубей – личность абсолютно реальная: почетный академик, собиратель уникальной коллекции минералов и т. п. Но эта аналогия наводит на некоторые мысли: может быть, Менделеев не хуже Кочубея догадывался о роли сжатых газов в оружейном деле и промышленности? Может быть, непростой Дмитрий Иванович сознательно уступил своему январскому гостю счастье прозрения, которое, как известно, часто вздымает океан созидательной энергии? В пользу этого предположения говорит и тот факт, что Менделеев сделал всё, чтобы не брать на себя единоличную ответственность за проект.
Начатые работы был и переданы под эгиду Русского технического общества, которое избрало специальную комиссию под председательством физика и признанного авторитета в области конструирования, производства и арсенального содержания артиллерийских орудий генерала А. В. Гадолина. Менделееву было поручено то, чего он и добивался: заведование опытами. Средства для работы со сжатыми газами Кочубей, с помощью заинтересовавшегося новой идеей великого князя Константина Николаевича (тот даже сам навестил Дмитрия Ивановича в его лаборатории), добыл из бюджетов военного и морского ведомств – по пять тысяч рублей. В университете было выделено помещение для новой лаборатории и предоставлены средства для ее оборудования. Часть приборов взялся изготовить механик Пулковской обсерватории Георг Константинович Брауэр, но за выполнение остальных, особенно имеющих стеклянные трубки и шары, в России не брались. А еще нужны были точные образцы метра, килограмма и разновесы. В июне 1872 года Менделеев в сопровождении лаборанта Шмидта выехал за границу за оборудованием.








