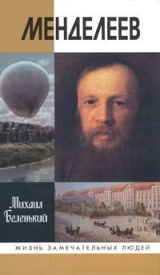
Текст книги "Менделеев"
Автор книги: Михаил Беленький
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц)
Глава третья
МАГИСТР
Самостоятельная жизнь старшего учителя Дмитрия Ивановича Менделеева началась с крупного скандала. Вслед за великолепными знаниями золотой медалист явил миру тяжелый, взрывной характер, усмирить который обычным внушением, как оказалось, было не под силу ни директору Давыдову, ни руководству Министерства просвещения, напутавшему с распределением выпускников физико-математического факультета. Вообще-то напутать в этом вопросе было мудрено, поскольку всех выпускников можно было пересчитать по пальцам. Чиновничий ум сломался на необходимости учесть, что выпускники, назначенные для подготовки к магистерскому званию – на всём факультете их оказалось пять, – нуждаются в работе недалеко от университета или лицея. Поначалу министерские вроде бы сумели справиться с этой кадровой головоломкой, но тут всё спутала неожиданно открывшаяся вакансия старшего учителя естественных наук в Перми, куда сразу запросился Иван Лейман, ранее распределенный в Симферопольскую гимназию. Ему пошли навстречу, но назначение в Симферополь почему-то дали Менделееву, а в Одессу решили отправить математика Янкевича. Оба энергично запротестовали. Протест был удовлетворен лишь частично: Янкевич получил право хлопотать о самостоятельном трудоустройстве, но Менделеев все-таки должен был занять вакансию в Симферополе. Извольте-с подчиниться! Всё это делалось без согласования с конференцией института и было бы похоже на некую месть – в том случае, если бы на месте Менделеева был, например, Добролюбов. Мстить же Менделееву было совершенно не за что, налицо было обычное чиновничье головотяпство. Но и его оказалось достаточно, чтобы молодой Менделеев пришел в ярость.
Дмитрий Иванович рассказывал: «Вы знаете, я и теперь не из смирных, а тогда и совсем был кипяток. Пошел в министерство, да и наговорил дерзостей директору департамента Гирсу. На другой день вызывает меня к себе И. И. Давыдов: «Что ты там в департаменте наделал. Министр требует тебя для объяснений». В назначенный день, к 11 часам утра, я отправился на прием к министру. В приемной было много народу и, между прочим, директор департамента. Я сел в одном углу комнаты, директор в другом. Начался прием. Жду час, другой, третий, ни меня, ни директора к министру не зовут. Наконец, в четвертом часу, когда прием кончился и все ушли, отворяется дверь и из кабинета, опираясь на палку и стуча своей деревяшкой, выходит (он был хромой, после ампутации одна нога у него была на деревяшке) министр Авраам Сергеевич Норов. Он был человек добрый, но грубоватый и всем говорил «ты». Остановившись среди комнаты, посмотрел на меня, на директора и говорит: «Вы что это в разных углах сидите, идите сюда». Мы подошли. Он обратился к директору: «Это что у тебя там писаря делают? Теперь в пустяках напутали, а потом в важном деле напортят. Смотри, чтобы этого больше не было». А потом ко мне: «А ты, щенок. Не успел со школьной скамейки соскочить и начинаешь старшим грубить. Смотри, я этого вперед не потерплю… Ну, а теперь поцелуйтесь». Мы не двигались. «Целуйтесь, говорю вам!» Пришлось поцеловаться, и министр нас отпустил».
Этот случай, записанный со слов Менделеева его учеником и биографом В. Е. Тищенко, представляется удивительным почти со всех точек зрения. Во-первых, повторимся, поразительно, как министерство могло запутаться в трех соснах. Во-вторых, как вообще мог завязаться полномасштабный конфликт между выпускником института, да к тому же не дворянином, и вторым человеком в министерстве (как установил тот же Тищенко, этого чиновника, оставшегося в памяти Менделеева как Гирс, звали Павел Иванович Гаевский)? В-третьих, зачем нужно было столь срочно заполнять вакансию в Симферополе, в гимназии, где занятия то и дело прекращались из-за близости к театру военных действий? И в-четвертых, как и почему сам министр Норов, о котором не найдешь доброго слова ни в одном учебнике, воспринял этот конфликт настолько всерьез, что взялся его улаживать лично, используя метод столь же простой, сколь и мастерски исполненный? Либо о способностях Менделеева пошли совсем уж ошеломляющие слухи (что представляется маловероятным, поскольку научные и чиновные круги все-таки питаются разной информацией), либо Менделеев повел себя настолько дерзко и безбоязненно, что чиновники то ли струхнули, то ли – чем черт не шутит – действительно почувствовали масштаб его личности, либо мы уж совсем смутно представляем себе служебные, сословные и просто человеческие взаимоотношения в среде образованных людей середины позапрошлого века. И тут явно некстати приходит нетвердая и, безусловно, сомнительная мысль, что, конечно, злая судьба – не муха, ее книжкой не прихлопнешь, однако ж был бы мелкий чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин малость пообразованнее или хотя бы полюбознательнее и чуть-чуть погорячее – может, не измывалось бы над ним начальство так бессердечно и даже, возможно, не лишился бы он сшитой на последние деньги шинели (хотя снимали ее, конечно, тати необразованные).
Ехать в Симферополь Менделееву все-таки пришлось – и, как скоро узнаем, слава богу. Но пока всё складывалось скверно и глупо, хотя бы потому, что вещи его были уже отправлены в Одессу. Надеяться теперь нужно было только на себя. Большинство родственников сами с трудом сводили концы с концами. Брат Иван служил в Омске мелким чиновником и едва мог содержать постоянно растущую семью. Вскоре за пристрастие к горячительным напиткам его переведут служить по переселенческому управлению в одно из сел Барнаульского округа. Павел занимал должность в Омске, жалованье имел небольшое, к тому же собирался жениться на воспитаннице Басаргиных – оставшейся сиротой дочери декабриста Николая Осиповича Мозгалевского Пелагее. Поповы также были лишены особого достатка. Тетушка Надежда Осиповна, не забывавшая Менделеева в студенческие годы и хорошо принимавшая его летом на подмосковной корнильевской даче, не успевала готовить приданое для своих многочисленных дочерей. В конце концов, деньги можно было найти. Капустины жили хорошо и конечно же не отказали бы ему в помощи. Верные Басаргины (свои письма Дмитрию 55-летний Николай Васильевич подписывал, несмотря на разницу в возрасте, «твой брат Н. Басаргин») не только от души радовались Митиным успехам, но и предлагали деньги, чтобы Менделеев смог остаться в Петербурге и спокойно подготовиться к магистерским экзаменам. Да что толку в деньгах, если положение складывалось безвыходное?
Басаргин просил еще немного потерпеть питерский климат: «…когда разбогатеешь, ты и сам можешь быть полезен своей семье. Когда же получишь степень магистра, то, если будет надобно, можешь выпросить себе место в Киевском, Харьковском или Казанском университетах, одним словом, там, где климат будет благоприятнее для твоего здоровья…» Ровно через год Басаргина вместе с другими оставшимися в живых декабристами амнистируют и он с Ольгой поселится в смоленском имении своего родственника, полковника А. И. Барышникова, а потом приобретет собственное имение, жить в котором ему доведется всего несколько лет. Возможно, он чувствовал, что жизнь идет к концу, поэтому и писал своему воспитаннику о его долге по отношению к остаткам тобольского семейства. Менделеев и сам после путаницы с назначением и связанного с ней скандала хотел остаться в Петербурге не менее горячо, чем до того стремился в Одессу; но задержаться в стенах ставшего совершенно родным института уже не было никакой возможности – официальная бумага гласила: «…Ныне предписанием г. министра народного просвещения от 17 августа 1855 г. Менделеев определен старшим учителем естественных наук в Симферопольскую гимназию, с обязанностью прослужить в учебном ведомстве Министерства народного просвещения не менее восьми лет. При сем, на основании существующих постановлений, выдано Менделееву из хозяйственной суммы института третное не в зачет жалованья из годового оклада по 393 р. 15 к. и из Главного казначейства прогоны на две лошади от Санкт-Петербурга до Симферополя. Кроме того, он снабжен от института казенными книгами, одеждою и бельем. Дан сей аттестат за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати в Санкт-Петербурге августа 27 дня 1855 года». Дорога предстояла долгая и дальняя, «третного» с учетом предстоящих затрат было недостаточно. Пришлось отнести в ломбард золотую медаль.
Первоначально Менделеев намеревался добираться до Крыма через Полтаву, однако обстоятельства заставили взять западнее. В конце августа был сдан Севастополь, но война продолжалась, по дорогам на юг двигались войска и обозы с боеприпасами и провиантом, кругом царила неразбериха. Что касается немногих путешественников, то их души были наполнены вполне понятным беспокойством и волнением. Тем больше причин для расстройства было у нашего героя. Однако нельзя сказать, что во время поездки уныние было его единственным состоянием. Само по себе ощущение дороги будило молодую душу. Впервые за долгие годы Менделеев был предоставлен сам себе, своим мыслям и надеждам. Это была настоящая дорога взрослого, самостоятельного человека. Способного, как оказалось, и пофлиртовать. В многоместном дилижансе среди пассажиров ехала молодая институтка Анна Васильевна вместе со своим почтенным родителем. Присутствие привлекательной и образованной девушки в значительной степени помогало Менделееву забыть о цели своего путешествия и обо всех дорожных неудобствах – в первую очередь о невозможности комфортно расположить длинные ноги. Вряд ли это увлечение могло зайти далеко; но добравшись до Москвы и зайдя в гости к двоюродному брату Павлу Тимофеевичу Соколову, Дмитрий говорил о дорожном знакомстве горячо и много, подробно рассказывал об их беседах и даже признался, что из-за этих веселых разговоров они оба совсем не замечают происходящего на дороге. Правда, он тут же почему-то начал убеждать родственников, что совсем не стремится потихоньку поцеловать свою красивую спутницу в то время, когда ее строгий папаша дремлет, «поскольку не способен раздражать себя пустыми поцелуями». Последняя фраза взята из письма, посланного вслед Менделееву женой Павла Тимофеевича Анастасией, в котором, процитировав поразившее ее заявление Менделеева, она высказывала надежду, что побывавший у них проездом ученый родственник все-таки поцелует «хорошенькую Анету»: «Еще прошу вас, Дмитрий Иванович, пишите поразборчивее, а то я почти ни одного слова не смогла понять, и читал его Павел Тимофеевич, который тоже с трудом понимал писанное вами…»
Город Симферополь не обманул ожиданий Менделеева и открылся перед ним во всей своей неприглядности: «По дороге к Севастополю, где кишит народ, шныряют быстрые лошади татар, скрыпят их арбы и идут постоянно войска, по этой дороге открывается прекрасный вид на наш жалкий, в сущности, городок. Направо вы видите низенькие дома, здесь всё из камня – дерева и кирпича вы нигде почти не встретите, – а между тем кой-где торчат высокие, тонкие башенки – это татарская часть города и минареты мечетей, налево идут три-четыре прямых, широких улицы, стоят две-три церкви – это и весь почти город, особенно если к трем прямым улицам добавите пять-шесть кривых, узких до того, что две арбы в них не разъедутся. Всё это белеет и от того кажется чистым, но взгляните поближе на площадь, в эти узкие улицы, не говорю о татарской и еврейской частях, и вы увидите, что во всём этом чисты и белы одни только стены…»Подробнейшие письма, которые Менделеев в большом количестве пишет с первых дней пребывания в Симферополе (за две с половиной недели, по его собственным подсчетам, он отправил 18 посланий), дают весьма неутешительную картину его нового места жительства. В городе стояла страшная пыль, воздух был отравлен миазмами, исходящими из многочисленных лазаретов, и дымом от костров, в которых за городом сжигали падаль. По улицам постоянно двигались повозки золотарей, не успевавших вывозить нечистоты из перенаселенного города. Прибывший на юг лечить больную грудь Менделеев не выходил на улицу. Пришлось оставить и мысль о загородных прогулках. Виды между домами открывались чудные, но вся местность в округе была опустошена, под ярким синим небом не осталось ни травинки – всё съели боны и верблюды, везущие бесконечные телеги с ранеными, фуры с порохом, ядрами и провиантом. «Приходится сидеть под окном, глядеть на цветущие еще розы да на опавшее персиковое дерево, за которыми ковыляют по двору больные солдаты…»
Между тем в местном театре давались ежедневные аншлаговые спектакли ( «…да нехай ему, как говорят малороссы, был раз – теперь уж и калачом не заманишь»), на бульваре, примыкающем к ручью под названием Салгир, регулярно устраивались гулянья, каждый день звучала «до отвращения плохая военная музыка», которую съезжались слушать раненые и здоровые офицеры, комиссариатские и провиантские чиновники, местные служащие и даже несколько дам. Вообще в городе находилось много офицерских и унтер-офицерских жен, но им было не до гуляний. Дороговизна и теснота в Симферополе стояли страшные. Уже в октябре цены на дрова поднялись до семидесяти рублей серебром за сажень – при этом месячная зарплата Менделеева составляла всего 33 рубля. Семьи учителей находились в бедственном положении. Менделееву повезло – его и еще одного холостого инспектора приютил в комнатке при гимназическом архиве директор гимназии С. С. Дацевич.
Целый этаж Симферопольской гимназии также был отдан под лазарет, однако в остальных классах продолжались занятия, которым молодой учитель отдавался, насколько хватало физических и душевных сил. Заниматься подготовкой к магистерскому экзамену было невозможно – книги, которыми снабдил его институт, вместе с другим багажом были отправлены в Одессу. Гимназическая библиотека, весьма слабо укомплекктованная, еще и находилась в процессе эвакуации в Орехов. Не иначе как начальство имело основания опасаться того, что противник может дойти и до Симферополя. «Всё это вместе, – писал Менделеев, – делает жизнь мою и скучною, и тяжелою, и бесполезною…»Тем не менее из писем видно, что он жадно ловил любые вести с затухающей войны. Пессимистический настрой относительно своего будущего не мешал пылать его яростному боевому духу. Ни ум, ни душа молодого учителя не могли смириться с явным поражением, которое отсталая Россия терпела от вцепившихся в Крым англичан и французов. В Петербурге он, возможно, и понимал всю горестную безнадежность ситуации, в которой оказались русские войска. Но здесь, в непосредственной близости от событий, он, несмотря ни на что, верил в победный перелом войны. Он писал своим корреспондентам:
«Особенно интересовал меня рассказ о взятии Малахова кургана – об этой кровавой стычке горсти людей, захваченных почти врасплох под блиндажами… – об этой битве против 3000, когда помощь не могла прийти по трудности всхода на курган, по недостатку распорядительности – ибо все начальники только при начале битвы были ранены. О настоящем положении дел могу сказать вам только немногое. Наша позиция на Северной очень тесна и с моря, и с Бельбека, и с юга… Несмотря на сильное бомбардирование после отдачи Севастополя, на Северной произошло очень мало потерь, почти ничего даже – всего человек 10–20. Солдаты теперь отдыхают. Батареи на этой местности устроены превосходно, имеют по 200 орудий и отлично обстреливают друг друга (то есть батареи располагались на расстоянии пушечного выстрела. – М. Б.). На Бельбеке лагерь и лазареты. Со стороны Черной наша позиция превосходно защищена превосходными крутизнами Мекензиевой горы и Инкермана, где расположены войска и построены батареи. Это место, как говорят, неприступно.
Теперь всё внимание сосредоточено на окрестности Евпатории. Союзники даже построили свои батареи около деревни Саки. Наших сил здесь очень много, и они расположены так, что могут отразить вышедших из Евпатории; особенно важна позиция гренадер близ Перекопу.
Третьего дня было около Евпатории дело: окружили отряд французской кавалерии в 5000 чел. И взяли у них 3 пушки. Ждут здесь большого дела. У Феодосии и Керчи также поджидают дел. Если к началу октября ничего важного не произойдет, то далее ожидать будет нельзя – начнутся непроходимые грязи. Все военные действия от нас за 50 или около верст, а здесь как ни в чем не бывало, будто за тысячу, – идут классы гимназии, театры, разгул и кутеж ежедневно…»
«Военная» часть менделеевских писем из Симферополя отчасти объясняет приписку Ольги Басаргиной к одному из писем ее мужа Дмитрию. Еще до поездки Менделеева в Крым она боялась, как бы ее пылкий брат, несмотря на болезнь, не поступил в военную службу: «…я опасаюсь, чтобы тебя не увлекло ратное дело, в котором ты пользы никакой не принесешь, а между тем испортишь всю свою будущность…» Скорее всего, какие-то мысли на этот счет у Менделеева были, причем его притягивала отнюдь не военная карьера, весьма далекая от его призвания, а искреннее желание встать на защиту отечества. Единственной преградой, удержавшей будущего ученого (с его-то психофизикой!) от стремления попасть в «дело», была болезнь. Характерно, что, продолжая собирать информацию с театра военных действий и анализировать принимавшиеся там решения, он вскоре приходит в отчаяние от бездарности военачальников и безынициативности офицеров. Да и внутренний мир военных, заполнивших Симферополь, ему совершенно чужд. Будучи максималистом, Менделеев начинает чувствовать неприязнь к плохо образованным, дурно воспитанным, но держащимся с большим апломбом молодым дворянам в офицерских мундирах. Этого не мог не заметить еще один менделеевский корреспондент – его бывший учитель М. Л. Попов, писавший в Симферополь в декабре: «…Правда, всё военщина окружает тебя, но между молодыми офицерами, особенно морскими, ты можешь встретить очень порядочных людей, и тогда, может быть, помиришься с военщиной».
Казалось, в холодном, предзимнем Симферополе только Николай Иванович Пирогов, после сдачи Севастополя оперировавший со своими немногочисленными помощниками и помощницами в симферопольских госпиталях, не щадя себя, с толком служил спасению несчастного отечества – в буквальном смысле, поскольку речь шла о жизнях тысяч израненных пулями, изрубленных палашами и ятаганами, исколотых штыками и контуженных бомбами сынов этого отечества. В ходе бездарной Крымской войны он сделал около десяти тысяч уникальных, невиданных по тем временам операций. Иногда Пирогова называют начальником медицинской службы оборонявшей Крым русской армии. На самом деле этот удивительный человек никакой должности не занимал, да и никакой структуры по спасению раненых в России еще не было. Она и возникнет только благодаря Пирогову. В Крым же он попал не просто «на общественных началах», а в результате милости, оказанной ему императорской сестрой Еленой Павловной. Великая княгиня, возглавлявшая либеральный придворный лагерь, как раз отправляла в Севастополь большую группу сестер Крестовоздвиженской общины, подготовленных для помощи раненым, и взяла на себя смелость назначить ее руководителем опального, практически отставленного от работы в Петербургской Медико-хирургической академии Пирогова.
Николай Иванович был человеком самой нужной и полезной русской выделки – чистым и честным тружеником вне всякой идеологии, если не считать таковой глубокие чувства долга и милосердия. Полагая в простоте, что «в делах общей пользы излишне просить, когда долг повелевает требовать», Пирогов за свою жизнь нажил неисчислимое множество врагов. Он требовал у казнокрадов лекарства и еду для больных и раненых, но в своем благородстве даже не предполагал, сколь неразборчивыми в средствах могут быть его оппоненты, которые в ответ на его разоблачения использовали не только обычную клевету по служебной линии, но и тогдашние массмедиа, в первую очередь булгаринскую «Северную пчелу». В конце концов коллеги даже предприняли попытку объявить его сумасшедшим. Крымская война была не первой в его жизни военного врача. Уже в ходе Кавказской кампании он опробовал применение в полевых условиях эфирного наркоза и гипсового бинтования. Гибель на его глазах тысяч солдат, с невиданным мужеством и рабской покорностью лезших под грохот пушек и барабанов по отвесным скалам на приступ, и смерть искалеченных жертв этого бессмысленного геройства от отсутствия перевязочных средств и простейших лекарств заставили его в отчаянии кинуться к военному министру А. И. Чернышеву. В ответ на горячую, сбивчивую речь Пирогова тот подверг его холодной и жестокой выволочке за непорядок в мундире. Не в силах понять случившееся, врач в конце аудиенции потерял сознание.
С тех пор Пирогов считал войну травматической эпидемией. Это была спасительная для разума формулировка, позволявшая активно и разумно действовать в условиях самоистребительных столкновений огромных вооруженных масс людей. Такое видение войны не давало возможности опускать руки ни при каких обстоятельствах, эмоционально адаптировало хирурга к самой страшной ситуации, освобождая при этом от бесполезного осуждения человеческого и государственного безумия. Вы воюете? Значит, вы подверглись страшной травматической эпидемии. Я не знаю, какая бацилла возбуждает эту эпидемию, но вы – мои братья и мои дети; я врач, я буду спасать вас, как только могу. Это, конечно, не значило, что всё остальное ему было безразлично. У бесстыжих интендантов, вороватых аптекарей и равнодушных командиров не было врага страшнее Пирогова. И все-таки главным делом была травматическая эпидемия. Кроме содержавшегося в этой пироговской формуле личного, спасительного смысла, она сама по себе в своем прямом значении была крупнейшим открытием в военной медицине, поскольку знаменовала коренную перестройку всей системы лечения раненых.
Пирогов видел, что тысячи успешных операций, проведенных им в ходе Кавказской и Крымской кампаний, совсем не равнялись количеству спасенных жизней. Находясь в скученных, антисанитарных условиях, прооперированные раненые сплошь и рядом заражали друг друга и гибли от гнойных инфекций. Он предложил вполне логичный выход: следовать правилам, разработанным для «гашения» инфекционных эпидемий. Доставленные с поля боя раненые должны были проходить сортировку: нуждающиеся в срочной хирургической помощи немедленно шли под нож, после чего быстро вывозились из района боевых действий и далее рассредоточивались по всей территории России; тем же, чья жизнь не была под угрозой, операции делали в тылу. Разделение и рассеяние. Пирогов впервые ввел понятие эвакогоспиталей и разделил страну на необходимое количество эвакорайонов. Впрочем, эти идеи Пирогова, такие бесспорные сегодня, тогда в России не были оценены и признаны, ведь к нему мало кто прислушивался, а аудиенции у важных особ часто заканчивались для Николая Ивановича истерикой и беспамятством. Зато за границей его груды изучались с самым пристальным вниманием. В 1870 году Пирогов по приглашению Красного Креста посетил военно-санитарные учреждения на театре Франко-прусской войны. Немцы встречали его как самого почетного и дорогого гостя. Еще бы! Его взгляды, изложенные в «Началах военно-полевой хирургии», получили у них всеобщее распространение, а его план рассеяния раненых использовался в самых широких масштабах. Прусские генералы имели все основания поднимать в ею честь бокалы с шампанским и кричать «прозит!».
Перед отъездом из Петербурга Менделеев посетил профессора Здекауэра. Тот еще раз осмотрел Дмитрия, неопределенно хмыкнул и, узнав, что больной отправляется в Симферополь, сел писать письмо коллеге Пирогову, прося его подтвердить пли опровергнуть диагноз. Тут впору опять вернуться к разговору о том, что определяло взаимоотношения внутри тогдашнего ученого сословия. Очевидно, что профессор Здекауэр, много сделавший для русской медицины, в силу происхождения и общественного положения наверняка не считал Пирогова своим другом и не оказывал ему никакой поддержки в трудные времена. Пирогов также прохладно относился к Здекауэру. Но цену друг другу они знали и оба одинаково понимали профессиональную этику. Взялся же лейб-медик просить изгнанного отовсюду врача о консультации, сел писать серьезное письмо. Куда? На войну. Кому? Человеку, который мог опровергнуть его диагноз, поставленный на основе долгих наблюдений. И, наконец, ради кого? Ради казеннокоштного чахоточного студента, проконсультировать которого когда-то попросил его скромный институтский лекарь Кребель, и очевидно, не ради гонорара.
Добравшись до Симферополя, Менделеев не сразу пошел к Пирогову. Он долго выбирал время для визита, но его, подходящего, попросту не было, потому что Пирогов дни и ночи не отходил от операционного стола. По городу ходили слухи о том, что Пирогов буквально жертвует своим здоровьем ради спасения раненых и что те, равно как и сестры милосердия, его просто боготворят. Говорили, что сестры (среди них были не только простолюдинки – сегодня почему-то чаще всего вспоминают солдатскую дочь Дашу Севастопольскую, – но и аристократки вроде баронессы Екатерины Будберг и дочери петербургского губернатора Екатерины Бакуниной) тоже отказывают себе в сне и пище и что они по примеру врача настолько исполнены праведным гневом к бесчестным поставщикам медикаментов, что, поймав за руку какого-то симферопольского аптекаря, заставили его написать покаянное письмо и повеситься.
Наконец Менделеев собрался с духом и отправился в госпиталь. Визит этот едва не закончился так же, как и давнишнее посещение анатомического театра, обмороком. По свидетельству современников, зал, в котором стояли операционные столы, был буквально залит кровью, не говоря уже о передниках врачей и сестер. Воздух был наполнен стонами и воем, а по сравнению с вонью, смрад симферопольской улицы казался райским ароматом. По углам комнаты стояли переполненные бочки с ампутированными конечностями. Пирогов оперировал безостановочно: сделав самое важное, оставлял помощников завершать операцию и быстро переходил к другому столу… Три дня подряд являлся Менделеев в этот зал и каждый раз не осмеливался обратиться к Николаю Ивановичу. Наконец, его заметили сестры, подошли и, узнав, в чем дело, доложили хирургу. Тот ничуть не удивился, попросил подождать и вскоре каким-то чудом нашел возможность обстоятельно расспросить и осмотреть неожиданного пациента.
Несмотря на разницу в возрасте (Пирогову тогда было 46 лет), они были птицами одного полета – естествоиспытателями до мозга костей, к тому же их характеры и судьбы были на удивление похожи. Оба происходили из простых многодетных семейств (Пирогов был тринадцатым ребенком), оба потеряли в детстве отцов и познали связанную с этим нужду, оба почти мальчиками стали казеннокоштными студентами. Оба, волею судеб, оказались вхожими в сообщество близких Пушкину людей. [11]11
Пирогов во время учебы в Дерптском профессорском институте жил в доме своего учителя И. Ф. Мойера – выдающегося хирурга и известного пианиста, друга Бетховена. В этом доме подолгу гостил В. А. Жуковский, часто собирались Н. М. Языков и А. Н. Вульф с сестрами, П. А. Вяземский, В. А. Соллогуб, В. И. Даль, Карамзины, Витгенштейны и множество других известных Пушкину людей. Приходил на правах свояка хромоногий А. Ф. Воейков (они с Мойером были женаты на сестрах Протасовых), принимали – ну не выгонять же – даже Ф. В. Булгарина, жившего неподалеку от Дерпта на своей даче.
[Закрыть]Обоим суждено было испытать несчастную первую любовь. Оба были трудоголиками, оба плохо ладили с людьми, особенно с женщинами, и страдали от непонимания, оба в расцвете сил и таланта будут оторваны от любимого дела.
Вряд ли оглушенный всеми обстоятельствами этой консультации молодой Дмитрий Менделеев сознавал, насколько они внутренне близки со знаменитым врачом. Зато выстукивавший ею впалую грудь и шевеливший лохматыми бровями Пирогов наверняка понимал его – настолько, насколько один человек может понять другого. Биограф Менделеева О. Н. Писаржевекий так представил себе эту встречу: «Пирогов выслушал страстную жалобу своего неожиданного пациента. Это жалоба нe только на болезнь, сколько на терзания от неподвижности, на тоску от бездеятельности. Это крик о неудовлетворенной жажде творчества… Он хорошо знал вспышки внутреннего огня, который подчас судорожно озарял последние минуты угасания. А этот худощавый, бледный юноша бурлил как котел…»
Впоследствии Менделеев, с великой благодарностью вспоминая Пирогова, не раз говаривал: «Это был врач. Насквозь человека видел и сразу мою натуру понял». Дело действительно было в натуре. Диагноз «туберкулез» Пирогов отверг начисто, обругал Здекауэра немчурой и подарил его письмо переставшему от счастья дышать пациенту: мол, вы, батенька, еще нас со Здекауэром переживете. «А что же тогда кашель, слабость, кровохарканье? Отчего они? – А когда это с вами первый раз случилось? – В начале учебы. Был с товарищами в театре. Певицу бисировали. Итальянку. Сильно кричал… – От восторга, значит, тоже проявляется…» Пирогов предположил наличие у посетителя неопасной сердечной болезни, в целом же счел недомогание следствием многолетнего душевного смятения, переживаний, которые впечатлительный Менделеев перенес, глядя на смерть близких, а главное – мучительной неопределенности последних лет, прошедших под знаком скоротечной болезни. Доктор дал пациенту советы, которыми, наверное, с радостью воспользовался бы сам: работать всласть, но не переутомляться; побольше гулять и путешествовать и, главное, никогда, ни в чем не перечить своей натуре. Пирогов хорошо понимал, кому и что он говорит. Узел действительно развязался просто и быстро: с этого дня замучившая Менделеева болезнь начала отступать.
Больше они не встречались, но нити их дальнейших судеб отныне какое-то время потянутся рядом, иногда перекрещиваясь во времени и пространстве. Вскоре чиновные дураки и мерзавцы вырвут из рук величайшего хирурга скальпель и определят ему место попечителя Одесского учебного округа. Чуть раньше в Одессу прибудет учительствовать и его пациент. Еще через несколько лет Пирогова отправят руководить подготовкой будущих русских профессоров в Европу. Он поселится в Гейдельберге всего через несколько месяцев после отъезда Менделеева, проработавшего там два года. Посмертная судьба их сочинений также будет сходной. Купюры, сделанные царскими цензорами в работах Пирогова, будут скрупулезно повторены в советских переизданиях. А собрание сочинений Менделеева будет полностью изувечено цековскими идеологами, за что, кстати, некоторые национально озабоченные авторы до сегодняшнего дня не устают проклинать номинального редактора издания, имевшего несчастье носить еврейскую фамилию. Будто дело именно в этом. Что бы изменилось, если бы его фамилия была, предположим, Башмачкин?..
«Плохо было жить мне в Симферополе, милые родные, до того плохо, что я старался всеми силами выбраться из Крыма – и, благодаря Бога, выбрался. В Симферополе я не имел порядочного обеда, а платил за него 60 коп. сер., я не имел своего угла – ничего еще нельзя было достать, должен был жить вместе с инспектором, комната которого не топилась – дрова так дороги, что нашему брату не по карману, я не имел ни знакомства, ни книг, ни даже всех своих вещей, которые отправил в Одессу, а потому время текло и скучно, и без пользы. А я чувствовал много еще сил нетронутых, да и здоровье не могло укрепляться в нетопленой комнате…»Еще в октябре он получил письмо от Янкевича, который, наконец, почти выхлопотал себе место в Петербурге. О том же писал Менделееву друг Папков, присутствовавший на блестящей пробной лекции Янкевича в штабе военно-учебных заведений, после которой тот был вправе рассчитывать на вакансию в каком-нибудь столичном военном корпусе. Место в Одессе окончательно освободилось, и Менделеев стал хлопотать о переводе. Еще раньше, как оказалось, о том же начали ходатайствовать его петербургские доброжелатели. Академик Фрицше, составив на сей счет записку, лично подал ее Гаевскому, который хотя и счел невозможным начинать от имени департамента дело о переводе и даже об отпуске для поездки в Одессу, но посоветовал, чтобы Менделеев сам обратился к попечителю своего учебного округа. Узнав об этом, директор института Давыдов немедленно отправил попечителю письмо, в котором аттестовал своего выпускника наилучшим образом. Благодаря совместно предпринятым усилиям Дмитрий, хотя и с большим трудом, выпросил у директора Симферопольской гимназии десятидневный отпуск по собственной надобности. 30 ноября в легком, негреющем полушубке и медвежьих сапогах, с месячным жалованьем в кармане он покинул город в парусиновом фургоне.








