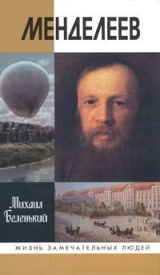
Текст книги "Менделеев"
Автор книги: Михаил Беленький
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 37 страниц)
Глухов определил профиль Депо как государственного поверочного органа, в ведении которого должны находиться все измерительные приборы, используемые для поверки мер и весов. Его проект закона о мерах и весах предусматривал применение в качестве основной единицы длины аршина вместо сажени, а также более точное определение основной единицы массы – фунта. Он считал своей задачей возобновление прототипов длины и массы и факультативное применение в России метрической системы мер наряду с русской системой.
Менделеев, который видел функции этого учреждения значительно шире, во многом стал продолжателем глуховских идей. В первую очередь это касалось факультативного, на первых порах, использования метрического измерения. Менделеев вообще очень высоко ценил русскую систему мер за то, что из «всех систем мер и веса только три: английская, французская (метрическая) и русская отличаются полной разработкой и выдерживают научную критику». По его идее будет изготовлена образцовая мера длины – полусажень, на которой будут размечены аршин, ярд и метр с их подразделениями (всего 253 отметки). Этот, по характеристике Менделеева, «единственный экземпляр, драгоценный во множестве отношений», сыграет значительную роль при переходе на метрическую систему. Уже через год после назначения Дмитрия Ивановича главным хранителем учреждение будет реорганизовано в Главную палату мер и весов. Это название ему пришлось отстаивать «на высоких тонах». Министерские чиновники настолько упорствовали в том, чтобы слово «Главная» было изъято из проекта реорганизации, что ему даже пришлось пригрозить своей отставкой. За 14 лет менделеевского правления Палата превратится в первый научный метрологический центр России с десятью внутренними подразделениями, оснащенными самым передовым для того времени оборудованием, с расширенной базой национальных эталонов и всероссийской сетью поверочных палаток. При жизни Дмитрия Ивановича по стране будет открыто 25 этих учреждений, с помощью которых он поможет стране сделать самый первый и самый важный шаг перехода к новому, метрическому измерению.
Для тех, кто сегодня пишет о правилах формирования научных коллективов и условиях поддержания в них благоприятного психологического климата, может остаться абсолютно непонятным, как вечно всклокоченный, нервный и капризный Менделеев мог подобрать столь совершенный в научном и кадровом отношении состав работников Главной палаты мер и весов. Факт представляется тем более удивительным, если взять во внимание, что никакого научного и вообще взвешенного подхода к этому вопросу у Дмитрия Ивановича не было. Он, конечно, был заинтересован в специалистах того или иного профиля, но, похоже, руководствовался при этом главным образом лишь тем, насколько этот человек мог быть для него «успокоительным». Работник, раздражавший Менделеева, не имел никаких шансов остаться в стенах Палаты, за исключением разве что тех случаев, когда сотруднику хватало ума разобраться в себе и внутренне «подстроиться» под Менделеева либо тот сам (или после подсказки коллег) вдруг начинал видеть нечто привлекательное в дотоле «неприятном» человеке.
Собственно говоря, человек мог стать неприятным Менделееву из-за пустяка, например оказавшись свидетелем смущения или замешательства старого ученого. Так, однажды он в присутствии недавно принятой на работу сотрудницы пытался использовать оптическую трубу, забыв снять с нее колпачок. Ничего не видя, он пришел в сильнейшее раздражение, считая, что барышня заслонила свет. Бедная девушка пыталась сказать ему о колпачке, но Дмитрий Иванович буквально не давал ей открыть рот. Всё, конечно, разъяснилось, но отношения Менделеева и новой сотрудницы были навсегда испорчены.
Любопытным исключением из этого правила были случаи, когда до ушей палатских ученых барышень доносились «нелитературные» высказывания, которые довольно легко вылетали из уст управляющего Палатой. Он, конечно, в таких случаях страшно смущался, иногда даже просил извинения, но никого не переводил в «черный список». Тут, наверное, играл свою роль один из мотивов, по которым он охотно принимал на работу особ женского пола – они были не только отличными специалистами, но и обладали способностью к «смягчению нравов»: мужчины в их присутствии «меньше стали нескромно выражаться».Дмитрий Иванович и сам старался не употреблять ругательств и грубостей при женщинах, иногда демонстрируя даже некоторые забавные крайности. Скажем, хотел он в своей привычной манере похвалить толковую сотрудницу: дескать, она в своем деле… но тут же спохватывался, что барышня может обидеться, и «смягчал»: «…собачку скушали».
Высокая оценка интеллектуальных возможностей женщин сложилась у Менделеева задолго до перехода в Главную палату мер и весов. Об этом свидетельствует не только его активная работа на ниве женского высшего образования, но и конкретные факты, связанные с подбором кадров для Палаты. Так, однажды, переманив у И. М. Чельцова толковую работницу (тот приехал к Менделееву советоваться, насколько уместна будет дама среди мужского персонала научно-технической лаборатории), Дмитрий Иванович тем не менее с большой горячностью принялся агитировать его брать на работу женщин: «Отлично! Возьмите барышню! У меня в университете была одна еврейка. Ух, какая работница была! Непременно возьмите! Только я знаю, о ком вы говорите… Я сам ее беру».Речь в данном случае шла о будущей многолетней сотруднице Палаты, помощнице и друге Дмитрия Ивановича Ольге Озаровской, оставившей о нем очень интересные воспоминания.
Озаровская, сумевшая с первой встречи понять натуру управляющего Палатой, объясняет многие неудачные контакты Менделеева с соискателями и другими незнакомыми посетителями застенчивостью и необычайным волнением великого ученого перед каждым новым человеком: «…когда он кричал, то кричал в сердцах, в сущности, на самого себя. Первая встреча решала судьбу отношений. Если посетитель не испугается, а ответит спокойствием, Дмитрий Иванович угомонится, польется у них интересная беседа». В противном случае события развивались по другому сценарию, опять же описанному Озаровской: «Входит посетитель, Дмитрий Иванович предлагает сесть в кресло и сейчас же кричит: – Стойте! На книгу не сядьте! – Посетитель вскакивает, берет с кресла фолиант и не знает, куда его девать: стол завален книгами и бумагами. – Ах, уж если сели, так сидите! Садились бы на книгу… – Посетитель кладет книгу на кресло и намеревается на нее сесть. – А, да держали в руках. Так уж клали бы на стол, что ли! Да уж сидите! Время-то, время идет! – Как только Дмитрий Иванович заметит, что произвел угнетающее впечатление, – кончено: взволнуется, наговорит грубостей и едва не прогонит, а сам после будет страдать».
Ответ на вопрос, как вокруг столь неуравновешенного лидера мог сложиться, возможно, лучший в России научный коллектив, наверное, состоит в том, что Менделеев являлся поистине культовой личностью своего времени и работа рядом с ним была честью для многих ученых. Кто-то был готов прощать ему любую несдержанность, а кто-то и вовсе не обижался на него ни при каких обстоятельствах либо относился к нестандартной личности своего руководителя с добрым юмором.
Ведь он требовал от сотрудников не покорности, а настоящего творчества, и это не могло не быть оценено учеными Палаты. К тому же Дмитрий Иванович, при всей его вечной взвинченности, воспринимал сотрудников как членов своей семьи – бывал к ним настолько внимателен и заботлив, насколько мог быть внимателен и заботлив к собственным детям. В любой момент Менделеев готов был использовать весь свой авторитет, все силы и всё время на хлопоты по личному делу своего сотрудника и шел в таких случаях до конца, до результата, не щадя здоровья и бросая в ряде случаев на чашу весов свой главный козырь – угрозу отставки. Возможно, именно этот феномен, описанный в воспоминаниях многих сотрудников Палаты, и позволил, вкупе с другими обстоятельствами, сложиться ее коллективу.
Новички подвергались порой весьма необычным испытаниям. Например, М. Н. Младенцев, которому было суждено вместе с В. Е. Тищенко стать биографом Менделеева, рассказывает, что пришел к нему вместе с товарищем, таким же выпускником университета. Дмитрий Иванович принял их ласково, был очень приветлив, хотя и поразил молодых людей суетливостью, показывал им карты, привезенные из своих путешествий, а потом вдруг поручил составить карту к отчету о поездке на Урал. Молодые люди были ошарашены, но за дело взялись. Через два месяца работа была показана Менделееву, который ее забраковал. Его не устроило, что параллели были вычерчены, как тогда было принято, с помощью ломаной линии. Он потребовал выполнить их дугами, использовав коническую проекцию Гаусса, что было сопряжено с массой вычислений и прочих трудностей. Через какое-то время «картографы» решили отказаться от задания и заявили Менделееву, что их этому делу не учили. Дмитрий Иванович тут же поставил в разговоре точку: «Лица, умеющие делать то, чему их учили, мне не нужны. Карту или уходите».Они не ушли, а разобрались и сделали всё так, что старик остался доволен. Отчет вместе с картой был опубликован, а через какое-то время она была издана отдельно как одна из лучших карт региона.
Дальнейшие взаимоотношения Младенцева и Менделеева складывались естественным образом, с учетом сложности менделеевского естества и норова молодого, уверенного в себе работника. Ежедневные, иногда по нескольку раз в день, доверительные и доброжелательные встречи не отменяли редких, но бурных выяснений отношений. Однажды Менделеев, замученный бюрократическими рогатками, потребовал, чтобы Младенцев, который занимал должность секретаря Палаты, подписал какую-то не совсем правильно оформленную бумагу. Тот отказался. Далее произошел диалог, попавший в воспоминания Михаила Николаевича: ««Кто из нас управляющий? Вы или я?»– «Вы». – «Я вас вон выгоню», – кричал он, ударив кулаком по столу. – «И уйду», – отвечал ему, а затем спокойно говорил ему: «Дмитрий Иванович, я тоже подпись даю на бумаге и за соблюдение законности держу ответ». – «Конечно, конечно, вы правы. Молодость всегда права. Такой же будете поганый старик…»».
Доставалось от Дмитрия Ивановича и его ближайшему сотруднику и другу, одному из ведущих специалистов Федору Ивановичу Блюмбаху, которого он не только высоко ценил, но очень любил за деликатную натуру и выдающиеся способности. Блюмбах действительно был крупной, незаурядной личностью. С его именем связано создание большого количества метрологических приборов. Кроме несомненного таланта, широчайшего научного горизонта и великолепной работоспособности, что роднило его с Менделеевым, он обладал также качествами, которых у Дмитрия Ивановича не было, например знанием иностранных языков. Федор Иванович бы настоящим полиглотом, поскольку, кроме русского и родного латышского, владел английским, французским, немецким, итальянским, испанским, шведским и финским языками, что делало его незаменимым помощником в переписке и деловых поездках за границу. На своего главного сподвижника и участника всенощных бесед Менделеев кричал, как пишут очевидцы, «ужасно», несмотря на то, что Блюмбах совершенно не мог к этому привыкнуть. Бывало, во время опытов у него руки тряслись от менделеевского крика, даром что тот мог в этот момент кричать не на него, а на других присутствующих, чтобы они Федору Ивановичу не мешали. За это Дмитрий Иванович, переставляя по своему частому обыкновению причину и следствие, называл сдержанного прибалта «горячкой», хотя привязывался к нему всё крепче. Но даже будучи участником такого непростого содружества, Блюмбах находил возможность быть самостоятельным и порой принимал нужные решения без согласования с грозным и не терпевшим никакого организационного самоуправства Менделеевым. Однажды, когда Дмитрий Иванович был в долгой отлучке за границей, оставленный вместо него Федор Иванович, давным-давно мечтавший приспособить для дела подвал под своей лабораторией (в нем имелись толстые стены и все условия для поддержания постоянной температуры – мечта для настоящего метролога), без всяких смет и ассигнований приказал пробить пол в лаборатории, спустить в подвал металлическую лестницу, отделать его и перенести туда часть оборудования. Можно предположить, что приезда Дмитрия Ивановича он дожидался с неспокойным сердцем, будучи готовым к любой реакции. Но Менделеев, обходя после возвращения Палату и наткнувшись на новое помещение, инициативу Блюмбаха одобрил, более того, был ею очень доволен.
При всей «взрывоопасности» Дмитрия Ивановича сотрудники, жившие с ним «на одной волне», могли рассчитывать на благожелательную оценку их поступков. Такие были способны, например, войти без стука в его кабинет и вынуть у него из-под локтя нужную книгу. Хорошо знавшие Менделеева люди понимали, что если он грозится уволить кого-то из отсутствующих, например, своего ближайшего советчика и заботливого друга Василия Дмитриевича Сапожникова, заваленного у себя на даче бесконечной корректурой менделеевских трудов, то это не означает, что управляющий действительно хочет избавиться от сотрудника, а просто ему сейчас очень не хватает именно этого человека. И действительно, стоило Сапожникову показаться, как гнев и угрозы испарялись без остатка: «Ах, это вы, Василий Дмитриевич, здравствуйте… только сегодня не уезжайте…»И в серьезных вопросах, даже если разговор уже шел вразнос и мнения совершенно не совпадали, подчиненные не зря уповали на способность шефа остыть, прислушаться к их аргументам и изменить свое мнение. Тот же Сапожников однажды едва не стал жертвой менделеевского нервного срыва, но не сробел и ответил ему ровно теми же уничижительными словами. Спор зашел относительно оценки деятельности управляющего Саратовской поверочной палаткой, за короткий срок выжившего из руководимого им учреждения 11 поверителей. Сапожников и Младенцев настаивали на увольнении самодура, Дмитрий Иванович же, имевший о нем другое мнение, вдруг неожиданно и сильно расстроился и, как пишет М. Н. Младенцев, «крайне возбужденный, сложил большой и указательный наподобие нуля и, поставив руку перед собой, повышенным голосом сказал Вас. Дм.: «Мне ваше мнение, тьфу…»Сапожников, в свою очередь, возбужденно сказал: «И мне ваше мнение, Дм. Ив., тьфу…» Вышел и хлопнул дверью». Больше они на эту тему не говорили и отношений не выясняли, но через две недели саратовский чиновник был уволен.
Нужно сказать, что несколько пристрастное отношение Менделеева к упомянутому саратовскому персонажу, бывшему преподавателю младших классов Гатчинского сиротского института Н. Г. Неклюдову, было во многом связано с умением и готовностью того подолгу играть в шахматы. Во время его приездов в столицу Дмитрий Иванович всегда приглашал его к себе на обед, после чего они надолго усаживались за шахматной доской. Любовь Менделеева к древней игре к этому времени всё больше напоминала безумную страсть. Он вел охоту на шахматистов. Едва придя на работу, Дмитрий Иванович мог сразу заняться поиском партнера для игры на грядущие вечер и ночь.
Шахматные способности сотрудника могли в корне изменить его судьбу. Так, например, произошло с А. М. Кремлевым, которого Менделеев вначале отчего-то сильно невзлюбил (поговаривали, что за малый рост – Дмитрий Иванович с подозрением относился к низкорослым) и собирался перевести куда-нибудь подальше в провинцию. Ситуация для Кремлева была тем более обидной, что он был истинным и преданным почитателем Менделеева. Выручил его Младенцев. Как-то во время доклада Менделееву (а вопрос о переводе Кремлева был уже решен, дата и место назначения определены) он будто ненароком обмолвился, что Кремлев играет в шахматы. В тот же вечер опальный сотрудник был приглашен в гости, и вскоре между ними завязались удивительно теплые и мягкие отношения. Благодарный Кремлев был счастлив играть с обожаемым Дмитрием Ивановичем всю ночь до утра и уходил только после того, как его партнер сам вставал из-за стола. Тут он был абсолютным рекордсменом, поскольку прежний чемпион К. Н. Егоров хотя тоже мог сидеть за шахматной доской очень подолгу, но в конце концов не выдерживал и первым прекращал игру, предлагая недовольному хозяину подумать о сне. Блюмбах выдерживал только до трех часов ночи. Следующим по силе шахматным марафонцем был художник Архип Иванович Куинджи. Далее шли А. И. Горбов, С. П. Вуколов, Ф. П. Завадский, друг молодости Менделеева А. И. Скиндер и принятый по рекомендации редактора-издателя «Шахматного журнала» А. К. Макарова на место Скиндера после его безвременной смерти А. А. Ржешотарский. Таким образом, Кремлев не только остался в Главной палате, но и подружился со своим кумиром. Вскоре он даже был допущен к святая святых – корректуре 8-го издания «Основ химии». В дальнейшем Менделеев причислял его к самым близким людям и даже подарил свой портфель с трогательной гравировкой.
Оборудование для Главной палаты изготавливалось по самому высокому классу точности. Многое было сконструировано по идеям или под руководством Менделеева самими сотрудниками и здесь же, на месте, изготовлено талантливым механиком И. И. Кварнбергом. Что-то приходилось заказывать заграничным умельцам, например универсальный компаратор (прибор для сравнения измеряемых линейных величин с мерами или шкалами) английской фирмы «Траутон и Симмс». В эти годы Менделеева, прирожденного путешественника, можно было встретить за границей особенно часто. Среди множества других вещей его теперь интересует всё, что касается метрологии: приборы, методика, организация поверочного дела, но в первую очередь – эталоны. Он считает необходимым «возобновить», то есть заменить новыми все русские эталоны, изготовленные до 1835 года. Наряду с основными, неприкосновенными прототипами идет изготовление точно таких же рабочих образцов. Заранее, на уже близкую перспективу, начинается аналогичная работа с метрическими эталонами. Дмитрий Иванович и его сотрудники становятся частыми гостями Парижской консерватории изящных ремесел, где их всегда с удовольствием встречает старый друг Менделеева Ж. Треска. Но главное место их командировок – Англия, поскольку эталоны русских мер с петровских времен соотносились именно с английскими. Так, аршин (71,12 сантиметра) соотносился с английским ярдом (91,44 сантиметра) через их кратность дюйму (2,54 сантиметра): в аршине должно быть 28 полных дюймов, а в ярде – 36. Эталон аршина был изготовлен фирмой «Траутон и Симмс» из сплава, применяемого в международных метрических эталонах и состоявшего на 90 процентов из платины и на 10 процентов из иридия. Сличение сажени и полусажени было произведено лично Менделеевым, Блюмбахом и директором Лондонского бюро стандартов Г. Ченеем. По заказу русских метрологов в Лондоне было изготовлено несколько образцов русского фунта (0,40951241 килограмма) – в виде цилиндров с высотой, равной диаметру. Дмитрий Иванович поручил их чистовую доводку сначала английскому механику Л. Эртлингу, а затем, на совершенно деликатной стадии, своим сотрудникам Сапожникову и Завадскому. Затем в Петербурге был изготовлен еще один, рабочий, образец фунта из золотого монетного сплава.
В ходе «возобновления прототипов» русские метрологи осуществили 80 серий сличений и 20 тысяч специальных наблюдений. Представить, сколько всего было сделано ими за пять первых лет, и оценить энергию их главного организатора можно, например, сравнив этот объем работы с темпами заграничных метрологов: подобная задача в Англии была решена за 21 год, во Франции – за 17 лет.
В эти же годы Дмитрий Иванович создает и детально разрабатывает свою теорию взвешивания, вводит новые формулы и метрологические понятия, обосновывает оптимальное количество взвешиваний и даже дает правила расчета вероятных погрешностей. В 1895 году выходит в свет его фундаментальный метрологический труд «О приемах точных, или метрологических, взвешиваний», который до сих пор остается современным, особенно в части методов сличения эталонов массы и рекомендаций по выполнению особо точных взвешиваний. А предложенный им проект одноплечих двухпризменных весов вообще обогнал свое время – после ряда попыток был реализован лишь в 1932 году Иваном Дмитриевичем Менделеевым и получил с тех пор широкое распространение.
Отдавая массу сил и времени весам различных конструкций (по его указанию были приобретены и усовершенствованы самые чувствительные для того времени весы фирмы «Рупрехт» и весы для взвешивания в безвоздушном пространстве конструкции австрийца И. Неметца), работая с разнообразными маятниками, Менделеев по-прежнему видел суть химии где-то совсем рядом с механикой и не оставлял мысли подобраться к загадке мирового эфира. По этому поводу он писал: «…от усовершенствования способов взвешивания должно ждать еще много новых успехов естественной философии, особенно же выяснения хотя бы некоторых сторон всеобщего, но еще таинственного всемирного тяготения».Начав заниматься метрологией в 1893 году, он уже через два года становится постоянным членом Международного комитета мер и весов, в котором докладывает об исследованиях, связанных с определением плотности воды и воздуха (это было необходимо для точного взвешивания литра воды и кубического дециметра воздуха), и о результатах опытов в термометрической и барометрической лабораториях возглавляемой им Палаты, тем самым вызывая уважение, а то и зависть у многих коллег, располагавших значительно более скромными лабораторными возможностями и вообще представлявших до того метрологию специальным, довольно отдаленным от фундаментальных научных исследований занятием. При Менделееве начал выходить первый русский метрологический журнал «Временник Главной палаты мер и весов», каждый номер которого свидетельствовал о высоком научном уровне русской метрологии и её государственно-промышленной идеологии.
Но занятия Дмитрия Ивановича в эти годы невозможно свести к одной метрологии. Кроме создания пироколлодийного пороха, были еще участие в разработке таможенного тарифа с Германией (отношения с ней в те годы историки часто называют таможенной войной), работа в комиссии по устройству Томского технологического института и университета. Министр просвещения И. Д. Делянов сам не смог уговорить Дмитрия Ивановича войти в комиссию, так он объяснил Витте, что без Менделеева томское дитя так и не родится, а уважаемому Сергею Юльевичу как откажешь? Менделеев деятельно участвовал в организации Нижегородской ярмарки 1896 года («Нижегородская выставка всё лето забрала»),в строительстве дома для сотрудников Палаты, в работе Академии художеств, куда он был выбран сначала членом, а затем даже вошел в совет, наотрез отказавшись от положенного жалованья, и пр.
Точно так же и его поездки за границу нельзя свести единственно к делам Главной палаты мер и весов. Европа в определенном смысле всегда была для него чем-то вроде шахмат – отвлекала от докучных дум и возвращала в рабочее состояние. Тем более что здоровье Дмитрия Ивановича требовало ежегодного лечения на Лазурном Берегу. Плюс поездки за получением наград… Подсчитано, что за свою жизнь (73 года) ученый почти девять лет провел за пределами России. Одна из самых известных поездок состоялась в 1894 году в Англию, куда на этот раз Менделеев был приглашен Кембриджским и Оксфордским университетами для получения докторской степени. Из Франции, где у него было несколько встреч с коллегами, он вместе с женой переправился через Ла-Манш и уже в Лондоне встретился с приехавшим ранее по делам Палаты Ф. И. Блюмбахом, чье присутствие избавляло от мук немоты при общении с коллегами.
Хотя, честно говоря, Дмитрий Иванович без знания иностранных языков не очень-то и мучился. Выручали общий язык формул и малый запас немецкого, привезенный когда-то из Гейдельберга, да еще тот пиетет к Менделееву, который заставлял иностранных коллег искать и находить способ пообщаться с ним. Уильям Рамзай, которому было суждено привести в таблицу Менделеева целую группу инертных газов, так описывал встречу с ним, возможно, произошедшую в этот самый приезд (мог же Блюмбах куда-то на минуту отлучиться?): «Я прибыл на обед рано и убивал время, просматривая имена присутствующих, когда ко мне, поклонившись, подошел необычной внешности иностранец, каждый волос которого, казалось, был совершенно независим от другого. Я сказал: «Мне думается, придет довольно много людей». Он ответил: «Я не говорю по-английски».Я сказал: «Может быть, Вы говорите по-немецки?» Он ответил: « Довольно слабо. Я – Менделеев». На что я не сказал: «Я Рамзай», а ответил: «Меня зовут Рамзай», что, может быть, звучало более скромно. Стоило владеть немецким языком для того, чтобы поговорить с Менделеевым, даже если его немецкий был слаб».
Сначала был Кембридж, в котором русские гости остановились в доме у ректора, сэра Пилла. Уклониться от приглашения означало нанести обиду приглашающей стороне. Пришлось Менделееву на неделю смириться с замкнутой геометрией небольшого дома и его внутреннего садика. Неменьшее неудобство для него представлял строгий распорядок домашней жизни. Гости должны были спускаться к кофе ровно в девять часов утра. Если они появлялись в столовой раньше, то с удивлением видели, что на их местах сидят слуги, которым хозяин перед совместной молитвой читает Священное Писание, если опаздывали – встречали молчаливый укор в глазах хозяев и занявших свои обычные места слуг. Дмитрий Иванович, давным-давно перепутавший день и ночь и считавший дома обычным делом глухой ночью крикнуть, чтобы ему принесли свежего чаю, да и вообще не терпевший никаких стеснений, здесь являлся к столу точно в срок, и только его спутники чувствовали, чего это ему стоит.
В день вручения докторских дипломов присутствующие могли насладиться торжественной церемонией, ход которой оставался неизменным со времен Средневековья. Ее распорядитель вышел в черной мантии с длиннейшим шлейфом, покрытым роскошной золотой вышивкой. Награждаемые были также наряжены в средневековые плащи и черные бархатные береты. Цвет плащей зависел от специальности ученого: у естественников и философов – ярко-красный с ярко-синими отворотами, у филологов и историков – фиолетовый, у музыкантов – белый. Дмитрий Иванович, с его высоким ростом, несовременным лицом, голубыми глазами и длинными волосами, был, по мнению супруги, в этом одеянии удивительно похож на оперного Фауста (это сходство многие подмечали в нем и без всяких нарядов). Каждый награждаемый, когда подходила его очередь выйти вперед, чтобы выслушать обращенную к нему речь ведущего, сталкивался с еще одной традицией этого мероприятия. Оказалось, студентам, также наряженным в плащи и береты, в этот день было позволено делать всё что угодно: выкрикивать с хоров, не стесняясь в выражениях, любые замечания по адресу новых докторов и вообще дурить как заблагорассудится. Например, кто-то встретил принца Йоркского, своего будущего короля, дурашливыми словами: «Ну, привет, новый папаша!» – с намеком то ли на его будущее царствование, то ли на недавнее рождение сына. В зале присутствовала мать наследника, принцесса Эдинбургская Алиса, однако это шутника не остановило. Но когда на сцену двинулся величественный русский Фауст; в его адрес не прозвучало ни единого возгласа. Наоборот, будто желая ему угодить, какой-то студент во время длинной поздравительной речи, произносимой, естественно, на латыни, крикнул нарядному ведущему: «Да будет, сэр, довольно латыни, говорите по-английски!»
То, что русский гость после Кембриджа отправился на аналогичную церемонию в Оксфорд, для многих было просто удивительным. Дело в том, что эти университеты издавна конкурировали, отношения между ними были неважными и награждать одного и того же человека дипломом почетного доктора было, мягко, говоря, не в их обычаях. Но Менделеев, как видно, сам собой ломал такого рода условности. Оба университета считали за честь вручить ему награду, без всякой оглядки на конкурента. Тут было очевидно, что в проигрыше окажется тот университет, который упустит эту возможность. Награждение в Оксфорде прошло по аналогичной схеме, за исключением того, что во время него зал вообще притих, с галерки не раздалось ни одного лишнего звука, а Менделеев вышел получать диплом с непокрытой головой, держа берет в руках, поскольку не смог подобрать убора по размеру своей огромной головы с торчащими во все стороны наэлектризованными волосами.
Несмотря на множество приятных впечатлений, Дмитрий Иванович на этот раз просто мечтал об отъезде и еле дождался момента, когда они остались в купе одни. Вот как описывает эту сцену Анна Ивановна: «Две недели торжеств, жизни в непривычной, чуждой обстановке так были тяжки ему с его самобытным характером, что он не знал, как выразить радость свободы. Он бросался на диван, раскидывался, вскакивал, опять бросался на диван, наконец, схватил из кармана какие-то мелкие английские деньги, сколько попало в руку, и вдруг выбросил их в окно, так ему нужно было отвести душу в каком-нибудь нелепом, не предписанном правилами поступке. Мне он был очень понятен в ту минуту. Но надо было видеть Ф. И. Блумбах…» (Анна Ивановна эту фамилию не склоняла, произносила и писала по-своему.)
Конечно же такое поведение было связано с особыми обстоятельствами поездки. Дмитрий Иванович хотя и был непостоянен в своем отношении к загранице, но в тех случаях, когда от него не требовалось исполнения неприемлемых правил и обязанностей, она становилась в его глазах (тем более на фоне ставших обычными и для второго брака домашних неурядиц) надежным и в какие-то моменты жизни единственно возможным приютом. Об этом, в частности, свидетельствуют записи, которые он сделал в 1896 году в осенних Каннах: «Холодно и дождь. А всё жаль отсюда ехать: так покойно и уютно и работал хорошо».Пока в его словах звучит только сожаление. Но в тот же день происходит взрыв эмоций: «О, как тяжело уезжать оттуда, где так спокойно жил и где так хорошо и здорово работал. Мне просто страшно, что будет и какой где найду покой и найду ли? Слезы так и бегут непрошеные. И я, обставленный малыми условиями да книгами, здесь еще много бы сделал и нашел новое чуть не каждый день себе и, быть может, другим. Глуп я был, что не позаботился о старости».Эти строки поразительно напоминают последние письма Менделеева из Гейдельберга. Тогда ему тоже страшно было возвращаться в Россию, и заграница казалась такой надежной и удобной для работы. Но теперь, когда жизнь на родине состоялась по самому высокому счету, от чего и от кого ему хочется скрыться на осеннем французском курорте? Может быть, от ощущения безвозвратно уходящего времени и предчувствия тяжких потерь? Уже не узнаем.








