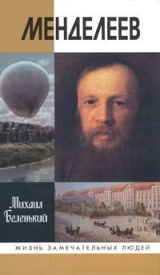
Текст книги "Менделеев"
Автор книги: Михаил Беленький
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 37 страниц)
Мысль о том, что русский народ способен принять в свое лоно «разоружившихся», отказавшихся от национальной самоидентификации иудеев (наравне со всеми остальными «народцами»), встречается и в самой известной книге Дмитрия Ивановича «Заветные мысли» (вышла в 1905 году). Кроме того, там есть еще одно знаковое высказывание, интересный поворот менделеевской мысли: «Желательно, чтобы русский народ, включая в него, конечно, и всю интеллигенцию страны, своё трудолюбие умножил для разработки природных запасов богатой своей страны, не вдаваясь в политиканство, завещанное латинством, его, как евреев, сгубившее и в наше время подходящее лишь для народов, уже успевших скопить достатки, во много раз превосходящие средние скудные средства, скопленные русскими. Прочно и плодотворно только приобретённое своим трудом. Ему одному честь, поле действия и всё будущее».Тут, как водится у Менделеева, одна мысль погружена в другую и еще полдюжины к ним приросли. Главное опасение завершавшего свой жизненный путь русского мыслителя – что русский народ может стать жертвой политиканства, уходящего корнями в латинство и еврейство. Из него вытекает, что в призыве Дмитрия Ивановича к евреям самозабвенно влиться в русский народ могла таиться некоторая боязнь противоположного развития событий. Не вдаваясь в подробности того, какой смысл вкладывал Дмитрий Иванович в слово «политиканство», надо подчеркнуть, что, по мнению Менделеева, оно хорошо лишь для благополучных, давно вставших на путь промышленного развития народов. Из этой же цитаты следует, что евреи в его восприятии были чем-то близки латинянам – тем самым латинянам, которые «портили ему кровь» в детстве и юности и память о которых десятилетиями подстегивала его в борьбе с ненавистным гимназическим образованием. Можно, конечно, предположить, что дело было отчасти в свойственной древним языкам лингвистической сложности, что Менделеев мог со слов отца знать о мучениях семинаристов, корпевших над текстами Ветхого Завета на древнееврейском языке, но всё равно здесь мы наблюдаем удивительное схождение, если чем-то и объяснимое, то лишь поразительной причудливостью менделеевского сознания.
Одно можно утверждать совершенно определенно – Дмитрий Иванович Менделеев никоим образом не был и не мог быть антисемитом. Традиционное русское воспитание, к тому же полученное на окраине страны, не исключало, конечно, некоторых привычных всем стереотипов, но никакой «нутряной», необъяснимой вражды к евреям он никогда не питал. В нем вообще не уживалось ничто необъяснимое – всё, что нуждалось в объяснении, он обязательно осмысливал тем или иным образом, потому что тяжесть неосмысленного ощущения могла лишить его равновесия. Еще более невероятно предположение, что гениальный ученый и провидец страдал комплексом неполноценности из-за присутствия где-то в обозримом мире неких более способных, чем он, евреев, в то время как – и все это знали – во всей России не было ученого талантливее его…
Чем же можно объяснить его, несомненно, чуть более пристрастный взгляд на российских евреев? Есть два отнюдь не бесспорных предположения. Во-первых, Менделеев, патриот и монархист, не мог питать особо добрых чувств к народу, выходцы из которого охотнее всех других пополняли ряды отъявленных врагов его императорского величества. Еврейские фамилии безжалостных к себе и своим жертвам террористов для многих сами собой служили доказательством порочности и опасности всего еврейского населения. Менделееву, мыслящему во всех случаях самостоятельно, этого «доказательства» было, естественно, недостаточно, но и отвернуться от него он не мог. Второе предположение связано с его собственной фамилией и некоторыми свойствами натуры. В течение жизни Менделееву наверняка пришлось сталкиваться с намеками на его не совсем «чистое» происхождение, с шутками, определенным образом трактующими его экзальтированность и неряшливость в одежде. Будучи совершенно русским человеком, он не мог воспринимать эти уколы абсолютно равнодушно, без всяких психологических последствий. Мы ведь знаем примеры из последнего времени, когда даже крупные ученые, «наказанные» фамилией, допускающей оскорбительное, с их точки зрения, толкование, становились едва ли не идеологами отпора некоему злокозненному «малому» народу. Дмитрия Ивановича, слава богу, эта чаша миновала, хотя некоторые энергичные потомки пытаются вновь и вновь поднести ее давно покинувшему земной мир человеку. Жаль, они не сознают, что попытки воспользоваться авторитетом и текстами Дмитрия Ивановича Менделеева в дискуссиях по национальной проблематике часто выглядят как опасное передергивание затвора мощного и очень сложно сконструированного оружия, до сих пор, увы, почти не освоенного и даже не пристрелянного.
Что же касается громких утверждений о членстве Дмитрия Ивановича Менделеева в Союзе русского народа, то никаких достоверных документов на этот счет в сегодняшнем менделееведении нет. [46]46
В научных публикациях, а также архивных материалах о деятельности Союза русского народа (ГАРФ. Ф. 116; Правые партии: документы и материалы. М., 1998. Т. 1. 1905–1910 гг.) сведения о принадлежности Менделеева к данной организации отсутствуют. (Прим. ред.)
[Закрыть]Поэтому вряд ли стоит принимать на веру заявления, за которыми не содержится ничего, кроме внутренней убежденности, тем более что такие публикации сплошь и рядом сами подрывают доверие к себе наличием грубых ошибок. Например, в Интернете можно обнаружить ряд сайтов, предлагающих своим посетителям список самых видных деятелей Союза русского народа. В нескольких случаях Менделеев там действительно указан, но почему-то в звании академика. Уже одно это обличает в списке недавно изготовленную фальшивку, авторы которой не представляют, какого чувствительного предмета они походя касаются. Ведь человек, память которого они потревожили, так никогда и не был избран в академики, и об этой истории – о том, как немцы в Питере русского учителя к себе на порог не пустили, – в свое время знал любой мало-мальски «продвинутый» охотнорядец.
Из Рима Дмитрий Иванович и Анна, уже как супруги, поехали в Неаполь, потом на Капри, где Менделеев сумел, наконец, собраться с мыслями и составил план на ближайшее будущее. Денег не было и в ближайшее время не предвиделось, поскольку Феозва Никитична согласие на развод дала с условием, что ей отойдет всё университетское жалованье бывшего супруга, которому оставался только более-менее твердый доход от издания «Основ химии». Он решил воспользоваться предложением нефтезаводчика В. И. Рагозина, который давно звал его поработать летом на одном из своих волжских предприятий и обещал даже устроить для него лабораторию. Менделеев списался с Рагозиным и окончательно обо всем договорился – летом их ждал новый деревянный дом с балконом на Волгу. Оставшееся время они провели в путешествии по Франции, потом по Испании, где Менделеев еще не бывал. Слушали Stabat Materв великолепном Севильском соборе. В огромном храме был полумрак, и прихожане почему-то не стояли на месте, как в русских церквях, а прохаживались, будто гуляя. Наша пара присела на основание колонны, и уставшая Анна заснула под тихую и величественную музыку, а Дмитрий Иванович слушал, как в молодости, не отрываясь, тенора и орган, которые то накатывали, то удалялись, а то взмывали под самые своды…
Там же, в Севилье, они были свидетелями народного шествия с огромными раскрашенными куклами, изображавшими сцены жизни и подвига Иисуса Христа. Невидимые, спрятанные под платформами солдаты несли на своих головах Христа, Мадонну и евангелистов. Время от времени солдатам подносили вино, и тогда все вокруг начинали смеяться, потому что солдаты благодарно кланялись, и вместе с ними будто бы кланялись несгибаемые фигуры. Красочная и развеселая процессия сопровождалась странным конвоем из двух колонн инквизиторов в белых балахонах, черных остроконечных шапках, с завешенными лицами, в окружении солдат, одетых в средневековые доспехи. И вся эта карнавальная демонстрация во главе с разряженной в пух и прах Мадонной двигалась не простым шагом, а в ритме популярного болеро, что не могло не вызывать одновременно мыслей о всеобщей радости и таком же всеобщем сумасшествии. Начитанному русскому путешественнику вполне могло прийти в голову, что не зря же, в самом деле, Поприщин из гоголевских «Записок сумасшедшего» представил себя королем Испании, а не какой-то другой страны. И в Севильском соборе он, вполне возможно, тоже был – гулял там в полумраке, сердечно и просто отвечая на приветствия преданных ему севильцев. Что-то такое в испанском воздухе, безусловно, присутствовало, хотя и трудно было высказаться на сей счет определенно.
Зато на корриде Дмитрий Иванович выказал свои чувства совершенно недвусмысленным образом. Хозяин гостиницы достал для них билеты на открытие сезона боя быков, которое должна была почтить своим присутствием королевская чета Испании. Но стоило закончиться шествию пикадоров и начаться травле первого быка, как Дмитрий Иванович будто проснулся – разразился взрывом ничем не сдерживаемого возмущения и потащил свою спутницу к выходу. Цирк был переполнен, и двигаться через такое скопление народа пришлось довольно долго, так что Анна, не спускавшая жадных глаз с арены, все-таки успела досмотреть расправу над быком до самого конца, вплоть до пляски мальчишек над заколотым животным…
Еще десять дней они пробыли в холодном, пустом, но тем не менее очаровательном французском Биаррице и, наконец, двинулись в обратный путь, радуясь возвращению и страшась встречи с родиной.
Они проследовали почти прямиком в село Константиново Ярославской губернии, на рагозинский нефтезавод, где к ним вскоре присоединились Иван Евстафьевич Попов и верная Александра Синегуб. Иван Евстафьевич настолько тяжело переживал неопределенность семейного положения дочери, что вскоре после приезда его хватил удар – отнялся язык и нарушилась подвижность руки и ноги. Рагозин прислал хорошего доктора, а ночью возле постели больного дежурили все по очереди. Через какое-то время к Ивану Евстафьевичу вернулась речь, и в остальном дело тоже потихоньку пошло на поправку (но жить этому недавно совершенно здоровому человеку оставалось, увы, всего два года). Менделеев весь день проводил в заводской лаборатории, трудами заглушая чувство вины перед бывшей женой и невыносимую тоску по детям. Взявшись за дело из материальных соображений, он тем не менее был готов заняться решением давно поставленной задачи: переломить пустившую корни в России американскую тенденцию использования только летучих компонентов нефти. Он намеревался пустить в дело всё, включая тяжелые нефтяные фракции.
Рагозина в первую очередь интересовали вопросы, связанные с производством смазочных масел, и Менделеев, углубившись в технологию перегонки нефти с водяным паром, указал ему на огромные и дотоле неизвестные перспективы. Но Дмитрий Иванович, как мы знаем, не мог сосредоточить свои занятия на чем-то одном. Его опыты свидетельствовали о возможности получения широкого ассортимента продуктов из тяжелых фракций нефти и нефтяных остатков. Там же им были получены первые образцы нового «тяжелого» осветительного масла, о котором сразу же сообщила газета «Санкт-Петербургские ведомости»: «Менделеев открыл новый осветительный материал, это жидкость столь же белого цвета, прозрачна и без запаха, как вода, сгорает без остатка, горит светлым белым пламенем, воспламеняется при нагревании до 135 °C». Новое масло, полученное фактически из отходов, стоило того, чтобы ради него страна перешла на осветительные лампы новой конструкции. Менделеев убедил Рагозина объявить конкурс на создание новой лампы и вскоре подключил к этому химическую секцию Русского физико-химического общества.
Кроме этого, Менделеев за короткие летние месяцы успел заняться организацией непрерывной перегонки нефти. Еще прошлой осенью он докладывал на заседании общества свои соображения относительно конструкции установки непрерывной перегонки. В Константинове местный слесарь С. Жемчужников изготовил по его заказу стопудовый перегонный куб для так называемой «деструктивной перегонки нефти и нефтяных остатков с использованием дефлегматора». Результаты пробных запусков давали твердую надежду на успех, но полностью внедрить у Рагозина новую технологию Дмитрию Ивановичу в то лето не удалось, поскольку константиновский завод, как и все рагозинские предприятия, начал испытывать экономические трудности. Но Менделеев не бросит свою идею и через пару лет все равно внедрит ее у другого нефтезаводчика.
С приближением осени Дмитрий Иванович привез новую жену в университетскую квартиру. Феозва Никитична с Ольгой к этому времени временно поселились в Боблове. Володя жил в Морском кадетском корпусе. Расстаться с сыном Менделеев отказался наотрез – Володя был ему светом в окне, главной надеждой в жизни. Решено было, что вне корпуса Володя будет жить у него, не забывая, конечно, о матери и сестре. Ольга Дмитриевна, которой в то время было 12 лет, на всю жизнь запомнила встречу с Дмитрием Ивановичем, вернувшимся из долгой и дальней поездки: «Накануне возвращения отца из-за границы мать получила от него телеграмму о приезде. Я с утра ждала его звонка и бросилась в переднюю ему навстречу, а мать оставалась у себя в комнате. Отец вошел очень тихо, Антон и швейцар вносили его вещи и чемоданы. Я подбежала к нему и поцеловала, он обнял меня и крепко поцеловал, и вдруг у него на левой руке я увидела новое обручальное кольцо, надетое на среднем пальце. Раньше этого кольца не было. У меня екнуло сердце, и я, быстро повернувшись, убежала к матери, оставив отца одного в передней, и вбежав в ее комнату, сказала: «У папы обручальное кольцо»».
Зная непрактичность Феозвы Никитичны и продолжая терзаться чувством неизбывной вины, Менделеев сам устроил всё, что касалось нового жилья для нее и дочери. «Отец сам нашел нам квартиру, пока мы были в Боблове, всю ее обставил, не забыв ничего, до мелочей включительно. К нам с матерью, конечно, перешла вся женская прислуга, только Антон и Алексей остались в университете, но постоянно бывали у нас, помогая во всём. На новой квартире я нашла для себя отдельную комнату, совершенно не напоминавшую детскую. В этой комнате с розовыми обоями была полная меблировка для молодой девушки, а в шкапу лежало прекрасное белье. На новой красивой кровати <фирмы> Сан-Галли было пушистое розовое с белыми полосками одеяло и несколько новых подушек. У матери была прекрасная спальня и вся ее мебель из квартиры при университете. Тогда мне показалось, что этой заботой о нас отец просил у нас прощенья. Он навещал нас по нескольку раз в неделю, выказывая при этом столько внимания и ласки, что мне каждый раз было глубоко жаль его. Однажды во время своего посещения, долго оставаясь у матери в комнате, отец вышел очень тихим и как бы робким и, завидя меня, подошел ко мне, наклонился, крепко прижался головой к моей голове и сказал сквозь слезы: «Когда ты вырастешь, ты всё поймешь и простишь меня»… Отец со своими переживаниями был так одинок».
Под самый новый, 1882 год у Д. И. Менделеева и А. И. Поповой родилась дочь Люба. Они до сих пор были не венчаны. Дело о разводе закончилось, но по церковным правилам бывший супруг шесть лет нес церковное покаяние, не имея права вступить в новый брак. И тогда Менделеев пошел на новый скандал – нашел священника, согласного за десять тысяч рублей (на эти деньги можно было купить хорошее имение) обвенчать его в обход всех церковных правил. Венчание состоялось в Адмиралтейской церкви. Священник был сразу же извергнут из сана, но Дмитрий Иванович и Анна Ивановна стали, несмотря ни на что, законными супругами.
Сказать, что после этого Менделеев вернулся к привычным делам, было бы неправильно, поскольку он практически никогда, ни при каких обстоятельствах их не оставлял. А вот его молодой жене пришлось искать себе занятие. Поскольку возвращение в Академию художеств для семейной дамы было невозможно, Менделеев решил заинтересовать ее своей наукой. Специально для нее, а также для Володи и его товарищей он стал в свободное время читать курс химии с демонстрацией опытов. Кадеты слушали с превеликим вниманием, особенно тот, которого друзья называли Эзопом, – будущий выдающийся ученый, «отец» современного русского кораблестроения, академик и даже Герой Социалистического Труда А. Н. Крылов; но Анну Ивановну химия не увлекла. Тогда по ее просьбе Дмитрий Иванович возобновил вечера художников. Начались регулярные «менделеевские среды». Подобные встречи в Петербурге происходили почти ежедневно: были «ярошенковские субботы», «вторники у Лемоха» и точно не определенные, но от этого не менее интересные вечера у Репина. Посещение этих мероприятий и стало главным, кроме заботы о домашнем очаге, занятием Анны Ивановны. «Ну что, на службу? – шутливо спрашивал Дмитрий Иванович супругу, когда она, уже одетая, приходила к нему в кабинет проститься. – Смотри не забудь взять Катерину». Без горничной он жену в темное время не отпускал. Попрощавшись, ждал, пока ее шаги затихнут в длинном полутемном коридоре, и вновь обращался к своим записям. Работал он часто далеко за полночь, иногда засыпал в чем был.
Несмотря на то, что взгляды профессора Менделеева на государственное и общественное устройство России были диаметрально противоположны популярным в молодежной среде учениям, несмотря даже на досадный «сабуровский инцидент», Дмитрий Иванович оставался любимцем студенчества, и на его лекции набивалось столько народу, что желающим получить место на скамье или на подоконнике приходилось занимать его за два часа до начала. Встреча и проводы Менделеева почти всегда сопровождались восторженными аплодисментами.
К этому времени Дмитрий Иванович, читавший курс неорганической химии первокурсникам-естественникам и математикам (пять лекций в неделю), уже перестал готовиться к каждому занятию, поскольку, с одной стороны, в его голове уже сложилась целостная картина курса (требовалось лишь, чтобы ассистент каждый раз точно отмечал и вовремя подсказывал, на чем закончилась предыдущая лекция), а с другой – написанный текст или даже план мог помешать вольному течению его мысли, которая была способна произвольно, в любой момент, перейти к решению вслух какой-либо научной проблемы. Иногда конкретная химическая тема вдруг получала у Менделеева неожиданное натурфилософское освещение, когда он совершенно отказывался от формул и опытов, заменяя их образами и обобщениями почти гуманитарного свойства. Таких случаев аудитория ждала более всего, сознавая всю меру своей удачи и наслаждаясь картиной великолепной работы гениального мозга. Впрочем, даже обожавшие его студенты не могли назвать его лекции ровными и легкими для усвоения, так как менделеевская манера изложения никак не укладывалась в каноны классической учебной лекции. На строй его лекции прямым образом накладывались не только оригинальные научные и педагогические взгляды, но и душевное состояние ни на кого не похожей личности.
У одних его слушателей складывалось впечатление, что он «читал, всегда хмурясь и негодуя как будто, с трудом справляясь с конструкцией своей речи, тяжеловесною, со многими повторениями и вставочными предложениями. Он говорил, точно медведь валит напролом сквозь кустарник; так он напролом шел к доказываемой мысли, убеждая нас неотразимыми доводами» (В. Е. Чешихин-Ветринский). Другим запомнилось, что «его речь была отрывиста, не всегда лилась гладко, но положения его были точны, в наши головы они вклинивались и отчетливо врезались в память. Иногда он, увлекаясь сам, не замечал, что далеко отошел от курса, унесся в область, нам недоступную, в область химической фантазии, и тогда, спохватившись, останавливался, улыбался, глядя на нас, и, расправляя бороду, говорил: «Это я все наговорил лишнее, вы не записывайте». Между ним и аудиторией существовала какая-то неясно ощущаемая, но прочная нравственная связь» (В. В. Рюмин). В ряде воспоминаний встречается указание на явные трудности, которыми иногда сопровождалось начало лекции, даже на временную бессвязность речи и некие странные, скрипучие звуки, предшествовавшие рождению и вбросу в аудиторию четко сформулированного тезиса, вслед за чем речь Менделеева сразу же обретала свойственную ей мощь и свободу: «Лектор растягивает как-то своеобразно фразу, подыскивая слово. Тянет некоторое время «э-э-э…», вам даже как будто хочется подсказать не подвертывающееся на язык слово, но, не беспокойтесь, оно будет найдено, и какое – сильное, меткое, образное. Своеобразный сибирский говор на «о», всё еще сохранившийся акцент далекой родины! Речь течет всё дальше и дальше. Вы уже привыкли к ней, вы уже цените ее русскую меткость, способность вырубить сравнение как топором, оставить в мало-мальски внимательной памяти. Еще немного, и вы, вникая в трудный иногда для неподготовленного гимназией ума путь доводов, всё более и более поражаетесь глубиной и богатством содержания читаемой вам лекции. Да, это сама наука, более того – философия науки, говорит с вами строгим, но ясным и убедительным языком» (В. А. Яковлев).
Феномен менделеевской речи проявлялся и в ее явном состязании с менделеевской мыслью: «Фразы Менделеева не отличались ни округленностью, ни грамматической правильностью: иной раз они были лаконически кратко выразительны, иной раз, когда набегавшие мысли нажимали друг на друга, как льдина на заторах во время ледохода, фразы нагромождались бесформенно: получались переходы чуть ли не из десятка нанизанных друг за другом и друг в друге придаточных предложений, зачастую прерывавшихся новою мыслью, новою фразою, и то приходивших, – после того, как сбегала словами эта нахлынувшая волна мыслей, – к благополучному окончанию, то остававшихся незаконченными» (Б. П. Вейнберг). Речь не поспевала за мыслью, она растягивалась; слову доставалось значительно больше нагрузки, чем обычно. Но там, где, казалось, смысл фразы готов был вот-вот прерваться или ускользнуть, всё спасала удивительная менделеевская интонация. Читать конспекты его лекций было очень непростым делом: мысль, претерпев неизбежные потери при озвучивании, будто бы вовсе умирала, распластываясь на бумаге. Оживить ее можно было, лишь угадав и применив менделеевскую интонацию. И тогда оказывалось (и оказывается сейчас), что короче, выпуклее и своеобразнее передать вслух менделеевскую мысль просто невозможно. У того же Вейнберга можно взять несколько законспектированных фраз Дмитрия Ивановича: «Гораздо реже в природе и еще в меньшем количестве – оттого и более дорог, труда больше, иод»; «Общежитие, история поставили серебро рядом с золотом, и периодическая система ставит их так же, как и медь, в один и тот же ряд»; «Не только от энергии солнца, летом усиливающейся, но и от измененной влаги, количества водяных паров лето так отличается от зимы».Другое дело, что привычные грамматические инструменты просто выпадают из рук исследователя, вздумавшего подступить к этим фразам.
То же касается и отрывка из конспекта (речь идет о буме открытий, сделанных с помощью спектрального анализа в гейдельбергской лаборатории Бунзена и Кирхгофа): «Как раз в это самое время мне пришлось жить там, и мне пришлось быть свидетелем возрождения этой блестящей части естествознания, которая с тех пор получила самостоятельность и весьма важное значение во всём естествознании, потому что дозволила анализировать при помощи света не только тела доступные, но и отдаленнейшие светила и явления, недоступные прямому соприкосновению с ними, а, однако, посыпающие к нам свет, анализ которого дал нам возможность решить то, о чем мы не могли даже осмеливаться думать разрешать».Текст лекций был необычайно труден для конспектирования, тем более что лектор мог, не меняя тональности, вставить в свою речь, например, просьбу закрыть форточку или отреагировать на то, что в аудитории много кашляющих и чихающих студентов и пообещать в следующий раз принести с собой склянку с каплями датского короля. Тут конспектирующих спасали лишь прочная внутренняя связь с профессором и некий необъяснимый резонанс, помогавший им мчаться вслед за потоком его речи, которая, по мнению одного из его бывших студентов, была сравнима с толстовской прозой, с той лишь разницей, что Дмитрий Иванович мог подтвердить свои слова бесспорным опытом.
Часто бывало, что собравшиеся на утреннюю лекцию студенты ожидали своего профессора дольше положенного. Это означало, что Дмитрий Иванович, уставший от ночной работы, проспал. На этот случай у постоянного и верного менделеевского помощника, старого университетского служителя Алексея Петровича Зверева, которого больше называли Алешей, были четкие инструкции. Если в девять часов профессора нет на кафедре, следует спуститься к нему в квартиру и разбудить. И вот уже Дмитрий Иванович, встрепанный, едва умытый и на ходу одевающийся, взлетает на свое рабочее место, спрашивает своего ассистента и будущего биографа Вячеслава Евгеньевича Тищенко: «На чем остановился?» После этого следует несколько заунывных и скрипучих настроечных звуков, и лекция быстро набирает свой уверенный и мощный ход.
Единственное, чего всегда опасался Менделеев на своих лекциях, – неудачно поставленные опыты. Из-за этого он мог нервничать, проявлять нетерпение и даже ругаться со своими помощниками. Впрочем, такие случаи были редки, и ассистенты, зная нрав Дмитрия Ивановича, были в этом отношении весьма аккуратными. Правда, однажды, когда Алеша, иногда позволявший себе выпить, сорвал Дмитрию Ивановичу опыт, тот его беспощадно изругал, не стесняясь битком набитой аудитории. Провинившийся служитель какое-то время избегал попадаться Менделееву на глаза, пока он сам не почувствовал угрызения совести и не пришел мириться. «Прости меня, брат Алеша», – сказал он Звереву искренне и в полной простоте, на что «брат», весьма удовлетворенный принесенными извинениями, вместо того чтобы по старой дружбе обняться с Дмитрием Ивановичем, неожиданно для себя и Менделеева пустился в невнятные речи о том, что ежели взглянуть на это дело не просто так, а в рассуждении того, что… В общем, Дмитрий Иванович, находившийся в обычном своем нетерпении, не стал дожидаться конца потока обиженного сознания: «Не хочешь, ну и черт с тобой!» – повернулся и побежал по своим делам.
Несмотря на то, что лекции Менделеева был исполнены, как правило, духа подлинного моцартианства (некоторые слушатели утверждали, что их вполне можно было положить на музыку), они всегда давались ему большой кровью. В этом убеждались все, кто видел его, выходящего после двухчасовой лекции из переполненной и душной аудитории. В такие минуты Дмитрий Иванович чувствовал сильнейшее умственное перенапряжение. Чтобы он, потный и усталый, не простудился на холодной лестнице, Алеша обычно накидывал ему на плечи пальто, которое приносил из квартиры. Но часто ему нужен был немедленный отдых, и он, чтобы прийти в себя, усаживался прямо в препаровочной.
Именно в этом помещении, после утренней лекции, Менделеева, дымящего только что скрученной папиросой (курил только свой особый табак, запаха дешевых сортов не переносил), иногда посещало редкое состояние полной душевной расслабленности. Он делался благодушен настолько, что мог без всяких нервов беседовать о чем угодно. Охотно рассуждал о новостях химической науки, беззлобно поругивал бутлеровскую теорию строения и недавно возникшую теорию электролитической диссоциации, яростным противником которых он выступал во всех других случаях. А тут – совсем не заводился и даже смешно показывал, как, по его мнению, отличается упорядоченное состояние молекул соли в растворе, через который идет ток («Это все равно, как если бы меня вот взять да вот так прилизать…»), от состояния в растворе без тока, когда молекулы толкутся в полном беспорядке («…или вот этак растрепать»).Зато очень приветствовал стереохимию за то, что она дает более правильную картину расположения атомов в пространстве. Говорил, что мир атомов и молекул также подчинен ньютоновскому закону тяготения. Любил вспоминать молодость, гейдельбергские забавы, конгресс в Карлсруэ, недавно умершего Дюма, Вюрца, Канниццаро, Эрленмейера… Говорил об университетских делах. В то время Дмитрий Иванович безуспешно хлопотал об устройстве новой лаборатории.
Коллеги интересовались, когда же будут выделены деньги. Менделеев их утешал – говорил, что дело не в новых стенах: «Вон Мариньяк, когда работал в подвале, какие отличные работы делал, а выстроили ему дворец – работать перестал».В такие минуты он бывал совершенно откровенен, мог даже сам себя ругнуть, скажем, за пристрастие к масленичным блинам: «Люблю я их, проклятых, хоть они мне и вредны».
В препаровочной Менделеева можно было дурашливо спросить, сколько денег он огребает за подделку дорогих вин для знаменитых предпринимателей и торговцев братьев Елисеевых (коллеги знали, что Менделеев даже не знаком с этими господами), – он только добродушно посмеивался. Впрочем, о реальных заработках он отвечал без задержки. «Сколько вам заплатил Рагозин за работу на Константиновском заводе?» – «Три тысячи рублей».Для всемирно известного ученого это было мало, но Менделеев в своих отношениях с заводчиками всегда избегал больших денег: «Много дадут и много стребуют».А вот профессорскую зарплату он считал маленькой, рассказывал, что его английский коллега и ровесник профессор Генри Энфилд Роско получает, в переводе на рубли, 300 тысяч в год, а молодой Джеймс Дьюар – 70 тысяч…
В 1883 году у Менделеева родился сын, названный в честь дедов Иваном. Средств, которые зарабатывал Дмитрий Иванович, вполне хватало на содержание двух семей. Феозва с дочерью снимали хорошую, удобную квартиру в Симеоновском переулке, рядом с гимназией Спешневой, где училась Леля. Лето они проводили на съемной даче в живописных окрестностях станции Сиверской. В 1884 году Дмитрий Иванович начал строить в Боблове, за пределами старого парка, новый дом, в котором через год поселился с новой семьей. Феозве Никитичне с дочерью он предложил занять старый дом, но бывшая жена по понятным причинам отказалась. Тогда он купил для них дачу в Ораниенбауме.
В 1887 году Дмитрий Иванович произвел окончательный раздел своего имущества между двумя семьями. Бывшей жене и дочери вдобавок к даче он выплатил 15 тысяч рублей (на самом деле речь шла об эквиваленте этой суммы в виде четырех тысяч экземпляров четвертого издания «Основ химии», которые можно было легко реализовать по пять рублей за штуку), а Боблово стало считаться наследством Володи и новой семьи. Впрочем, эта «окончательность» была делом условным – он не уставал баловать свою Лелю нарядами и сладостями, а когда пришло время, приготовил ей роскошное приданое.








