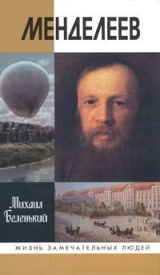
Текст книги "Менделеев"
Автор книги: Михаил Беленький
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 37 страниц)
В Боблове, в новом доме, тем временем подросли другие дети. В имении многое изменилось. Старый быт исчез, и вместе с ним исчезло всё, что могло напоминать Анне Ивановне о прежней семейной жизни ее супруга. Бесследно пропали Володина морская бескозырка и Олина тележка вместе с маленькими грабельками, с которыми малолетняя «работница» управлялась столь усердно, что Дмитрий Иванович наказал управляющему платить ей по справедливости. В усадьбе уже мало кто помнил о былых веселых и шумных прогулках во главе с Дмитрием Ивановичем по окрестностям, об обязательном в конце сенокоса походе на луг возле деревни Горшково, где местные крестьяне из года в год наметывали огромный стог сена. Навершие всегда делал один и тот же умелый старик с развевающейся на ветру рыжей бородой. Звали его тоже Дмитрий Иванович. Они были добрые знакомцы, и всем вокруг была интересна их встреча. «Лови, Дмитрий Иванович!»– кричал снизу Менделеев, готовясь бросить своему приятелю специально захваченную из дома бутылку водки. «Кидайте, ловлю, Дмитрий Иванович!» – откликался тот сверху и ловко подхватывал гостинец. И всем было весело. Слуги в это время раздували у маленькой речки самовар и расстилали прямо на берегу скатерть для чашек и закусок…
Теперь хозяин усадьбы редко покидал Бобловскую Гору. Имение использовалось только для летнего отдыха, опыты по агрохимии давным-давно не велись, как и почти вся хозяйственная деятельность. Доходов едва хватало на содержание усадьбы. Но радостная дачная жизнь продолжалась, хотя из прежних, когда-то молодых голосов здесь остался всего один, принадлежащий любимой племяннице Дмитрия Ивановича Надежде Яковлевне Губкиной, в девичестве Капустиной. Ей было уже за сорок, но она продолжала участвовать в затеях новой молодой компании, играла в театральных постановках и даже сама писала смешные детские пьесы.
Иногда спектакль оказывался еще более смешным, чем хотелось автору. Однажды на представление пришел сам Дмитрий Иванович и уселся прямо возле подмостков. А на сцене должна была произойти встреча заблудившейся в лесу и спрятавшейся в дупле девочки Маши (артистка Любовь Менделеева, десяти лет) и Серого Волка (артистка Федосья-скотница). Худенькая и очень подвижная Федосья, прикрытая настоящей волчьей шкурой, должна была, как и положено четвероногому хищнику, выйти на четвереньках, и на репетиции у нее это очень здорово получалось. И вот Волк, озираясь и шумно принюхиваясь, благополучно достиг середины помоста. Но тут Федосья случайно заметила хозяина усадьбы. Волк быстро вскочил на задние лапы. «Здравствуйте, барин!» – «Не барин, матушка, а Дмитрий Иванович», – невозмутимо поправляет Менделеев, который ни при каких обстоятельствах терпеть не мог ни «барина», ни «превосходительства». «Здравствуйте, Дмитрий Иванович», – исправляет ошибку Волк и вновь опускается на четвереньки…
С годами увлечение юных бобловских обитателей театром становилось всё более осознанным. Наконец, летом 1898 года в сенном сарае ими был дан настоящий костюмированный любительский спектакль. Любе было в это время уже 16 лет, она успела превратиться в крепкую и ладную красавицу, Ване исполнилось 13. (Мальчик отлично учился в гимназии, и родители с беспокойством думали о его дальнейшей судьбе. Сотрясаемый беспорядками университет всё меньше являлся местом, где можно было получить хорошее образование. Старый друг Менделеева И. И. Мечников предлагал устроить способного юношу в парижскую закрытую Ecole Normale, где учились исключительно французы, но для сына Менделеева готовы были сделать исключение. На праздники Илья Ильич с супругой могли бы приглашать его в свой дом. Анна Ивановна считала такое предложение «прекрасным», но Дмитрий Иванович от него отказался.) Близнецы Маша и Вася были еще малы, им было по 12 лет. Зато в спектакле приняли участие молодой учитель Вани, две внучатые племянницы Дмитрия Ивановича Лидия и Серафима, семнадцати и восемнадцати лет (внучки брата Ивана Ивановича и дочери полного тезки нашего героя), и множество соседской молодежи – в округе обзавелась дачами значительная часть менделеевской родни, коллег и знакомых.
Первый спектакль назывался «Гамлет». Режиссером, исполнителем ролей Гамлета и Клавдия, а также основным «мотором» этого театрального лета в Боблове был внук А. Н. Бекетова, семнадцатилетний студент-юрист Александр Блок.
Я – Гамлет. Холодеет кровь,
Когда плетет коварство сети,
И в сердце – первая любовь
Жива – к единственной на свете.
Тебя, Офелию мою,
Увел далёко жизни холод,
И гибну, принц, в родном краю
Клинком отравленным заколот.
В первый раз Александр появился в Боблове верхом на белой лошади, в элегантном костюме и щегольских сапогах. Люба была в розовой блузке с туго накрахмаленным стоячим воротничком и маленьким черным галстуком, строгая и неприступная. Он почти сразу влюбился, она же отнеслась к нему настороженно. Во-первых, девушка привыкла к молодым людям в форменной одежде – гимназистам, студентам, лицеистам, кадетам, юнкерам и офицерам; во-вторых, у молчаливого франта чувствовался опыт взрослой любви. Тут она не ошиблась: прошлым летом юный поэт пережил бурный и отнюдь не невинный роман с артисткой Ксенией Садовской, зрелой кокеткой, матерью троих детей. Дело было на водах в Бад-Наугейме, где послушный и благовоспитанный гимназист вдруг неожиданно вышел из-под контроля матери и тетки и, нарушив все приличия, открыто вступил в связь с дамой старше его на 20 лет.
Что было, то было; теперь же под сенью старых вязов начиналось новое чувство, прекрасное и невыносимое. Любовь всматривалась в Александра: «Это что-то не мое, это из другой жизни, или он уже «старый»? Да и лицо мне не нравится, когда мы поздоровались. Холодом овеяны светлые глаза с бледными ресницами, не оттененные слабо намеченными бровями. У всех у нас ресницы темные, брови отчетливые, взгляд живой, непосредственный. Тщательно выбритое лицо придавало человеку в то время «актерский» вид – интересно, но не наше. Так, как с кем-то далеким, повела я разговор, сейчас же о театре, возможных спектаклях. Блок и держал себя в то время очень «под актера», говорил не скоро и отчетливо, аффектированно курил, смотрел на нас как-то свысока, откидывая голову, опуская веки. Если не говорили о театре, о спектакле, болтал глупости, часто с явным намерением нас смутить чем-то не очень нам понятным, но от чего мы неизбежно краснели.
Мы – это мои кузины Менделеевы, Сара и Лида, их подруга Юля Кузьмина и я. Блок очень много цитировал в то время Козьму Пруткова, целые его анекдоты, которые можно иногда понять и двусмысленно, что я уразумела, конечно, значительно позднее. У него в то время была еще любимая прибаутка, которую он вставлял при всяком случае: «О yes, my kind!» А так как это обращалось иногда и прямо к тебе, то и смущало некорректностью, на которую было неизвестно, как реагировать…» Они никогда не будут знать, как реагировать друг на друга. В их отношениях смешается всё то, что Дмитрий Иванович Менделеев считал нераздельными гранями единого мировоззренческого целого: вещество, сила и дух; инстинкт, разум и воля; свобода, труд и долг. Смешается и распадется на чудовищные заблуждения и великие стихи.
Девятнадцатого декабря 1898 года Менделеевы присутствовали на дневном спектакле в Мариинке. Мероприятие носило официальный характер и было посвящено съезду ученых. Кроме самих ученых, облаченных в парадные мундиры и ленты, и их нарядных жен, в зале блистали представители двора и свиты. Дмитрий Иванович уже давно не ходил в театр, но деваться некуда – от именного пригласительного билета отмахнуться было затруднительно, да и Анна Ивановна очень хотела там быть. Когда тайный советник Менделеев во фраке с лентой и орденами и его жена в новом бархатном платье появились в ложе, зал сначала замер, потом как-то необычно заволновался. Если бы Дмитрий Иванович обращал внимание на подобные вещи, он бы сразу забеспокоился, но он был погружен в свои мысли и ощущения от неудобного наряда. Между тем публика продолжала вести себя странно, незнакомые люди наводили на них бинокли, качали головами и переговаривались. Наконец, к менделеевской ложе быстрым шагом направился человек. Это был племянник Дмитрия Ивановича Михаил Капустин, профессор медицины Казанского университета, тоже участник съезда. Поклонившись дяде, он тихо и быстро прошептал несколько фраз Анне Ивановне: «Сегодня ночью умер Володя Менделеев. Я сам с вечера до утра был у его постели. Инфлюэнца и воспаление легких. Феозва Никитична была при сыне неотлучно. Публика волнуется, потому что все уже читали в газетах».
Анна Ивановна тут же сказалась больной и попросила мужа отвезти ее домой. В карете она передала Дмитрию Ивановичу страшное известие. Несчастный отец помертвел. На пороге квартиры скончавшегося сына, куда он приехал уже один, с ним сделалась невыносимая истерика. Великий разум отказывался воспринимать потерю. С Володей Менделеева связывали узы сродни тем, которые когда-то соединяли его с матерью. Он всегда чувствовал душу сына как свою. Менделеев рыдал и кричал не переставая, но ужас произошедшего не проходил, его нельзя было избыть никаким усилием ума и воли. Потом уже Дмитрий Иванович узнал, что Володя заболел неделю назад и его супруга Варвара Кирилловна тотчас же с нарочным послала ему на Забалканский (с осени прошлого года Менделеев с семьей жил в новом доме при Главной палате) записку. Потом она еще одной запиской сообщила о резком ухудшении состояния здоровья мужа. Этих посланий Менделеев не читал (по крайней мере, второго, самого тревожного). То ли по слабости собственного здоровья Дмитрия Ивановича его решили оградить от очередного беспокойства, связанного с прежней семьей, то ли записка просто затерялась в домашнем водовороте…
Глава десятая
РУССКИЙ ПРОТОТИП
«Погиб мой умница, любящий, мягкий, добродушнейший сын-первенец, на которого я рассчитывал возложить часть своих заветов, так как знал неизвестные окружающим высокие и правдивые, скромные и в то же время глубокие мысли на пользу родины, которыми был он проникнут», – писал Дмитрий Иванович. Владимир Менделеев, по отзывам родных и знакомых, был человеком редкой, глубокой души. Отец, тосковавший по нему весь остаток жизни, однажды сказал, что старший сын его ни разу не обидел. Эта фраза, учитывая сложный и обидчивый характер Менделеева-старшего и довольно непростую судьбу Владимира, очень много говорит об их отношениях и вообще о том, как мог восприниматься этот совсем еще молодой человек окружающими. Скорый и тяжелый уход Владимира из жизни (находясь в сознании, он вел себя мужественно и кротко, в беспамятстве – звал отца, что-то бредил о России, отдавал команды матросам, снова и снова спасая судно в своем последнем плавании) оказался ударом не только для кровных родственников. Муж Ольги Алексей Трирогов настолько тяжело перенес кончину своего друга детства и юности, что с этого времени стал страдать приступами грудной жабы, [51]51
Так тогда называли стенокардию. (Прим. ред.)
[Закрыть]которая всего за пять лет свела его в могилу. Дмитрий Иванович, запершись на несколько суток у себя в кабинете, пришел в столь ужасное состояние, что потерял физическую возможность присутствовать на похоронах сына, что еще более умножило его отчаяние и муки совести. Владимира Дмитриевича похоронили на Волковом кладбище рядом с могилой Марии Дмитриевны, Лизы и Маши Менделеевых. Когда-то он по поручению отца снимал план этого кладбищенского участка. Теперь здесь нашлось место для него самого.
Едва придя в себя, Менделеев берется за подготовку к печати незаконченного «Проекта поднятия Азовского моря запрудою Керченского пролива», который Владимир задумал еще в юности, во время совместного с отцом путешествия на Кавказ, и к которому вернулся сразу после отставки, за считаные месяцы до смерти. Приведенные в начале главы слова – из предисловия, которое Дмитрий Иванович предпослал брошюре с проектом покойного сына.
Одновременно его мысли обращаются к маленькому сыну Владимира, названному в честь деда Митей. Через два дня после похорон Менделеев начинает переписку («Заехать самому мне нельзя, потому что нет ни сил, ни позволения докторишки…»)с вдовой сына и ее родителями. Вначале он беспокоится лишь о том, что уже не увидит Митю взрослеющим, и просит о возможности «хоть изредка видеть этого ангела», «оставшегося Володю».Но уже через три дня он шлет совсем иное письмо: «Милая, родная Варвара Кирилловна! Отдайте мне Митюшу Христа ради! Это была бы радость моя. И мне кажется, всё бы устроилось наилучшим образом. Буду лелеять его как сына. Вы самостоятельны. Приезжайте, пожалуйста. Устроим сразу. Дай бог, чтобы душа Ваша откликнулась на зов душевно преданного Вам Д. Менделеева».
Конечно же он требует невозможного – ни вдова, ни ее родители, его старые друзья Лемохи, ни за что не смогут расстаться с любимым сыном и внуком. Но Дмитрий Иванович не желает ничего понимать. Не хотят отрывать ребенка от матери? Пусть она тоже переедет в его дом. Не нужно никакого содержания – наоборот, он сделает внука своим наследником наравне со своими детьми. В пылу горячечной переписки Менделеев приходит к мысли, что главные враги его соединения с драгоценным Митей – те, другие дед и бабушка, что всё дело в них, что это они стоят между ним и вдовой сына, с которой он обязательно смог бы договориться. Он настаивает на встрече с Варварой Кирилловной, поскольку только она одна «может стоять между мной и Митей»,умоляет, требует, скандалит. Но ребенок останется у Лемохов до конца своей короткой жизни. Двух лет от роду Митю Менделеева повезут в подмосковную деревню Ховрино, где всегда проводили лето Лемохи, и он умрет там от приступа аппендицита.
По всей видимости, Дмитрий Иванович, уже давно привыкший считать себя стариком, по-настоящему состарился именно после этих событий. Внешность его осталась по-прежнему необычной и притягивающей внимание, но стал слабеть позвоночник. На фотографиях видно, что, сидя, он стал сильнее горбиться и даже сделался будто бы ниже ростом и голова его теперь куда больше, чем раньше, уходила в плечи. Глаза стремительно слепли от катаракты. Всё чаще болели легкие, состояние которых иногда ухудшалось до кровохарканья. Он стал еще больше курить, хотя, казалось, что больше уже невозможно. От постоянного кручения самодельных папирос пальцы Дмитрия Ивановича стали коричневыми. Когда кто-нибудь из близких людей просил его поостеречься от этого вредного занятия, ученый отшучивался: мол, вреден табак или нет, неизвестно, а что микробы в горящей папиросе погибают – это точно, сам в микроскоп наблюдал.
По-прежнему почти круглые сутки он пил крепчайший чай, который ему присылал из Кяхты хороший знакомый. Чай доставлялся в менделеевскую квартиру в большой упаковке, «цибике», и поэтому требовалось очень быстро, чтобы чай не выдохся и не потерял свежести, высыпать его на расстеленные по полу скатерти, перемешать (в цибике чай лежал слоями) и расфасовать в большие стеклянные бутыли с притертыми пробками. К этой процедуре привлекались не только все домашние, но и кое-кто из коллег и знакомых, которых Дмитрий Иванович очень любил одаривать своим фирменным китайским чаем. Чай для Менделеева беспрестанно заваривал его любимый слуга Михайла, отставной матрос и бывший Володин денщик, смотревший за Дмитрием Ивановичем как за малым дитем и благотворно влиявший на него при всех обстоятельствах. Одно время Менделеев даже пытался сделать из Михаилы лаборанта – такого же, как университетский служитель Алеша, – но после того, как Михайла, будучи приставлен к кипячению ртути и допустив, чтобы «ртють убег», раскатившись по всей лаборатории, перепугался едва ли не до разрыва своего доброго и верного сердца, эту затею оставил. Кстати сказать, упомянутый Алеша (Алексей Петрович Зверев, невозмутимо прощавший профессору Менделееву всю исходящую от него панику и нервотрепку и дождавшийся-таки однажды от него слов: «Ты уж, братец, того… прости меня, уж виноват», – после чего оба зарыдали, обнялись и облобызались) после ухода Менделеева из университета почувствовал себя более спокойным, защищенным и даже зафрантил – некоторые молодые преподаватели стали брать его с собой ассистентом на подработку на фельдшерских и прочих курсах, и для таких выездов он завел себе белую манишку, манжеты и вообще оказался не прочь произвести впечатление «университетского» человека.
Утраты, которые потрясали Дмитрия Ивановича одна за другой (в 1901 году умерла его сестра Екатерина Дмитриевна Капустина, а в 1902-м – брат Павел Иванович), вполне могли его убить. Однако Менделеев остался жить, что для него означало мыслить, трудиться и не входить в противоречие со своей натурой. Он стал еще более привержен заведенному домашнему укладу, почти никуда не выходил, бывал только на работе или, изредка, в Министерстве финансов. В командировки, конечно, ездил, но на подъем стал явно тяжелее. Летом – Боблово, зимой – Канны. После обнаружения закупорки вены на ноге у конторки стоял редко, работал в основном в мягком кресле за небольшим столом с приставленным к нему книжным стеллажом. В кабинете не было электрического освещения (его заменяла очень хорошая керосиновая лампа системы Домберга). В квартире не было телефона: «Если бы я завел себе телефон, то у меня не было бы свободной минуты. Мне никто не нужен, а кому я нужен – милости просим».(Впрочем, тут Менделеев немного лукавил. Он мог обойтись без телефона, поскольку жил совсем рядом с Главной палатой и у него был Михайла, которого сотрудники не зря прозвали Удочкой. Михайла то и дело мчался в Палату, «выуживая» нужного сотрудника к управляющему.) Дмитрий Иванович не признавал ванну и любил париться в бане, где получал полное удовольствие, за исключением тех случаев, когда в парной кто-нибудь его узнавал и начинал приветствовать. Он почти никогда не обращался к врачам, предпочитая им старый теплый халат, мягкие валенки и жесткий диванчик. В его «системе жизнеобеспечения» огромную роль всегда играл сон, который не могли потревожить ни грохот обрушивавшихся штабелей с книгами, ни паника в загоревшемся железнодорожном вагоне (оба случая зафиксированы в мемуарах близких ему людей). Сон заряжал его энергией, растрачиваемой, как всегда, в огромном количестве.
Менделеев, отвечавший за точность отечественных и международных эталонов, хранившихся в Главной палате мер и весов, и сам был, несмотря на сложность и противоречивость характера, эталоном (как тогда говорили, прототипом) настоящего русского человека. Его экзальтация, то и дело возникавшая из страха не найти понимания, легко уживалась с качествами, свойственными глубинному народному сознанию. Видимо, поэтому он не только испытывал сильную тягу к общению с носителями такого же сознания, но и обладал способностью свободно и точно раскрывать в своих работах суть их нужд, устремлений и заблуждений – в отличие от записных публицистов, немедленно «пускавших петуха», как только дело доходило до «чаяний народных».
Дел у Менделеева на рубеже 1900-х годов по-прежнему было много, но по странному стечению обстоятельств почти все они (кроме тех, что непосредственно касались строительства и оснащения Главной палаты мер и весов и реорганизации поверочного дела в России), как никогда ранее, отмечены какой-то наглядной тщетой, неуклонно стремящимся к нулю результатом огромных усилий и надежд.
Еще в 1898 году Менделеев обращается в Святейший синод с просьбой пересмотреть вопрос о выборе наиболее приемлемого календарного стиля. Продолжительность года по принятому в России юлианскому календарю настолько отличалась от реального астрономического года, что каждые 128 лет набегала ошибка в целые сутки. К концу XIX века Россия, таким образом, отстала от внешнего мира на 13 дней. В 1900 году в Париже должна была собраться международная конференция, посвященная проблеме деления времени, и Менделеев, бывший противником и юлианского, и григорианского стиля, предлагал разработать проект нового, максимально точного календаря, с которым можно было бы выйти на международное обсуждение. По инициативе Дмитрия Ивановича было решено созвать в рамках Астрономического общества комиссию из представителей заинтересованных министерств, церкви, Академии наук, а также научных обществ – Географического, Русского технического и Вольного экономического. Все представители, за исключением делегатов от Академии наук, немедленно включились в работу. С большим опозданием от академиков пришел ответ, свидетельствующий о том, что академия сама с 1830 (!) года занимается проектом реформы русского календаря и в настоящее время «вошла в ходатайство» о создании собственной комиссии по данному вопросу. Впрочем, Дмитрий Иванович, приличия ради, был даже приглашен в академическую комиссию в качестве представителя Министерства финансов. В обеих комиссиях Менделеев отстаивал свой проект, опиравшийся на расчеты американского астронома С. Ньюкомба и немецкого ученого В. Форстера. Менделеевский календарь представлял собой вариант юлианского, но с остроумной поправкой – каждый 128-й год должен был считаться високосным, что максимально приближало календарный год к астрономическому. Этот проект поддержан не был, притом что никто из коллег ничего другого не предложил. Работа обеих комиссий в конце концов зашла в тупик, и они были распущены. Управляющий Главной палатой мер и весов, в обязанности которой по новому закону входила задача хранения нормального времени, остался с пустыми руками и был вынужден хранить старое русское время.
В 1897–1899 годах Менделеев по настоянию Витте пишет несколько писем новому императору Николаю II в защиту промышленного преобразования России и связанной с этим политики протекционизма. Царь, не имевший твердой позиции на этот счет, склонялся к сохранению традиционного сельскохозяйственного уклада русской жизни. Как пишет один из сподвижников Витте В. И. Ковалевский, «к нему (Менделееву. – М. Б) часто обращался министр финансов С. Ю. Витте с просьбой в письмах к царю отпарировать нападение наших аграриев на индустриальное направление нашей экономической политики. Партия наших аграриев всё более старалась убедить царя в том, что Россия должна быть земледельческою страною «пар экселанс», [52]52
Par excellence (фр.) – по преимуществу.
[Закрыть]что фабрики и заводы у нас создают тревогу и беспокойство, вносят в страну субверсивные идеи…».
Эти просьбы Витте ни в коей мере нельзя связывать с предположением, что сам Сергей Юльевич был лишен литературного дара. Достаточно ознакомиться с любым из составленных им и «повергнутых на благоусмотрение Его Императорского Величества» документов, чтобы оценить их блестящий стиль и великолепную логику. Например, в докладной записке императору «О положении нашей промышленности» (февраль 1900 года) после краткого и очень убедительного анализа промышленной статистики Витте пишет: «И в промышленном, и в торговом отношении Россия очень отстала от главнейших иностранных государств. Несмотря на происшедший быстрый рост фабрично-заводского дела за последние десятилетия, благосостояние населения продолжает зиждиться преимущественно на земледельческом промысле. Горные и фабричные продукты предлагаются на рынке в ограниченном количестве, цены на них поэтому стоят относительно высокие, вследствие чего и потребление их, поневоле, ограниченное. Большинство населения находит заработок преимущественно в земледельческих работах, ограниченных по климатическим условиям сравнительно коротким периодом, вследствие чего народный труд не получает полного использования. Внешняя торговля питается, главным образом, продажей за границу сырых произведений, не представляющей больших выгод вообще и, главное, всецело подверженной стихийным влияниям изменчивых метеорологических условий. При таких обстоятельствах благосостояние населения не может быть ни высоким, ни устойчивым». Но факты, даже изложенные столь ясным образом, плохо укладывались в голове «хозяина земли русской», как обозначил свою профессию Николай II в анкете Всероссийской переписи 1897 года. Витте жаловался Менделееву, что «он один не в силах убедить», и просил помощи. Любопытно, что и сам император в поисках собственной точки зрения просил министра финансов, чтобы ему то же самое изложил еще кто-нибудь, например, Менделеев или ближайший министерский сотрудник Витте В. И. Ковалевский. Таким образом, лагерь сторонников индустриализации имел возможность воздействовать на самодержца с помощью разных литературных стилей: Витте – классического делового, Ковалевский – опираясь на смеховую культуру («Я составил записку несколько в юмористическом духе, развивая ту мысль, что идиллические идеалы Жан-Жака Руссо приведут нас к падению материальному и духовному. Ссылаясь, между прочим, на Вильгельма Рошера (известный немецкий экономист. – М. Б.), который доказывал, что чисто земледельческие страны обречены на бедность и политическое бессилие»), Менделеев – своим неординарным, ярким и выпуклым слогом.
Все три письма Дмитрия Ивановича государю (речь идет об отправленных, поскольку в некоторых случаях Менделеев садился писать письмо императору и по собственной инициативе, но все они остались в черновиках) касались сути покровительственной системы. «В царствование вашего деда решились удовлетворять народившийся спрос дешевым иностранным товаром, уплачивая за него хлебом и, когда его не доставало, а его не доставало, – займами… Если бы зараза фритредерства, пригодного только для такой промышленно-зрелой страны, как Англия, не господствовала тогда в России, если бы для капиталов, появившихся в виде выкупных сумм, своевременно были даны промышленные дела, дворянство сослужило бы новую службу, не прожило бы нажитого… Современная мысль —писал он далее , – еще не окончательно рассталась с фритредерскими началами, господствовавшими лет сорок тому назад повсюду; они по временам оживают, чтобы падать затем еще более. В умах же многих, преимущественно чиновнических и вообще потребительных, классов фритредерство считается еще и ныне передовым признаком либерализма… В сложившихся условиях только необходимость и здравое понимание действительности, но не научные изыскания, дают торжество протекционизму. Д. Менделеев. Доктор С. -Петербургского, Эдинбургского, Геттингенского, Оксфордского и Кембриджского университетов, почетный член многих академий, ученых обществ и Совета торговли и мануфактур, заслуженный профессор, управляющий Главною палатою мер и весов, тайный советник».Дмитрий Иванович в списке своих сочинений отметил: «Оба письма(1897 года. – М. Б.), по словам Витте, приняты были государем хорошо и некоторое действие произвели», «Второе письмо государь пометил во многих местах и приказал напечатать и передать некоторым членам Государственного совета».Как свидетельствовали современники, работа самодержца с такого рода письмами зачастую происходила следующим образом: приближенный сановник, представлявший тот или иной документ, деликатно отмечал ногтем самые важные, с его точки зрения, куски текста. Император читал нужные места, подчеркивая заинтересовавшие его слова и фразы, а затем рядом, на полях, писал свое мнение. В одной из статей Дмитрия Ивановича, принесенной Витте во дворец (письма были отнюдь не единственными произведениями Менделеева, с которыми царь пожелал познакомиться), Николай II прочел отмеченный кусок и даже написал на полях что-то благожелательное; что же касается подчеркиваний, то единственным местом, удостоенным высочайшего внимания, оказалось упоминание имен младших детей Менделеева – Любы, Вани, Васи и Муси, сделанное постольку, поскольку имел место пассаж о надеждах автора на лучшее будущее страны.
Неудачным, принесшим множество огорчений Дмитрию Ивановичу, оказался замысел ледокольной полярной экспедиции, к которой он начал готовиться еще с весны 1897 года, как только узнал от вице-адмирала С. О. Макарова о его идее «исследовать Ледовитый океан при посредстве ледоколов». С тех пор они стали единомышленниками и энтузиастами прокладки Северного морского пути. Евразиец Витте, которому была очень близка мысль связать Берингов пролив с другими русскими морями, сразу поддержал эту блестящую идею. Уже к осени того же года был решен вопрос о правительственном финансировании строительства современного, по последнему слову науки и техники, ледокола, а Менделеев был включен в комиссию по его проектированию. Из нескольких вариантов комиссия останавливается на предложении английской судостроительной фирмы из Ньюкасла. Изумляют сроки исполнения русского заказа: в конце 1897 года Макаровым был подписан договор на строительство ледокола, названного по имени сибирского атамана «Ермаком», что, несомненно, должно было греть душу Менделеева, а уже в феврале 1899-го над «Ермаком» был поднят русский триколор (вместо Андреевского флага, поскольку военно-морское начальство не поддерживало «полярных» идей Макарова). Строительство велось под неусыпным надзором самого Макарова и с использованием его новаторских разработок.
По настоянию Менделеева модель «Ермака» была сначала испытана и доработана в опытовом бассейне, где были проведены исследования мощности, скорости и работы винтов будущего корабля, а также предложено важное техническое новшество для уменьшения поперечной качки корпуса. В дальнейшем на верфи присутствовал представитель Менделеева, следивший за ходом работ, которые Дмитрий Иванович считал наиболее ответственными. В том же году Менделеев и Макаров подают Витте записку «Об исследовании Северного полярного океана во время пробного плавания ледокола «Ермак»». Экспедиция намечалась на лето 1899 года и включала в программу, кроме главной задачи, обширные астрономические, магнитные, метеорологические, гидрологические, биологические и химические исследования. 1 марта 1899 года «Ермак» покинул Ньюкасл и взял курс на Кронштадт, где ему суждено было пережить свой первый триумф – он освободил из ледяного плена корабли Кронштадтской эскадры. Затем новый ледокол с легкостью проделал то же на рейдах портов Ревеля и Петербурга.
До самого конца активной подготовки к предстоящей экспедиции, в которую Менделеев решил взять с собой своего незаменимого Ф. И. Блюмбаха и талантливого инженера В. П. Вуколова, которого высоко ценил еще со времени работы над бездымным порохом, практически до отплытия никто из действующих лиц этой драматической истории не подозревал, что горячие союзники Менделеев и Макаров решительным образом разойдутся во мнениях, когда речь зайдет о маршруте плавания и руководстве научными исследованиями. Макаров, которого более всего интересовал конкретный вопрос о возможности проводки торговых судов в Карском море с выходом к устьям Оби и Енисея, считал, что «Ермак» пойдет, огибая сушу и избегая захода в центральную полярную область с ее многолетними льдами; Менделеев же настаивал на более коротком и более решительном броске: сначала прорубить путь к Северному полюсу, а затем «спуститься» оттуда к Сахалину. Что касается руководства научными исследованиями, то вице-адмирал полагал, что поскольку на судне должен быть один командир, то ему же следует поручить и руководство научной частью экспедиции. Менделеев категорически возражал. Решающее объяснение произошло в кабинете Витте, после чего Менделеев и его товарищи отказались от участия в ледокольном плавании.








