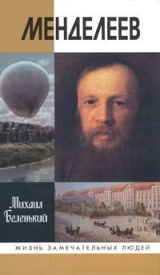
Текст книги "Менделеев"
Автор книги: Михаил Беленький
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 37 страниц)
Без сомнения, Менделеев чувствовал уколы совести за то, что сам еще не подставил плечо родственникам. Поскорее бы раздать долги! Стыдно в его годы поддерживать родных одним и письмами, скромными подарками да еще обещаниями помочь племянникам с образованием. Что еще осталось за «ладожскими» страницами его дневника? Вспоминал, конечно, С. С. Куторгу, которого вместе с друзьями недавно проводил па Смоленское кладбище. Еще не старого профессора уморили безденежье и всё более захлестывавшие университет беспорядки. Дмитрий Иванович не мог не чувствовать, что ему тоже скоро придется искать свое место в начавшемся противостоянии. Беспокоили здоровье и по-прежнему неясное будущее. Много было в его душе такого, что не давало вполне успокоиться, выдохнуть накопившуюся усталость. Но если вернуться к его дневнику, то более всего поражает неожиданный поворот его мыслей. Как ни вчитывайся в пространные менделеевские записи, как ни представляй того, что еще могло занимать и тревожить его мысли, никак нельзя «вычислить» да и просто представить тот путь, которым Менделеев пришел к одной из последних «финских» записей. Она вдруг приоткрывает его тайные раздумья о ярме человеческой пошлости, ее принципиальной отделенности от высоких свершений: «Ничего нет в мире великого, поэтического, что бы могло выдержать не глупый, да и не умный взгляд, взгляд обыденной жизненной мудрости…»
Едва завершив «Органическую химию», Менделеев вместе с Ильиным берется переводить «Курс элементарной химии» Огюста Кагура, бывшего офицера французского Генштаба, расставшегося с военной карьерой ради изучения картофельного масла и ставшего впоследствии академиком химии, пробирером Монетного двора и профессором Центральной школы искусств и мануфактур в Париже. Книга, создававшаяся в таком же бешеном темпе, что и «Органическая химия», вышла в свет всего через несколько месяцев после нее. Этим же летом Менделеев принимает предложения от руководства Второго кадетского корпуса на чтение курса физической географии, Николаевского инженерного училища – на курс химии в старших кондукторских классах и от Института Корпуса инженеров путей сообщения, куда его, наконец, пригласили на место (и по рекомендации) Воскресенского читать лекции и заведовать химической лабораторией. А в сентябре для него нашлись лекции и в университете. Студенты-третьекурсники потребовали от Соколова, чтобы он вел занятия на основе лекций, читанных когда-то, еще до Гейдельберга, Менделеевым, – видимо, память о них крепко засела в студенческих головах. Соколов, только что избранный в Академию наук, гордо отказался. «Прихожу в профессорскую комнату – узнаю, что Соколов не будет читать. Студенты просят его читать, но хотят 3-й курс моих лекций слушать – я взял читать. Народу была куча страшная, читал в лаборатории, и не ладилось немного, но, говорят, остались довольны».Вскоре он будет приглашен преподавать химию и в Технологический институт (на место уехавшего учиться за границу Н. П. Ильина), где проработает без малого десять лет. И в это же время, казалось бы, полностью занятый преподавательской деятельностью, загруженный сверх всякой меры многочисленными подработками, Менделеев возвращается к науке. Как только появляются первые заработки (полностью и навсегда он рассчитается с кредиторами после прихода письма с ассигновкой на получение Демидовской премии и даже получит после уплаты всех долгов «остаток» в 400 рублей), он снова обращается к исследованиям.
Новые работы были посвящены попыткам сформулировать теории пределов, типов и замещения. Часть из них, например «Оптическая сахарометрия», вытекла из самостоятельно написанных разделов вагнеровской энциклопедии: «Занимает теперь меня эта технология Вагнера. Не могу я ничего делать, не привязавшись к делу…»Менделеев вдруг ловит себя на серьезном желании определить оптическую активность скипидара и отдается этому исследованию в лаборатории Леона Шишкова. У него появляется вкус к решению сугубо производственных вопросов.
Первое испытание сил в этой области произошло в имении Кошели, принадлежавшем семье его приятеля А. К. Рейхеля, на предприятии по сухой перегонке древесины. Производство там велось в сопровождении регулярных взрывов и сильных выбросов горячего дегтя, при этом количество и качество готового продукта были весьма низки. Неизвестно, насколько хозяева воспользовались советами Менделеева, но нет сомнений в том, что молодой ученый немедленно по приезде увидел все прорехи доморощенного производства и четко на них указал. Свидетельство тому – его подробные дневниковые записи, касающиеся не только самого предприятия, но и связанных с ним людей: помещиков, крестьян, конторщиков. (Из этих записей мы узнаём, что дальняя зимняя дорога вновь одарила нашего героя душевным покоем: «Моя жизнь – поездки».) Есть косвенное доказательство, что Рейхель все-таки не стал перестраивать производство в Кошелях: скипидар, который он вскоре повез демонстрировать на Всемирной выставке в Лондоне, был выгнан собственноручно Менделеевым в лаборатории Второго кадетского корпуса. Но как бы то ни было, отныне Дмитрий Иванович начинает всерьез думать об усовершенствовании мельниц, установок для перегонки нефти, смолы и прочего промышленного оборудования. Внутреннее ощущение подсказывало: он способен и, стало быть, должен работать, испытывая максимальную и разнонаправленную интеллектуальную нагрузку. Похоже, его мозг жаждал именно такой эксплуатации – почти вразнос, на грани возможностей. Поздней ночью, отводя душу над дневником, Менделеев иногда даже не мог вспомнить, кто сегодня к нему заходил в гости. В таких случаях он пишет: «Кто-то сидел».Но точность бытовой памяти Менделеева не волнует. Если ему что и важно в этот период, помимо преподавания, науки и технологии, так это объединение ученых разных школ и направлений в единое химическое общество. Дух Карлсруэ продолжал громко стучать в его сердце.
Бог знает, чего только не было на пути создания русского химического общества! Члены разных кружков смотрели друг на друга свысока, академики не вполне понимали университетских, старики побаивались молодых. Менделеев, который, несмотря на тяжелый характер, в силу очевидной неангажированности и душевной искренности вызывал доверие у представителей разных группировок, пытался вместе со своими друзьями «сшить» петербургское химическое сообщество, натыкаясь порой на удивительные препятствия и делая очень важные для себя открытия. Так, например, произошло, когда он вместе с Леоном Шишковым решил уговорить академика Фрицше выступить в качестве руководителя будущего общества. Фрицше казался им наиболее приемлемой фигурой: академик, но без академического снобизма, немец, но без спеси, молодым охотно помогает, душой болеет за русскую науку. На одном из приемов, которые Фрицше устраивал для коллег, они увлекли хозяина в библиотеку и изложили ему свой план. В ответ на это важный, всегда уверенный в себе Фрицше вдруг расчувствовался и поведал о том, как он завидует им, получившим настоящее систематическое образование. Одновременно потрясенный и польщенный таким доверием со стороны человека, обладавшего безусловным авторитетом среди всех химических «партий», Менделеев передает в своем дневнике его монолог: «Я получил мелкое образование – не то, что вы. Я тринадцати лет поступил учеником в аптеку. До тех пор учился я только у одного учителя, учившего нас всему, что проходилось в нашей школе. Это пребывание в аптеке научило меня приемам. Случай был мне помощником, что я попал ассистентом к Мичерлиху. Тогда я стал работать из побуждения, записался студентом. Узнавал, что мог. Что же вы хотите от меня? Я не в силах угнаться за вами… Я работал, сколько было сил, и собирал факты. Собирать вас в общество я боюсь, чтобы себя не компрометировать на последнее время…» Волнение, в которое был ввергнут Дмитрий Иванович, объяснялось не только тем, что эти слова исходили от человека, оказавшего ему важную жизненную поддержку. Менделеев вдруг увидел себя как бы со стороны, другими, заинтересованными глазами: Фрицше считал его по меньшей мере ровней себе! Это сильно встряхнуло молодого ученого, заставило поверить в искренность отношения к нему не только Фрицше, но и Зимина, представлявшего в академии его работы, Вюрца, восторженно пропагандировавшего в Европе его теорию пределов, других состоявшихся и даже прославленных ученых: «Давно не проносились над усталой головой моей такие радостные, отрадные дни, как сегодня, давно не поднимался дух высоко так и не определялись силы… Сегодня я вышел силен духом… Таков уж я – помесь свежести и гнилости. Вот мой сегодняшний день. Надо его не забыть…»
Подобное воодушевление посещало Менделеева в ту пору довольно редко. Постоянное, мучительное смятение было связано не только с сомнениями на свой счет, но и с тревогой по поводу массовых беспорядков, сотрясавших в это время университет и другие учебные заведения Петербурга. Он становится жертвой очередного обиднейшего «несовпадения» с внеш-


Мемориальная плита на месте церкви в Удомельском районе Тверской области, где служил священником дед Д. И. Менделеева П. М. Соколов

Мария Дмитриевна Менделеева, урожденная Корнильева, мать Д. И, Менделеева
Иван Павлович Менделеев (Соколов), отец Д. И. Менделеева.
Копии А. И. Менделеевой с портретов неизвестного художника первой половины XIX в.

Сестры Д. И. Менделеева.
Слева – Екатерина Ивановна, в замужестве Капустина. А. И. Лещов.
Справа – Мария Ивановна, в замужестве Попова

Вид Тобольска. Конец XIX в.

Тобольская гимназия, в которой учился Д. И. Менделеев

Дмитрий Иванович Менделеев – выпускник Главного педагогического института. 1855 г.
Николай Васильевич Басаргин

Гимназия при Ришельевском лицее в Одессе, где Д. И. Менделеев преподавал в 1855–1856 годах. Середина XIX в.

Д. И. Менделеев в симферопольском госпитале на приеме у Н. И. Пирогова . И. Тихий.

Гейдельбергский университет, в котором Менделеев работал в 1859–1860 годах

С друзьями по Гейдельбергу. Слева направо: Н. Житинский, А. П. Бородин, Д. И. Менделеев, В. И. Олевинский. 1859–1860 гг.

Здание Двенадцати коллегий, где размещались Санкт-Петербургский университет и Главный педагогический институт. Вторая половина XIX в.

Александр Михайлович Бутлеров
Александр Абрамович Воскресенский

Д. И. Менделеев с женой Феозвой Никитичной, урожденной Лещевой. 1862 г.

Оля и Володя, дети Менделеевых

С Олей и Володей в имении Боблово. 1876 г.

Дом в Боблове, перестроенный по проекту Д. И. Менделеева

Комната университетской квартиры Менделеевых

Кабинет профессора Д. И. Менделеева

Д. И. Менделеев. Я. А. Ярошенко. 1886 г.

Алексей Петрович Зверев (Алеша), университетский лаборант

Д. И. Менделеев (в центре) среди профессоров и сотрудников Санкт-Петербургского университета. 1875 г.

Племянница Д. И. Менделеева Надежда Яковлевна Капустина, в замужестве Губкина
Вторая жена Д. И. Менделеева Анна Ивановна, урожденная Попова

Д. И. Менделеев. А. И. Менделеева 1886 г.

Д. И. Менделеев с дочерью Ольгой и ее женихом мичманом Л. В. Трироговым. Весна I889 г.

После развода. Слева направо: Ольга и Владимир Менделеевы с дядей П. Н. Лещовым и матерью на даче в деревне Ново-Сиверской

Подготовка к старту воздушного шара «Русский», на котором Д. И. Менделеев совершил одиночный полет из Клина в день полного солнечного затмения. 7 августа 1887 г.

Д. И. Менделеев. М. А. Врубель. Середина 1880-х гг.
ними обстоятельствами. Студенты требовали перемен, выламывали двери запертых аудиторий, ища место для многолюдных сходок, сотнями и тысячами выходили на демонстрации, дрались с жандармами, писали петиции, протестовали против режима, а Дмитрий Иванович именно в это время приближался к пику своего молодого преподавательского мастерства. На лекции Менделеева приходили люди с других факультетов и даже образованные горожане отнюдь не студенческого возраста, но университет-то уже находится на пороге закрытия. «Народу у меня много сидело… Читал я об законе кратных отношений, паев, законе гомологии… Записывали многие, даже дама одна. Не последняя ли это лекция моя? А первая-то по блеску из всех, которые я до сих пор читал, так несомненно первая. Чувствую, что не смущаюсь, что говорю свободно, только тороплюсь, спешу перейти к более интересному новому, к жераровой революции [21]21
Речь идет об унитарном учении эльзасского химика Шарля Фредерика Жерара, создателя самой совершенной на то время классификации органических веществ.
[Закрыть] …»А вокруг бушевала жажда совсем другой революции.
Менделеев, еще недавно восторгавшийся бурлящей Италией, конечно, не мог не сочувствовать одухотворенной студенческой толпе. Он тоже хотел верить, что в России наступает новая эпоха, он ее приветствовал, но одновременно точно знал, что сам витийствовать не должен и не будет. Противостояние приобретало всё более крайние, претящие ему формы. Правительство и не думало договариваться с бунтарями. Вскоре уже никто не помнил причин конфликта: студенты потребовали то ли побыстрее рассматривать жалобы, то ли снизить плату за обучение. Дело было совсем в другом, неизмеримо более значимом, но в чем же именно? Вечерами Менделеев лихорадочно, страница за страницей, исписывал свой когда-то мирный «гейдельбергский» дневник картинами тревожных событий, ища их суть и смысл, и с каждым днем всё более укреплялся в мысли о том, что необходимо успокоить горячих студентов, уберечь их от жертв и крови. Чего, в самом деле, можно было ждать от военного начальства, которому правительство полностью развязало руки? «Их не спросят, чего они хотят, их не будут слушать, им только велят, ударивши 3 раза в барабан, разойтись, и потом, по воле начальника военной силы, какое хотят оружие, то и употреблять, и ответственности нет никакой. Ужасные дела. Невероятно, как это прошло через руки министров и государя в наше время. Печаль, тоска, омерзение».
Он искал умеренную «партию» и не мог ее найти. Кто-то из профессоров поддерживал студентов, кто-то – правительство, кто-то равнодушно ждал развития событий. К Менделееву приходили с петициями об освобождении арестованных студентов. Он подписывал. Студентов всё равно не отпускали. Вскоре ими была заполнена вся Петропавловская крепость, на стенах которой какой-то смельчак вывел большими буквами: «Петербургский университет». Дмитрия Ивановича приглашали вместе с другими профессорами к министру. Он не ходил. Сделал попытку уйти в отставку – ректор Срезневский, слава богу, не принял заявление. Менделеев записал в дневнике: «Обуяет внутри мерзость какая-то. Видишь себя бессильным, слабым… отчаяние берет. Режут, топчут – сила физическая велика их, наша ничтожна, мало будет за них (студентов . – М. Б.), и чем больше будем толковать, тем больше делу прогресса повредишь. Надо молчать и дело делать, надо нравственную силу увеличивать, а не выбалтываться – на то много силы тратится. Жаль – России грозит опять надолго темень…»Манифестации и столкновения продолжались до середины декабря. 20-го числа университет закрыли, и Менделеев вместе с группой других профессоров был выведен за штат.
Сразу после этого события Дмитрий Иванович оказывается в числе самых энергичных организаторов свободного лектория в Таврическом дворце и училище Святого Петра ( Petris-chule). Вместе с ним публичные лекции начали читать многие университетские профессора и ученые из других вузов. Несмотря на сугубо предметное содержание, лекции, безусловно, носили некий отпечаток фронды и воспринимались начальством без удовольствия. Министерство просвещения в это время вело двоякую политику в отношении университетских преподавателей: с одной стороны, стремилось выдавить из аудиторий и общественной жизни наиболее неприятных для себя профессоров (например, за одну лишь попытку высказаться по поводу происходивших событий был арестован один из активных участников лектория профессор П. В. Павлов), с другой – пыталось сохранить лояльность «тяглового» профессорского корпуса. Видимо, поэтому выведенным за штат преподавателям сохранили денежное содержание вплоть до пересмотра устава университета и вообще старались обращаться с ними поласковее, даже сняли препоны против длительных научных командировок в Европу. Что касается студентов, которым было предложено искать место в других университетах, то они уже валили из России толпами – только теперь не за наукой, а за политической свободой. Лекторий (иногда он именуется Вольным университетом) просуществовал всего месяц и был закрыт в знак протеста против ареста П. В. Павлова.
Всё это бурное время Менделеев продолжал упорно трудиться: читал лекции, ставил опыты, писал статьи, занимался переоснащением вверенной ему лаборатории Института Корпуса инженеров путей сообщения, горячо выступал на квартирных профессорских собраниях, где политические и научные новости обычно обсуждались с равным интересом. Его причудливо сбалансированная натура, несмотря ни на что, реализовывала себя во всём, включая личную жизнь. «Писать больше не могу и некогда, и мысли так врозь идут и тяжко, и свободно – всё так мешается – не разберешь, право. Надумал, наконец, – долго раздумье брало – 10-го поговорил с Физой, а 14-го был женихом. Страшно и за себя и за нее. Что это за человек я, право? Курьезный, да и только. Нерешительность, сомнения, любовь, страх и жажда свободы и деятельности уживаются во мне каким-то курьезным образом. Где всему этому решение, не знаю. 1862 год. 7 апреля. Суббота». Это последняя запись в его подробном, фантастически всеохватном «гейдельбергском» дневнике. Больше Менделеев в него ничего никогда не вписал, тем самым как бы давая своим будущим биографам сигнал отойти на более деликатное расстояние. И то правда: не всё же им спокойно и без сомнения заглядывать в его распахнутую душу.
Менделееву уже 28 лет, он достаточно известен как ученый, преподаватель и эксперт в области технологии. Его советы предпринимателям всегда точны и оборачиваются для них хорошими доходами, но сам он ни в коем случае не собирается становиться заводчиком – считает, что таким образом «ограбит свою душу». Менделеев предпочитает иное, интеллектуальное служение на ниве промышленности. Оно, конечно, менее прибыльно, но вкупе с доходами от публикаций и преподавательским жалованьем дает ему неплохие средства. Упорным трудом ученый значительно улучшил свое материальное положение – в 1861 и 1862 годах он заработал примерно по пять тысяч рублей. Значительная часть этих денег съедалась расходами, но оставалось достаточно для того, чтобы можно было всерьез думать о семейной жизни. В противостоянии студентов с правительством он, безусловно, ближе к студентам – до тех пор, пока они остаются студентами, то есть учащимся сословием. Что с того, что студенты всё дальше будут отходить от своей обязанности учиться, предпочитая ей желание бороться, что университетские волнения не закончатся до самой смерти Менделеева, что ситуация, при которой способные молодые люди, плюнув на прогресс, начнут мастерить бомбы, будет отныне точить и отравлять его душу? Всё равно студенчество – для него понятие родное и близкое. На них надежда. Одумаются. Услышат. Поймут. А вот чиновничество Дмитрию Ивановичу отвратительно: «Пусть их царство и цветет – не нам место там – унизительно, опошлеешь с ними – скверно, и плакать хочется, и злоба берет».К простому народу относится он с нежной любовью, но в то же время трезво и практично, как и следует стороннику учения Роберта Оуэна, считавшего, что «человеческая природа в основе своей является доброй и ее можно обучить, воспитать и, начиная с рождения, поставить в такое положение, что, в конечном счете (то есть как только наиболее значительные ошибки и искажения настоящей лживой и безнравственной системы будут преодолены и искоренены), она целиком должна стать внутренне единой, доброй, мудрой, богатой и счастливой».
Впрочем, весной 1862 года Дмитрий Иванович не думает ни о массовых беспорядках, ни об Оуэне. Нервно, взвинченно и отчаянно он ставит опыт над своим одиночеством. Это бросается в глаза всем и конечно же замечено Протопоповыми, у которых Менделеев просит руки их племянницы. Получив согласие, он немедленно приходит в ужас из-за неуверенности в своих чувствах. Что делать? Бежать из-под венца? Ситуацию спасает Ольга Дмитриевна. Ее письмо напоминает брату о мужском долге и семейной чести: «Вспомни еще, что великий Гёте говорил: «Нет больше греха, как обмануть девушку». Ты помолвлен, объявлен женихом, в каком положении будет она, если ты теперь откажешь?» Он смиряется и даже вновь ощущает нежные чувства к своей невесте. А Физа просто счастлива. Шьется приданое, Дмитрий подает прошение о новой командировке за границу. 25 апреля прошение удовлетворено, а 29-го в церкви Николаевского инженерного училища происходит венчание Дмитрия Ивановича Менделеева и Феозвы Никитичны Лещовой. Еще через неделю новобрачные отправляются в четырехмесячное путешествие по Европе.
Теперь не нужно было думать ни о ямщиках, ни о дилижансах. От Санкт-Петербурга до Берлина молодожены без всяких хлопот доехали поездом. У Феозвы, ни разу не бывавшей за границей, то и дело возникали вопросы по поводу заоконных видов. Супруг отвечал ей уверенно и обстоятельно, как и положено опытному путешественнику. Впрочем, у его жены наверняка были и другие вопросы. Скажем, зачем ты, Митя, в своих письмах из Гейдельберга так много места уделял окружающим тебя красивым дамам, зачем намекал на всякие романтические обстоятельства? Тебе, верно, нравилось дразнить меня? На что, можно не сомневаться, молодой супруг отвечал столь же спокойно, разве что на мгновение задумавшись, – а действительно, зачем? Всё было прекрасно, он вез жену по местам, где недавно был счастлив, и снова испытывал счастье – по уже другое, ранее незнакомое счастье твердо стоящего на ногах семейного человека.
Из Берлина они отправились в Геттинген, потом во Франкфурт-на-Майне и Гейдельберг, где абсолютно всё переменилось. Нет, сам город остался прежним, но русскую колонию было не узнать. В пансионате Гофманов жили совсем другие люди и слышались иные, далекие от науки речи, сама тональность которых напоминала о непрекращающихся беспорядках и Петербурге. И еще всё это напоминало об ушедших навсегда друзьях. Самой свежей потерей был безмерно душевный и талантливый Людвиг Беккерс, военный хирург, молодой сподвижник Пирогова в Крымскую кампанию, в 29 лет ставший адъюнкт-профессором и заведующим хирургической клиникой Медико-хирургической академии. Однажды рано утром он разбудил друга Сеченова и попросил поставить свидетельскую подпись на его собственноручно составленном завещании, потом объявил ему, что принял большую дозу цианида. Был бледен, но спокоен. Отчего, как произошла в нем страшная внутренняя работа, приведшая к роковому решению? Ничего не известно. Просто решил уйти.
Может быть, из-за памяти о потерях Менделеевы не задержались в Гейдельберге и вообще в Германии – через десять дней они были уже в Роттердаме, а еще спустя трое суток – в Лондоне, где уже месяц как открылась Всемирная торгово-промышленная выставка. Это была третья всемирная выставка, причем первая, состоявшаяся десять лет назад, также проходила в столице Британской империи. Для той, первой, в Гайд-парке по проекту Джорджа Пакстона, управляющего садами в имении герцога Девонширского, был выстроен чудо-павильон, который знатоки архитектуры ставили в один ряд с парижским Пантеоном и стамбульским храмом Святой Софии. Главной особенностью этого сооружения были стеклянные стены и перекрытия, что само по себе не могло не волновать Менделеева, выросшего на стекольном заводе. Не приходится сомневаться, что Хрустальный дворец, перекочевавший к тому времени из Южного Кенсингтона на Сайденхемский холм, был внимательно им осмотрен. Сооружение было восхитительно. Если бы только маменька могла это увидеть!
Новый павильон, спроектированный морским инженером Фоуком, был выполнен в компилятивном стиле – барокко и псевдоклассика – с множеством ворот, арок, пилястров и карнизов. Площадью он был значительно больше Хрустального дворца, но сама выставка оказалась несколько бледнее. Англия, на правах хозяйки представившая самую крупную экспозицию, переживала не лучшие времена. Америка, где шла гражданская война, перестала поставлять бывшей метрополии хлопок-сырец, и хлопчатобумажные производства терпели огромные убытки. На ротонде, поддерживавшей купол выставочного павильона, крупными буквами была выведена пышная фраза: «О Боже! От Тебя снисходят на землю богатства и слава. Ты царствуешь над всем, в деснице твоей заключается могущество и сила, и только Ты можешь сделать человека великим». Газеты же писали об открытии выставки без всякой помпы: «Дела очень плохи… Манчестер совсем в крайности. Ланкашир совсем изнемогает. Надо же так, чтобы праздник промышленности праздновался именно в тот самый час, когда промышленность выносит тяжкий кризис». И все-таки Дмитрий Иванович видел вокруг себя очень много любопытного. С русскими экспонатами, включая орудийный лафет новой конструкции и пушку, ствол которой выдерживал тысячу выстрелов без всякого урона для точности стрельбы, он наверняка познакомился раньше, на Петербургской торгово-промышленной выставке, и хорошо знал все – или почти все – выставленные товары. (Обозреватель «Московских ведомостей» в своем отчете о Лондонской выставке писал: «Россия… обращает на себя внимание химическими произведениями, замшею, кожами, которые выделывает в таком множестве и разнообразии, хлебом, одеялами и особенно носовыми платками. Если же в чем-то и можно упрекнуть ее, то в недостатке оригинальности… Все произведения русской мануфактуры отмечены неприятной печатью однообразия, словно они сработаны все по одному заданному образцу».) А вот западное технологическое оборудование весьма его интересовало.
Англия, в частности, представила воздухонагревательный аппарат Э. Каупера для горячего дутья в доменных печах, паровой молот конструкции Д. Несмита, двигатель на газовом топливе и универсальный фрезерный станок. Его поразила европейская техника для механизации сельскохозяйственных работ, при этом знатоки говорили, что американец по фамилии Маккормик, по понятной причине не приехавший на выставку, уже изобрел жатку и сенокосилку, на треть снижающие затраты труда… Всё это было удивительно в смысле силы изобретательского гения, а также той заинтересованности, с которой новинки выхватывались из рук создателей. Прогресс – светоч и кумир Менделеева – демонстрировал безотказные рычаги своего успеха, заставляя русских экскурсантов чуть ли не в голос рыдать о роковой развернутости русской цивилизации назад, внутрь себя самой. Всё, что они видели, было так разумно, понятно и необходимо, но всё это было не для них. Чем же провинилась их родина? За что, для чего и от чего хранит ее Господь?
Менделеевы пробыли на выставке десять дней и уехали за день до награждения победителей. 12 мая состоялась «великая публичная церемония», в которой приняли участие тогдашний премьер-министр Великобритании лорд Г. Пальмерстон, бывший и будущий премьер-министр граф Д. Рассел, будущие премьер-министры У. Гладстон и Б. Дизраэли и даже египетский паша. Было вручено семь тысяч медалей и 5300 почетных отзывов. Россию не обидели – ей достались 177 медалей и 128 почетных отзывов жюри и уважительные аплодисменты в адрес нескольких действительно классных образцов вооружения и моделей новых судов, особенно 111 – пушечного корабля «Николай I». Но из общего количества наград около ста было присуждено традиционным сырьевым продуктам, тканям, щетине, воску, стеарину, льну, пеньке и шерсти. Были отмечены также колоссальные куски графита весом до восьми пудов каждый, ваза шириной около метра, колонна коринфского ордера высотой более трех метров и огромный кусок нефрита из Иркутска… Надо сказать, что местные журналисты были значительно более благосклонны к русскому разделу, нежели корреспонденты российских газет. «Мы не видели ни одного предмета, – писал британский обозреватель о русском разделе, – каким бы маловажным он ни был, который не носил бы па себе печать высшей европейской цивилизации и высокого художественного вкуса, что много обещает в будущем российской промышленности при необъятных богатствах страны».
Менделеевы весь этот праздник пропустили – они в это время уже смотрели в небо, лежа на нежной брюссельской граве. Впрочем, долго задерживаться на одном, даже самом расчудесном, месте Менделеев не мог. Крохотная Бельгия, всего несколько десятков лет назад ставшая государством, тем не менее обладала самыми передовыми в Европе предприятиями мерной и цветной металлургии, о которых редактору русской версии «Энциклопедии по Вагнеру» нужно было знать всё. Металлургические комбинаты были расположены вокруг Льежа, Шарлеруа, а также в Брабанте, Зальзате и в окрестностях Антверпена. Неизвестно, какие именно заводы посетил Дмитрий Иванович, но ему на это хватило нескольких дней.
Через неделю они уже оказались в Париже. Феозва, до тех пор не покидавшая Петербурга, была в восторге от публики и модных лавок, а ее супруг, на сей раз рассматривая столицу мира спокойно и не спеша, уже не мог не заметить, что большинство зданий этого яркого города построены из сероватого местного камня. Лишь благодаря солнечному освещению городские стены окрашивались то в желтоватые, то в розовые, то в голубые тона. А устроен Париж был еще запутаннее Москвы – его округа-аррондисманы следовали друг за другом по часовой стрелке, разворачиваясь по спирали вокруг острова Сите. И поскольку каждый округ был местом жительства определенного сословия, приезжему любопытно было угадывать, где обитают встреченные на улице парижане: этот похож на состоятельного буржуа – значит, живет в шестнадцатом округе; а тот, скорее всего, художник и ночует где-то в мансарде в одиннадцатом округе; вот идет господин, смахивающий на университетского преподавателя, – такие селятся в шестом округе; а важный чиновник с ленточкой Почетного легиона в петлице может чувствовать себя уютно только в пятом округе. Что же касается его любимых «блузников» (мастеровых), то теперь, после петербургских бунтов, его восторг по поводу рабочей толпы поумерился. А вот мудрость городского префекта, барона Жоржа Османна, который в царствование Наполеона III покончил с кривыми, узкими улочками и ограничил городской бунт широкими, открытыми для необходимых (и отнюдь не крайних) мер бульварами, не могла не вызвать одобрения Менделеева. Действительно, зачем топтать людей лошадьми и сечь нагайками, если можно в случае угрозы беспорядков просто перекрыть движение любой толпы? Постоят и разойдутся по домам есть свою луковую похлебку. И на здоровье, господа, на здоровье! Скажите спасибо, что вы не в Питере, там улицы хоть и прямые, зато нагайки плетеные…








