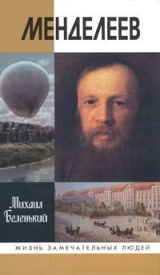
Текст книги "Менделеев"
Автор книги: Михаил Беленький
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц)
«В это время, – писал Менделеев, – я сошелся с Бекетовым. Это такой милый человек, такая славная голова, что, право, я мало знаю таких. Он познакомил меня со многими…»Ученик Зинина Николай Николаевич Бекетов, в ту пору профессор Харьковского университета, был увлечен физикохимией и путешествовал по Европе, слушая лекции Ф. Вёлера, Р. Бунзена, А. Сент-Клер-Девилля и других знаменитостей. Николай принадлежал к семейству, которому было суждено в недалеком будущем дать России Александра Блока. Личная и творческая судьба этого поэта будет, как известно, неразрывно связана с дочерью нашего, пока еще холостого и бездетного, стипендиата. А вот самому Николаю Николаевичу в дальнейшем предстояло сыграть в судьбе Менделеева скорее отрицательную роль. Во всяком случае, в более поздние годы Дмитрий Иванович таких восторженных оценок Николаю Бекетову уже не давал. Но тогда, в Париже, они легко подружились. Бекетов познакомил Менделеева с только что занявшим кафедру органической химии в Ecole sup é rieure de pharmacieПьером Эженом Марселеном Бертло, который тоже очень понравился Менделееву «простотой своей, своими оригинальными взглядами на вещи, своей начитанностью».Бертло станет автором открытия, что большинство органических соединений может быть получено синтетически, при помощи света, тепла, электричества и других известных агентов, а не при содействии таинственной «жизненной силы», как думали прежде. Он прославится также своей государственной деятельностью (будет министром просвещения Франции) и исследованием старинных древнегреческих манускриптов, посвященных алхимии.
У Менделеева в Париже состоялось и несколько других интересных знакомств. Но самым ярким оказалось впечатление из людей из парижской толпы. Каким бы он ни был умеренным в своих политических взглядах, как ни был далек от революционной патетики, но тогда, жарким летом 1859 года, написал в письме: «…блузники, рабочие Парижа – это для меня было новое племя, интересное во всех отношениях. Эти люди, заставившие дрожать королей и выгонявшие власть за властью, – поразительны: честны, читают много, изящны даже, поговорят о всем, живут настоящим днем – это истинные люди жизни, понимаешь, что встрепенутся толпы таких людей, так хоть кому будет жутко…»Попадись эти строки на глаза его бывшему директору и «отцу родному» Ивану Ивановичу Давыдову – мигом отозвали бы непутевого магистра обратно в Россию.
Российские власти совсем не зря демонизировали парижский воздух. Слишком много православного народа, начитавшись Вольтера («Отечество возможно только под добрым королем, под дурным же оно невозможно») и повинуясь внутреннему компасу, нашло здесь свою новую родину. Впрочем, одним из первых в XIX веке сделал попытку эмигрировать человек, уж точно Вольтера не читавший. Участник войны против Наполеона А. М. Баранович в своих записках «Русские солдаты во Франции в 1813–1814 гг.» рассказывает историю о русском солдате, надумавшем переменить подданство: «Полковника Засядко денщик, довольно смышленый, вздумал из-под ведомства военного освободиться и жить no-французски, пользоваться свободою, убеждая себя, что в настоящее время он не находится в России, под грозою, а в свободной земле, Франции; и в этом намерении совещевался с товарищами, как поступить в этом деле. И не ожидая их ответа, сам начал действовать, и, пришед к полковнику, сказал: «Отпустите меня! Я вам долее не слуга!» – «Как? Ты денщик: должен служить, как тебя воинский устав обязует!» – «Нет, г. полковник, теперь мы не в России, а в вольной земле, Франции, следовательно, должны ею (свободой) пользоваться, а не принужденностью!» …Об этой случайности полковник Засядко донес генералу Полторацкому, а тот, выслушав, просил объяснить эту случайность рапортом. Получив оный, генерал Полторацкий тотчас нарядил судную комиссию и денщика отдал под военный суд. Комиссия не замедлила решением его судьбы – обвинила его в дерзком посягательстве сделаться свободным французом и в подговоре своих товарищей к сему в противность воинских законов, и потому мнением своим положила: его, денщика, прогнать через 500 человек один раз шпицрутенами, что было исполнено в виду французов, дивившихся нашей дисциплинарии. И этим улучшилась субординация».
Бунзен не имел ничего против того, чтобы вновь прибывший русский работал в собственной лаборатории. Почему нет? Этот ершистый и самолюбивый магистр волен делать что хочет. Если Менделеев желает, то он готов свести научное руководство его работой к необременительным контактам по желанию стажера. Тот всё же был готовым химиком, в отличие от большинства съехавшихся к нему в лабораторию молодых людей. Конечно, поверхностное натяжение – это не совсем химия, точнее – совсем не химия, но наука границ не знает. И потом, Менделеев – ученик Воскресенского; возможно, они, учитель и ученик, спланировали эту работу в качестве фрагмента большого исследования. Ну и помоги им Бог; ему же, Бунзену, будет во всяком случае небезынтересно узнать, чтó этот магистр нащупает в уму непостижимом межмолекулярном пространстве. На самом деле Воскресенский никакого участия в выборе темы не принимал, мало того, он всё время призывал ученика отказаться от бесплодной, по его мнению, затеи. Тогдашних химиков больше всего интересовала способность элементов к соединению и образованию новых веществ. Что же касается процессов среди неделимых атомов, какое может быть до них дело настоящему химику?
Тревогу Воскресенского разделяли не только многие друзья Менделеева, но и высокое начальство. На запрос попечителя Петербургского учебного округа упрямый стипендиат (согласно сохранившемуся черновику) ответил: «Главный предмет моих занятий есть физическая химия. Первым предметом для занятий должно было по многим причинам выбрать определение сцеплений химических соединений, т. е. заняться капиллярностью, плотностью и расширением тел».Должно было, и всё тут. Менделеева невозможно было уговорить, он считал, что ученый должен руководствоваться единственно собственным выбором. Недаром через много лет, с треском выставив за дверь какого-то доцента, пришедшего просить тему научной работы, он в ярости от подобного подхода к научному творчеству кричал: «Дмитрием Ивановичем никто никогда не руководил!»
На 15 тысяч жителей Гейдельберга приходилось три тысячи студентов, 500 из которых были иностранцами. Русских стипендиатов было человек семьдесят (настоящий наплыв начнется через пару лет, когда десять процентов всех гейдельбергских студентов будут говорить по-русски), и селились они обычно в недорогом «Баденском дворе» или, еще чаще, в пансионе, который содержали бывший преподаватель древнегреческого языка Московского университета Карл Гофман и его радушная, разбитная супруга. Карл Иваныч был человеком непростым, и биография у него была непростая – в свое время он был выслан из России самим императором Николаем I за сбор средств… на нужды германского флота, – но к России и русским тянулся вполне искренне. Гофман числился приват-доцентом Гейдельбергского университета, но все силы отдавал исключительно созданию русской атмосферы в своем пансионе. Здесь старались до мелочей потрафить постояльцам – даже чай подавали не в чашках по-европейски, а в «русских» стаканах с подстаканниками. Члены русского землячества предпочитали держаться своим тесным кругом и, хотя местные жители относились к ним с симпатией, а профессора выделяли за жажду знаний, внешне демонстрировали отстраненность и даже надменность по отношению к окружающей жизни. Не вдаваясь в изучение корней этого явления, практичные владельцы уличных заведений охотно шли в этом смысле навстречу странным гостям. Русские встречались в «своих» кофейнях и ресторанчиках, таких как «Zum Tűrkischen Kaiser» или «Frau Helwerth», где две комнаты были специально отведены для них, а позднее даже открыта русская библиотека с читальней. Целую улицу, ныне именуемую Friedrich-Ebert-Anlage, в середине XIX столетия горожане называли не иначе как русской.
Если не считать нескольких скучающих аристократов, русская колония состояла из весьма незаурядных, а зачастую просто выдающихся людей, искренне преданных науке. Но, даже учитывая «звездный» состав стипендиатов из России, можно сказать, что к Менделееву здесь «примагнитились» лучшие из лучших. Вскоре после возвращения из Парижа он сошелся с Иваном Михайловичем Сеченовым: «Он, во-первых, бывал на своем веку во многих местах, потому есть ему что рассказать; во-вторых, он был сперва офицером, потом пошел в университет – следовательно, человек с характером. А главное, он человек виду нисколько не обещающего, но в самом деле человек оригинальный, теплый, хоть и покажется подчас вовсе не таким… На этом человеке можно отчасти узнавать вкусы людей – к внешности они привязаны, она ли их руководит, или же они любят простоту, прямоту, теплоту души, а не мягкость, увы, столь часто вредную…»Сеченов очень успешно занимался у Эрленмейера – изучал физиологическую химию и исследовал газы в крови животных. Зимой в Гейдельберг приехал хорошо знакомый по Петербургу Александр Порфирьевич Бородин, талантливый химик, тщательно скрывавший свои уже профессиональные занятия музыкой, выдавая их за любительские забавы. Валериан Савич, прибывший значительно раньше, уже успел поработать у Кекуле и Эрленмейера, а теперь занимался исследованиями под руководством Шарля Адольфа Вюрца в Париже, но оставался членом гейдельбергского кружка химиков. «Этот милый человек с страшными неудачами в работах, то у него разорвет трубку с дорогим препаратом… то у него сожгут, то получит отрицательный результат. Теперь дело идет у него, кажется, лучше. Он получает теперь сочетания одно-и двуосновных кислот, реагируя хлор-соединения первых на соли вторых…»В число постоянных членов кружка входил также молодой естественник В. И. Олевинский. Кроме того, в Гейдельберг часто наезжали питерские друзья Менделеева И. А. Вышнеградский и Н. П. Ильин и многие из тех, кто учился и стажировался в это время в Европе: врачи С. П. Боткин, Э. А. Юнге, Л. А. Беккерс, химики П. П. Алексеев, А. М. Бутлеров, К. И. Лисенко, биологи А. О. Ковалевский, Л. С. Ценковский, А. С. Фаминцын и другие, в будущем очень известные ученые.
Бородин писал матери: «Менделеев сделался, конечно, главою кружка, тем более что, несмотря на молодые годы (он моложе меня летами), был готовым химиком, а мы – учениками…» Можно добавить, что Александр Порфирьевич был старше не только «летами», но и «степенями», поскольку уже являлся доктором медицины. Еще недавно не очень общительный и довольно зажатый человек, Менделеев становится бесспорным лидером стихийно сложившегося, но от этого не ставшего менее блестящим, научного сообщества. И этот «мгновенный» переход в иное качество будет в скором времени почти зеркально отпечатан в характере его первого научного открытия.
Авторы некоторых публикаций к тем, кто составлял основу менделеевского кружка, добавляют также Мечникова, который якобы примкнул «позже». Илья Ильич Мечников, с которым Менделеев, Сеченов и Бородин в дальнейшем были связаны тесной дружбой, был гейдельбержцем скорее по духу. В Гейдельберге он мог появиться (да и то проездом) не раньше 1864 года, когда, будучи восемнадцатилетним исследователем (он поступил в университет в 16 лет и окончил курс за два года), бросил резать круглых червей-нематод на острове Гельголанд, свернул свою самостийную экспедицию и, собрав результаты, отправился в Гисен к профессору Лейкарту. Впрочем, надежды на то, что Лейкарт допустит в свою лабораторию никому не известного нищего юношу, было мало. Деньги у него давно закончились, очень хотелось есть – просто качало от голода, но еще больше хотелось поработать с настоящими приборами, чтобы удостовериться в своем открытии – эта североморская нематода чередовала формы размножения! Более того, размножение круглых червей зависело от образа жизни: поколения-паразиты были гермафродитами, а особи, свободно живущие вне организма хозяина, оказались разнополыми. Тогда именно он и встретился с Пироговым, который из Гейдельберга опекал осевших в Европе русских стипендиатов (или не встретился, а через кого-то попросил), и Николай Иванович всё устроил. Петербургские столоначальники, наверное, даже не поняли, что никто этого мальчишку в Европу не отправлял, не добавлял к официальной группе, посланной под руководством Пирогова для «приуготовления»; решили, что сами обсчитались, и дали стипендию. А знакомство Мечникова с менделеевским кружком, видимо, состоялось уже заочно, через оставшихся в Германии русских студентов. Как бы там ни было – спустя несколько лет он был признан старшими товарищами истинным гейдельбержцем.
Если быть совершенно точным, то науку, которой Менделеев занимался в Гейдельберге, следует именовать не физической химией, а химической физикой. Теперь она так и называется и занимается исследованием всех ступеней химического превращения, имея на вооружении оборудование, дающее возможность соревноваться со скоростью этих превращений. У Менделеева же был очень простой, хотя и тщательно подготовленный инструментарий. В опытах, подобных тем, которыми он удивил Саллерона, ученый испытывал жидкость в ее естественном и самом сильном с точки зрения сцепления молекул состоянии. Результат был нулевой – момент отрыва пластинки не поддавался анализу. Тогда, в надежде все-таки уловить какие-то неожиданные и тайные межмолекулярные механизмы, он начал искать способ ослабить силу сцепления молекул и нашел его в ускорении хаотического теплового движения внутри капилляра с жидкостью. Теперь главным прибором стала тонкая стеклянная трубка с волосным отверстием внутри. Сама по себе трубка являет собой простейший измеритель плотности жидкости: если опустить ее конец в воду, то по смоченному каналу жидкость сама собой (молекула за молекулой, подтягиваясь друг за дружку и за молекулы на стенках канала) поднимется на определенную высоту – та жидкость, в которой сила сцепления сильнее, естественно, поднимется выше, чем жидкость «слабая». Но если жидкость в капилляре нагревать, то движение в ней ускорится, несмотря на разреженное состояние… Молодой ученый искал связь между температурой нагревания, скоростью подъема и уровнем жидкости, как завороженный всматривался в капилляр, терпеливо перенося «безответность» испытываемого препарата.
В лаборатории, где он был и исследователем, и лаборантом, и уборщиком, Менделеев упорно, день за днем пытался проникнуть за видимую грань материи и уже, казалось, чувствовал ее без всяких приборов – почти на ощупь… Тетради, в которые он аккуратнейшим образом вносил результаты опытов, исписывались одна за одной, однако долгое время дело обстояло так, будто он хотел добиться не открытия секрета поверхностного натяжения, а закрытия избранной области исследования. Но Менделеев и не думал унывать. У него был характер человека, идущего к пониманию сути вещей, и гейдельбергская удача просто ждала своего часа. А пока, всего через месяц после возвращения из Парижа, он снова собрался в путешествие, о чем сообщил своей постоянной корреспондентке: «Вы поймете, Феозва Никитична, что письмо ваше… заставило меня, прежде всего, вспомнить о своей великой забывчивости. Если бы таким образом поступил кто-нибудь другой, а не Вы, я принял бы это письмо за упрек, но Вам известна моя забывчивость, и Вы тоже знаете, что я не сомневаюсь в Вашей милой снисходительности. Беда одна – хотелось бы написать Вам побольше, да сегодня еду в Швейцарию, и знаете зачем – отдыхать. До сих пор поработал довольно, время же жаркое, а отсюда так это близко – часов 5 езды…»
В новое путешествие Менделеев отправился вместе с Бородиным, который в одном из своих писем рассказал: «В осенние каникулы 1859 года мы с Дм. Ив. вдвоем отправились гулять в Швейцарию, имея в виду проделать всё, что предписывалось тогда настоящим любителям Швейцарии, т. е. взобраться на Риги, ночевать в гостинице, полюбоваться Alpengrűhen'ом, прокатиться по Фирвальштетскому озеру до Флюэльна и пройти пешком весь Oberland. Программа была нами в точности исполнена…» Ровно о том же самом, но в совершенно другой тональности, в каждой строке восторгаясь и отчаиваясь от несказанности увиденного, красочно и многословно напишет своему милому другу Менделеев:
«Вы не поверите, Феозва Никитична, что я с великим страхом берусь за почтовую бумагу. Видел так много, наслаждение так полно и невыразимо, нахожусь теперь в таком настроении, что, право, боюсь – или ничего не скажу, или скажу уже так, как того нет на самом деле, притом только что написал письмо своим в Сибирь, картины только что промелькнули перед моими глазами. Только не ждите, пожалуйста, чтобы я вам объяснил, почему и для чего бродят по горам пешком, по камням, снегу и в грязи, куча путешественников, изнеженные англичанки, такие барыни, которые так и хотят сказать республиканской прислуге русскую нотацию. Чего они, все мы ищем там, отчего бросают последние деньги немецкие студенты, чтобы побродить здесь, отчего два дня в горах заменят годы, пополнят годы воспоминаниями, знает, вероятно, много узнавший Гончаров, а мне, право, непонятно, что за причина какого-то полного чувства от одного момента. Да, именно, достаточно одного момента, как первый взгляд на пирамиду Веттергорна, представившуюся, когда мы поднимались из Мейрингена на Шейдек. Эта снеговая вершина просто-напросто точно острая крыша, покрытая снегом. Мы лезем на гору вышиной с версту, справа скачет Beichenbach [12]12
Рейхенбахский водопад. (Прим. ред.)
[Закрыть] , скалистая гора поросла елями, усталый отираешь пот и вдруг между деревьями видишь эту пирамиду, блестящую, отражающую свет. Кажется, простая штука, а нет, отчего-то так и охватит всего чем-то здоровым, пропадает усталость, не забудешь этой минуты, рад будешь десять верст лезть, чтобы один раз испытать то же. А отчего – я вам не скажу. Не скажу не потому, что не хочу, нет, оттого, что сам не знаю, и выдумать не могу.
Хорошо писать о том, что выдумал, что сознаешь, а о таких моментах куда как неловко писать, так и коробит всего и чувствуешь всё, что неладно пишет перо. Хотите разве знать маршрут – ну да Бог с ним, был в Швейцарии в таких-то и таких-то кантонах, на Чертовом мосту дождь застал, на Фурке снег, на Vierwaldstättersee [13]13
Озеро Четырех Кантонов. (Прим. ред.)
[Закрыть] солнце спекло, на Vengrenalp дождь до костей промочил, в долине Lűtschine ехал в повозке после 7 дней в горах. Где нельзя было ехать, надо было идти пешком или, что гораздо хуже, верхом и т. п. Едва ли так можно писать, если есть что-нибудь более высокое. Напишешь, так чувствуешь, словно провалилось что-то, точно оскорбил кого-то. Право, это всё так неясно, как очерки гор, когда вы окружены облаками или они текут под вами. Эти переходы от романтических, до смешного сладких, зелено-синих озер к черным, фисташково-зеленым и серым скалам, к мрачным верхушкам гор (Hörne, как их зовут здесь, – к рогам), к чистым снеговым вершинам, подобным… той, которая красуется из-за 25 верст в моем окне (это здешняя красавица, Молодая жена – Jungfrau, версты 4 вышиной), эти скачущие – смейтесь, пожалуй, что я выражаюсь так книжно, – реки, эти радужные массы падающих вод, быстрые переходы от снеговых мест к долинам, где виноград продают по 3 коп. за фунт… Просишь только одного – пускай не улетит воспоминание об них, оно может многое сделать, много скрасить нехороших картин…
Вероятно, Вы еще в институте читали Карамзина путешествие, смешно, вероятно, было, как писал о пастушках, – ну, здесь поверил, что можно еще написать сладчайшую идиллию. Сюда бы поселил я Штольца с женой – ну, дней пять, я думаю, и она довольна бы осталась, – ну, а потом, конечно, подавай ей еще что-нибудь. Я, впрочем, за нее в этом случае. Не раз мне приходили, помните Вы, вероятно, стихи:
Когда б не смутное томленье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б – наслажденье
Вкушать в неведомой глуши,
Забыв и т. д.
Да именно когда б, а теперь так вот бросаю Интерлакен и вид на Молодую жену и еду в Гейдельберг, надо работать. Без работы – право, иногда такая чепуха в голову лезет – не дай бог – обломовщина просто…»
В сентябре интенсивность опытов, которые ставил Менделеев, достигает предела. Закончив исследование плотности ртути, он начинает определять высоту подъема разных жидкостей, включая чистую воду, в капиллярных трубках и делает расчет высоты их мениска. [14]14
Здесь: вогнутая или выпуклая кривизна поверхности жидкости в узкой трубке. (Прим. ред.)
[Закрыть]Он наблюдает за расширением воды при разных температурах, измеряет ее плотность. По результатам изучения плотности разных видов спиртов он составляет таблицу и тут же переходит к исследованию поверхностного натяжения органических кислот – масляной, уксусной и валериановой… Менделеев делает расчеты, чертит таблицы, пишет статьи, которые сразу же идут в печать в Петербурге в «Химическом журнале» Н. Соколова и А. Энгельгардта. Но материала для понимания феномена силы взаимодействия частиц у него всё еще недостаточно. А без этого магистр Менделеев не может найти полного объяснения того, что есть химические свойства вещества. Одних только размеров атома и расположения частиц ему для этого недостаточно. В комментарии к этому периоду жизни ученого авторы «Летописи жизни и деятельности Д. И. Менделеева» пишут: «Идея Менделеева о существовании некоторой функции поверхностного натяжения, тесно связанной с составом и структурой веществ, представляется очень важной… Однако в середине XIX века данных для установления этого параметра было еще недостаточно…»
Другие специалисты высказывают мнение, что, несмотря на явную преждевременность этого открытия, Менделеев, будь у него больше времени, все-таки мог бы добраться до него, а, может быть, и до чего-то еще более важного. Всю осень и зиму он неустанно, серия за серией, продолжает ставить опыты, не видя в ситуации ни малейшего повода к пессимизму: «Вопросы, конечно, такие, что, может, не по моим силам, но если не решить их хочу я, по крайней мере, вывести на свет и собрать данные, для решения их необходимые. Цель моя теперь определилась ясно, беда в средствах… Стану делать, что смогу…»
Ранней весной 1860 года его заинтересовал факт полного и мгновенного исчезновения жидкости в вертикально поставленной запаянной стеклянной трубке. Сначала он отметил обычное наползание краев мениска на стенки трубки, отчего он приобретал вогнутую форму. Если подвести к трубке источник тепла, то, поскольку силы сцепления ослабевают, мениск начинает выравниваться, становится всё более плоским и вдруг… исчезает вместе с жидкостью. Сцепление доходит до нуля, и жидкость превращается в газ. Это явление уже наблюдалось химиками, которые не придавали ему особого значения. Менделеев проделывает этот опыт с водой, эфиром и хлористым кремнием. Он отмечает свою для каждого вещества точку перехода из жидкого состояния в газообразное и подтверждает ее при обратном переходе – от газа к жидкости. Таким образом, был открыт факт существования для каждой жидкости особой «абсолютной температуры кипения». «В настоящее время кончил работу о расширении Жидкостей выше их кипения, при высоких давлениях, —сообщает Менделеев. – Мне совершенно неожиданно удалось в ней достичь общего результата, посредством которого этот совершенно до сих пор неизвестный вопрос можно считать решенным».Сообщения об открытии «критической температуры» (так исследователь назвал эту неизменную температурную точку) были разосланы и сразу же опубликованы не только в петербургских «Химическом журнале», «Горном журнале» и «Бюллетенях Академии наук», но и в издании Парижской академии наук, а также в «Анналах», издаваемых Либихом в Гисене. Извлечения из его статей напечатали также химические журналы Вюрца и Эрленмейера. Следует сказать, что Менделеев, гордившийся произведенным открытием, не дал себе в ту пору труда до конца его осмыслить, понять, что оно охватывает абсолютно все жидкости и газы, включая азот, кислород и углекислый газ. Эти так называемые постоянные газы никакими усилиями экспериментаторов не получалось превратить в жидкости. В лучшем случае удавалось получить лишь сжатый газ – и не более. Открытие Менделеева отчетливо подсказывало, что это неудача может быть устранена доведением газов-упрямцев до температуры абсолютного кипения. Но Менделеев тогда больше думал о зависимости между сцеплением и коэффициентом расширения тел. Суть его экспериментов оставалась прежней – день за днем, серия за серией… Что же касается остальных химиков, то они услышали эту подсказку лет через десять.
Итак, открытие было воспринято автором без ажиотажа, работа продолжалась в прежнем ритме и направлении. Не было никакого изменения и в гейдельбергской жизни нашего героя. Еще в октябре 1869 года друг Менделеева Валериан Савич решил сбежать от преследовавших его научных неудач в Париж, в лабораторию Шарля Адольфа Вюрца. Дмитрий Иванович засобирался было за ним, но оказалось, что у него накоплен такой запас оборудования и химикатов, что через таможню без огромной пошлины ему было не перебраться. От переезда пришлось отказаться, но желание снова увидеть Париж не прошло.
В сочельник под 1860 год компания в составе Менделеева, Сеченова и Бородина отправилась кутить в столицу мира. У Менделеева было, конечно, и дело в Париже – нужно было познакомиться с Вюрцем и главным авторитетом среди органиков Жаном Батистом Дюма; но главным образом друзья, конечно, хотели встряхнуться, гульнуть по-русски. В путь они выступили довольно живописной группой, главной достопримечательностью которой был облаченный в большую черную шубу и измученный сильной ногтоедой Сеченов. Боль и бессонница, одолевшие бедного стипендиата, сделали его предметом жалости всей русской колонии. Рецепты облегчения страданий, причиняемых нагноением, давались самые разные, включая совет прикладывать к пальцу сметану с пухом, однако болящий предпочел пьянку в Париже. За рейнским мостом, на французской заставе у пассажиров дилижанса собрали паспорта и унесли на визирование. А когда чиновник принес их обратно и стал выкликать пассажиров по фамилиям, случился казус: французский таможенник никак не мог понять, почему этот больной турок в шубе откликается на русскую фамилию и тянет руку за чужим паспортом.
Кое-как доехав до Парижа, страдалец начал отводить душу. В «Автобиографических заметках» Сеченов пишет: «Никогда за всю мою жизнь я не кутил так, как в тот раз в Париже. Первую неделю, а то и более, нигде не был, кроме как в заведениях вроде тогдашней Closerie de Lilas, где шел дым коромыслом, в театрах с ужинами после представлений, и, конечно, побывал на маскарадном балу большой оперы да еще с конфетами и кармане для угощения танцующих бебе, испанок, баядерок и т. п. Дошло до того, что самому стало тошно, и я угомонился, когда в кармане не осталось и половины привезенного богатства». Под «богатством» следует понимать наследство, полученное Сеченовым после смерти матери, – шесть тысяч рублей, деньги огромные (ровно эту сумму, потраченную на учебу и путешествие по Европе, он вернет в 1905 году, незадолго до своей кончины, крестьянам матушкиной деревни Теплый Стан). Естественно, Сеченову сопутствовали его товарищи, включая присоединившегося уже на месте Валериана Савича. Сделали попытку привлечь к общему веселью и находившегося в Париже С. П. Боткина, но тот отказался – у него только что родилась двойня и он не хотел огорчать жену. (Среди елочных огней Парижа счастливый отец, слава богу, не мог знать о судьбе одного из своих новорожденных сыновей, нареченного Евгением, – будущего лейб-медика, добровольно разделившего участь последнего в России царского семейства.)
Дмитрий Иванович до самой старости хранил память об этом Рождестве. Даже в следующем веке он будет рассказывать молодым коллегам по Палате мер и весов эпизод этого веселья: «Приехавши в Париж, мы захотели хорошенько встряхнуться. Наняли в одном ресторане зал в два света и учинили попойку. Веселье у нас шло – прямо дым коромыслом».Но удивительно, что, несмотря на столь «активный» отдых, Менделеев не только свел знакомство и с Вюрцем, и с самим Дюма, но и произвел на них наилучшее впечатление. 2 января Менделеев и Сеченов бодро присутствовали на заседании Парижской академии наук, где Ж. Б. Дюма лично представлял работу Дмитрия Ивановича «О молекулярном сцеплении некоторых органических жидкостей». Из Парижа Менделеев вернулся в превосходном настроении, нагруженный новыми приборами и репродукциями картин из Лувра.
Приключения, связанные с тем, что кого-то из веселых друзей принимали за совсем другого человека или превратно понимали, случались довольно часто. Однажды поезд, в котором они ехали по Италии, был остановлен австрийцами, которые искали кого-то из руководителей местного освободительного движения. Началась строгая проверка. Когда очередь дошла до Менделеева с Бородиным, их немедленно задержали и отвели в особое помещение на станции. «Почему, зачем, —вспоминал потом Менделеев, – мы ничего не понимали. Меня оставили в покое, а Бородину велели раздеться донага. Не предвидя ничего серьезного, Александр Порфирьевич быстро разделся да еще ногами этакое антраша выкинул. Его подробно осмотрели, и потом нас отпустили. Сели мы в вагон. Только что переехали границу, как ехавшие с нами итальянцы бросились к нам, жали руки, за что-то благодарили, стали угощать вином. Мы сперва не понимали, в чем дело. Оказалось, что Бородин был похож на одного политического деятеля итальянца, за которым усиленно гонялись австрияки. А. П. отвлек их внимание, и этот итальянец, ехавший в том же вагоне, благополучно избег ареста».
А вот забавные происшествия, в центре которых оказывался Менделеев, были обычно связаны с дамами. Одно случилось в вагоне, который вез гейдельбергскую публику в Мангейм для посещения тамошнего театра. Менделеев и пятеро его русских друзей вошли первыми и заняли места в самом дальнем углу, где сразу собрались играть в карты. Вагон почти заполнился, когда в него вошел почтенный профессор медицины Фридрейх с супругой. Он огляделся и, не найдя места лучше, чем возле русской компании, усадил на него свою спутницу, а сам пошел искать свободное место для себя. Как раз в это время Менделеев крутил себе папироску. Увидев севшую рядом даму, он приостановил свое занятие и обратился к ней за разрешением закурить. После первых же его слов профессорша покраснела, испуганно вскочила с места и убежала. Всю дорогу ни она, ни сам Фридрейх не смотрели в сторону русских – было очевидно, что пара смертельно оскорблена. Русская компания, заранее предвидя упреки в грубости и невежестве, приуныла, хотя никто ничего не понимал. Особенно переживал Савич, лично знавший профессора и даже лечившийся у него. Ему и поручили явиться к Фридрейху с извинениями. Когда Савич пришел к профессору домой, тот демонстративно повернулся к визитеру спиной. Пришлось Савичу рассказывать, как всё было, доктору в затылок. Вскоре Фридрейх зашелся в таком хохоте, что у бедного Савича сразу отлегло от сердца. Оказывается, даме послышалось, что Менделеев пригласил ее в мужскую компанию играть в карты – такое предложение расценивалось в те времена как абсолютно непристойное. Все-таки плохо учился Дмитрий Иванович иностранным языкам. Коллеги-ученые его, конечно, понимали, а тут дама… Дамам ведь слышатся совсем иные глаголы, да и ценят они не столько смысл, сколько политес.








