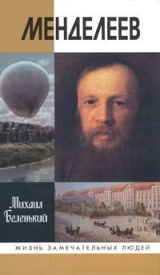
Текст книги "Менделеев"
Автор книги: Михаил Беленький
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц)
Накануне нового, 1861 года Дмитрий Иванович решил вести дневник, для чего купил небольшую, в оливковом коленкоре, записную книжку. Книжка хотя и была предназначена для личных записей, предлагала их определенную направленность. На ней имелся печатный заголовок Badischer Geschäftskalender (Баденский деловой календарь). В начале и конце книжки был помещен справочный материал о гражданском устройстве Баденского герцогства и всей Германии, а ее основная часть представляла собой ежедневник. На внутреннюю сторону обложки, под маленьким табель-календарем, Менделеев поместил большую французскую цитату из «Вальведра» Жорж Санд о том, что объекты в науке не возникают неожиданно: они могут сверкнуть в открытиях в виде фактов, которые, прежде чем им довериться, должны быть основательнейшим образом установлены, либо в виде идей, выведенных из созерцательной логики. Еще ниже была сделана другая запись:
«Я должен чаще вспоминать:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты твои,
Пускай в душевной глубине
И всходят и взойдут от,
Как звезды ясные в ночи…»
Отрывок из стихотворения Тютчева писался по памяти, поэтому был частично перефразирован. Дальше молодой Менделеев поместил несколько выведенных для себя жизненных правил и научных установок:
«Не умничать, когда ясно говорит внутренний голос воли.
Не предаваться желанию, когда ясно говорит против него ум.
Знакомых много не иметь.
От женщин подальше…
На шатком и бесплодном пути слепого опыта и наблюдения нет границы ошибкам. Так, если б доказали и не определили преломляемость – в атмосфере лучей, – не могли бы делать поправок в наблюдениях.
Наблюдение и опыты, направленные мыслью и охраненные знанием, – нет границы в достижении истины».
Из этого дневника мы узнаём, чем занимался Менделеев в оставшиеся до отъезда полтора месяца. Продолжал работать: перегонял бром, определял его капиллярность, приготавливал цинк-этил, запаивал трубки, занимался гликолем… Утром 10 января при кипячении лопнул дилатометр, потом пролился столько трудов стоивший гликоль и лопнула трубка с цинк-этилом. В довершение несчастий в тот же день от некоего Ферингера был получен отказ в займе. Теперь оставалась одна надежда на Ильина, который в Петербурге пытался получить от факультета деньги, причитавшиеся Менделееву за приват-доцентство. Вообще с финансами было плохо: «Беда, право, с деньгами – скуку они крепкую наводят мне». Разбирал бумаги, чистил приборы, хлопотал по поводу перевода своих статей, писал письма, встречался с друзьями. Разбирался в своих чувствах – кто из друзей ему более дорог. Разобрался: «Их троих, Савича, Бородина и Олевинского, от души люблю …»(не мог знать, что через короткое время вслед за Олевинским уйдет из жизни и Савич, придумавший для него ласковое имя Менделеюшка). Катался со знакомыми и какой-то княжной на санях, слушал, как княжна читала свой роман, принимал ее у себя, снова встречался с ней в гостях и уже думал, как бы от нее отделаться… Бывал в театре, по вечерам заходил к Агнессе, а чаще к Гофманам – там после пунша, бывало, пели народные песни. «Хлопче-молодче… будешь кулаками слезы утирати». Часто расстраивался, не спал ночами, плакал, пил чай. Снова и снова пытался понять: почему идет туда, куда ум не велит, почему подозрителен к чужим недостаткам и невнимателен к достоинствам, отчего не бежит от Фойхтман и зачем сближается с Олевинским? И какое место в жизни должна занимать личная драма? «Но что же и за жизнь была бы без этого? Слава Богу, это не раздробляет как порок, это создает внутреннюю крепость и простоту – кулисы падают понемногу. Странно только, а с жизнью нашего организма, верно, мелкий глупейший расчет живет рядом с огромными тратами, грязь с чистотой – не разберешь эту массу хаотическую».Начинал запаковывать лучшие трубки и термометры, менялся с коллегами – отдавал тяжелое оборудование взамен легких трубок и химикатов, потом снова бросался работать. Старался ни в чем себе не отказывать, пытался забыться с помощью карточной игры, но ничто не спасало от тяжелых раздумий. Временами он бывал очень раздражителен: «В театр пошел. Стоять пришлось в партере. Подле стоял немец, с которым играл раз в шахматы. Вопрос его, когда узнал, что я русский: «Скажите, пожалуйста, отчего русские не носят своей национальной шапки, как поляки?» Это занимает его давно, видите, – вот уроды-то».Встретился с проезжавшим через Гейдельберг Вышнеградским – тот с молодой женой только что прибыл в заграничную командировку…
Проводы его в Россию состоялись 18 февраля. У Гофманов собралось много народу – русских и немцев. Эрленмейер подарил на память порт-табак. Банкир Циммер выставил в честь Менделеева 18 бутылок отличного вина, а также пунш. Речи так и лились. Говорили об отношении немцев к русским, о том, что интересы науки выше всего и другим интересам не подчиняются, об Америке, Гарибальди и освобождении крестьян. Честные немцы признавали, что Менделеев ничего у них не перенял, а только получил возможность для раскрытия своего дарования. Сам виновник торжества провозгласил заключительный тост – естественно, за полное преобладание унитарной системы. «Что было со мной – не знаю – не пьян был, но что-то внутри холодило и подымало жар – распустился так – плакать хотелось. Я просто возвращаюсь к детству – часто уж плакать хочется. И проплакался, и со всеми мирно расстался…»
Минорное настроение возвращающегося на родину Менделеева было связано со многими причинами, но менее всего – с недостатком патриотизма. Даже в самых восторженных его письмах из-за границы находим строчки о том, как не хватает ему воздуха родной Сибири, или о том, как живо он продолжает ощущать свою неразрывную связь с университетским Петербургом. Во всех критических ситуациях – исследовательских, любовных, связанных с болезнью или душевным смятением, – у него один выход: погостил – пора и честь знать. Нужды, грозящей ему на родине, Менделеев не боялся, о чем также не раз писал друзьям и родственникам. Очевидно, что ни он, ни его друзья по Гейдельбергу не стремились остаться за границей навсегда (думается, за одно такое желание человек был бы лишен дружеской любви) – наоборот, их мысли были связаны с родиной и почти все они после возвращения верно ей служили, став видными деятелями отечественной науки и просвещения. Тут было другое. Для любого ученого невыносима сама мысль бросить начатые исследования без всякой перспективы их продолжения. Для Менделеева же, с его душой художника, было не менее тяжело по сухому распоряжению петербургского начальства расстаться и с недосмотренной, «недохоженной» землей великой культуры. Нельзя также забывать, что пребывание в Европе пришлось на время его молодости, когда он должен был многое в себе понять: каков он в науке, в дружбе, в отношениях с женщинами, что ему в жизни необходимо, а без чего можно обойтись… Он многого и не просил – еще год, полгода, несколько месяцев спокойной жизни. Но опять, в который раз, события застают его не вовремя, и конец командировки наступает раньше, чем созревает желание вернуться. Значит, так было надо.
Атмосфера служения науке, сложившаяся в русской колонии во времена Менделеева, оказалась недолговечной. Менее чем за год здесь всё переменится. Не успеют члены первого кружка разъехаться по своим кафедрам, как сюда хлынет совсем другая русская публика. Группа выпускников и молодых университетских преподавателей, прибывших под руководством Пирогова для «приуготовления», почти затеряется в потоке молодых людей, пожелавших после закрытия Петербургского университета учиться в Гейдельберге. Впрочем, их учеба будет мало похожа на занятия предшественников. Русская читальня сразу же заполнится запрещенной в России литературой социалистического толка. Начнет выходить русский журнал с залихватским названием «Бог не выдаст, свинья не съест» (его издателем станет русский студент Евгений де Роберти де Кастро де ла Серда, в будущем – автор концепции гиперпозитивизма). На первый план выйдут политические и литературные диспуты, общественная жизнь полностью захлестнет учебную и научную работу. Университетская гауптвахта, ранее «обслуживавшая» исключительно подгулявших буршей, теперь будет нередко заполняться буйными русскими студентами, о чем до сих пор свидетельствуют надписи на ее стенах (самый яркий автограф оставил здесь некто Protopopoff).
Русская разновозрастная публика бурно откликалась на любое мало-мальски значимое политическое событие. Здесь триумфально встречали сына Герцена, посылали приветствие Линкольну, поддерживали Польское восстание. Даже своего «дядьку» Пирогова стипендиаты убедили заняться лечением раненого Гарибальди (Николай Иванович поехал-таки, выставил из комнаты генерала дюжину европейских светил, запускавших по очереди пальцы в рану в поисках застрявшей пули, приказал переставить кровать Гарибальди поближе к свежему воздуху и солнечному свету и без всякой операции заставил пулю выйти). А заехавшему в Гейдельберг министру просвещения Путятину колонисты устроили ночной кошачий концерт, обернувшийся форменным скандалом и в России, и за рубежом. В 1862 году, сразу после выхода романа «Отцы и дети», члены колонии, обидевшись на замечание в его тексте в адрес бывших студентов Гейдельбергского университета, после возвращения в Россию якобы неспособных отличить кислород от азота, устроили публичный суд над романом и его автором. В новой русской колонии воцарилась мода на бесцеремонные выходки, безапелляционные суждения и абсолютную политическую нетерпимость. При этом «дикие русские юноши» (по выражению Тургенева) считали, что их должна слушать, раскрыв рот, не только Россия, но и вся Европа. Скандальная слава русских недоучек из Гейдельберга докатилась даже до Карла Маркса, внимательно наблюдавшего за всеми очагами революционного движения. Увы, классик диалектического материализма высказался по их поводу с пренебрежительной иронией… Ненастоящие революционеры. Так будет до 1866 года, когда после изменения политической ситуации в Германии русская революционная оппозиция потянется в Швейцарию. И вот там уже запахнет настоящей крамолой…
Глава пятая
ПРОФЕССОР
Возвращаться Менделеев решил не спеша, как бы совершая очередное путешествие. В Гисене заночевал и сделал несколько визитов. Потом задержался в Берлине – ходил по музеям и галереям, тешился Каульбахом, Тицианом, Корреджо и, конечно, Рубенсом – «Судом Париса». Полнота жизни на великих полотнах взрывала в молодой душе надежду. Всё будет хорошо, Европа. Я к тебе вернусь. Приеду и опять уеду. И снова вернусь. Потому что мысль к чувству не пришьешь и Европу к России не припаяешь. И не надо, и слава богу, что они сами по себе – гудящий русский простор и Рубенс с альпийскими мостами. И что можно путешествовать. Какое всё-таки счастье, что можно путешествовать! В Новом берлинском музее Менделеев забрел в Египетский двор и пришел в восторг от колонн с иероглифами, огромной статуи сфинкса и еще больше – от чýдной живописи, которой оформители украсили стены: «Особенно удивительны статуи две среди воды, солнце из-за одной – диво что такое, так и полетел бы».
В русском посольстве ему вручили пакет, который нужно было передать в Петербурге в канцелярию Министерства иностранных дел (была в России такая практика использовать путешественников из числа благонамеренных граждан в качестве дипкурьеров), и выдали по этому поводу курьерскую подорожную. И будто бы сразу Россия придвинулась. Выехал из Берлина третьим классом. В вагоне, где было всего четыре «чистых» скамьи, наряду с немецкой речью уже громко звучал простой русский говор. Всю дорогу до Кенигсберга он рассказывал двум русским купцам об Италии. Купцы восторженно крякали и временами забывали закрыть рот от восхищения. Потом еще три часа езды, пересадка, недолгий сон и вот она, русская граница. Поезд дальше не шел, границу пересекали на санях, Прусский шлагбаум был поднят, и никого возле него не было; русский – опущен, рядом два солдата проверяли паспорта и просили на водку. Далее таможня – там увидели, что едет курьер, и не стали досматривать. Опять же на санях (извозчики удивлялись, почему государев курьер мало того что не дерется и не ругается, так еще деньги платит и на водку дает) добрался до недостроенной железной дороги в Ковно – регулярного сообщения по ней еще не было, но поезда кое-как двигались.
Кондуктор с дорожными рабочими подсадил курьера с вещами в багажный вагон. Долго ждал отправления (благо в вагоне было натоплено), беседовал с кондуктором, дивился его «российскому духу». Тот жаловался на жизнь: французы, ведущие строительство, не разрешают брать хабар с пассажиров, к тому же всё больше поездов начинают ходить по расписанию, пассажиры садятся с билетами, да и вообще с немцев да поляков много не возьмешь – не понимают, бестии, порядка; другое дело – наши купцы: могут сразу трешку дать. Наконец поезд двинулся, но с частыми остановками из-за продолжавшихся дорожных работ. Кондуктор куда-то убегал, потом возвращался замерзший и снова начинал с тоской вспоминать времена, когда он имел по 25 рублей с поезда. Говорил тихо, с оглядкой на французского инженера, который сидел на специально принесенном для него стуле и всю дорогу молчал. Дальше Ковно составы еще не ходили, пришлось снова мчать на санях, чтобы поспеть в Динабург на последнюю пересадку. Дорога была вся в ухабах, дышло то ныряло вниз, то задирало лошадей вверх так, что они становились на дыбы. Часто рвались постромки. Наконец перемахнули через Двину и подкатили к поезду – как раз к третьему звонку. Менделеев уже привычно показал курьерскую подорожную, и его пустили в хороший, удобный вагон второго класса. Познакомился с попутчиками – офицером, следовавшим из служебной командировки, казанским помещиком, изучавшим сельское хозяйство в Саксонии, и немкой-гувернанткой. Потом подсел какой-то учитель из Одессы. Рассказывал им о немецких студентах. А что в России? Да так как-то всё. Крестьянский вопрос опять отложен. Для народа пооткрывали воскресные школы, да мало кто туда ходит. Потом заснул. В Царском Селе на вокзале вспомнил: забыл мальчишке-ямщику с последней станции на водку дать, спешил. Всем дал, а ему – нет.
Ранним утром Дмитрий Иванович завез пакет в министерство, бросил вещи у приятеля и, не сменив дорожного костюма, помчался к Воскресенскому. Александр Абрамович был с ним ласков, звал обедать – сегодня и каждый день, – но ничего конкретного в смысле заработка не предлагал. Звание университетского приват-доцента за Менделеевым всё еще сохранялось, но само место было занято Соколовым. О прочих возможностях – ведь Воскресенский руководил кафедрами в нескольких заведениях – старик пока помалкивал, возможно, был несколько уязвлен «физическим уклоном» своего ученика или успел ознакомиться с известным нам пассажем в послании попечителю. Дмитрий Иванович простился с Воскресенским и успел застать на квартире собиравшегося на работу Ильина. Тот тоже не мог посоветовать ничего дельного. Поговаривают, что Воскресенский вроде собирается оставить свое место в Корпусе инженеров путей сообщения. Такую новость хорошо бы услышать от самого Александра Абрамовича. Ильин рассказывал, что жизнь в Петербурге дорожает не по дням, а по часам. Начали тянуть водо– и газопровод, да контроль ча этим серьезным делом никудышный – уже был взрыв газа на Мещанской. Демидов, бывший менделеевский ученик, дрался на дуэли с бароном Мейендорфом и ранен в обе ноги. Янкевич, тот самый, что отдал Менделееву свою одесскую вакансию и так удачно начал карьеру в столице, оказался замешан в деле о закладе подложных документов… На прощание Ильин также потребовал, чтобы Менделеев ежедневно являлся к обеду. Это пришлось очень кстати – кроме долгов у Дмитрия Ивановича была разве что ассигнация, чтобы снять дешевое жилье, да мелочь в кармане. Он тут же подыскал себе квартиру – за Тучковым мостом, в доме с табачной лавкой (такой теперь у него и будет адрес: «Табачная лавочка за Тучковым мостом» – не очень серьезный, но письма будут доходить исправно). Дворник, сдававший квартиру в полуподвале, просил 15 рублей, сторговались на десяти. Вход был через кухню, сама комната хотя и невысока, но довольно велика и удобна. Поехал за вещами, по пути осмотрел новый памятник Николаю I– не понравился. Вечером надел фрак и отправился к Протопоповым. Дверь открыла Феозва, посмотрела на гостя и не узнала.
Потом все, конечно, обступили и радовались ему как родному. Он сидел допоздна и ушел совершенно обласканный и растроганный: «А относительно приема очень доволен – милые люди все – жить и любить их не только можно, но стыдно было бы не любить. Экая дичь написалась. Да, спать, спать».
В первые месяцы после возвращения ситуация со службой была просто аховая. Приходилось всерьез рассматривать любые возможности. Он был готов даже занять должность секретаря созданного купцами Мануфактурного общества, но туда не нашлось протекции. Ходил справляться по поводу места в сельскохозяйственном департаменте; что-то пообещали, да потерся в кабинетах – и противно стало: «…так и мутит меня, как вспомню… Не забуду чиновничка, бежал он к двери товарища министра, перед дверью выпрямился, спину даже назад выгнул, полуотворил дверь и так, изогнувшись, и взошел в дверь – срамно видеть-то, право, было – мертвечина какая».Собирался ехать в Могилевскую губернию преподавать в заштатном Горы-Горецком земледельческом институте – отказано. Хотел собственное фотографического дело завести, даже пробный снимок вполне удачно сделал, но ателье без денег не откроешь. Леон Шишков, успешно работавший в своей лаборатории, звал к себе – не на должность, а просто для занятий любимым делом; однако вчерашнему стипендиату было уже не до вольных исследований, надо было думать о хлебе насущном.
Конечно, Менделеев не был бы потомком славного рода Корнильевых, если бы, зная о своих перспективах в Петербурге, вернулся из-за границы без всяких практических заделов. У Дмитрия Ивановича имелось два замысла, способных дать средства к существованию. Первый был связан с изданием «Технической энциклопедии по Вагнеру», которым до того занимался профессор университета М. В. Скобликов (это он уступил Менделееву свое место приват-доцента и был вместе с Воскресенским оппонентом на обеих его защитах). Скобликов успел подготовить несколько переводов из этой энциклопедии и написать для нее три самостоятельные статьи, но вдруг тяжело захворал и был вынужден вместе с семьей выехать для лечения в Германию. Между ним и Менделеевым завязалась активная переписка. Совестливый Скобликов, страдавший от болезни и невозможности продолжить начатую работу, испытал значительное облегчение, когда Менделеев предложил взять издание энциклопедии на себя. Умиравший ученый подробнейшим образом описал молодому коллеге состояние дел, отчитался за каждый рубль из издательского фонда, проинструктировал, сколько и когда нужно платить переводчикам, описал даже место в питерской квартире, где хранились еще не отредактированные переводы: «Зайдите в мою квартиру, спросите там Александру Андреевну, от моего имени попросите ее пустить вас в шкафы с книгами и взять оттуда тетрадь бумаг; какая-то безделица осталась у Виктора Андреева (одного из переводчиков. – М. Б.); кроме того, у него, кажется, заготовлено несколько листов перевода, но за них еще ничего не заплачено ему. Я надеюсь, что ни одна страница перевода не затеряна. Что касается вашего предложения приплатить мне несколько к тому, что я получил, об этом не хлопочите – я ничего не приму, потому что мне ничего не следует. От этого вашего предложения – сохранить мое имя – я тоже отказываюсь – мне тяжело выговорить причину, но вы сами ее поймете…» Теперь Менделееву оставалось договориться с питерскими издателями «Энциклопедии» и на несколько лет впрячься в работу, которая станет для него неплохим материальным подспорьем. Кроме того, «Энциклопедия по Вагнеру» породит у Менделеева множество новых интересов, связанных с прикладным применением науки.
Второй замысел был связан с написанием учебника органической химии, который он решил представить на присуждение Демидовской премии. Выбором лауреатов, по уставу премии, занималась Санкт-Петербургская академия наук; ее члены, по всей видимости, допустили «утечку информации» о своей заинтересованности в появлении на свет такого русского учебника. Менделеев еще в конце последнего гейдельбергского лета обратился к Антону Скиндеру с просьбой прислать положение о премии. Тот немедленно сообщил все подробности. Наибольшее впечатление на Менделеева, не испытывавшего ни малейшего сомнения в своих силах, произвела сумма полной (была еще половинная) первой премии – 1428 рублей серебром! Это стало решающим фактором. По приезде в Петербург он сумел заинтересовать то же издательство, которое занималось «Энциклопедией» (рассматривались только печатные работы), даже получил небольшой аванс и засел за работу. Писал, не разгибаясь, оставляя совсем немного времени на сон, общение с друзьями и свои любимые шахматы. Настроение было неважное, от усталости часто болела грудь. Внимательный Беккерс (он на двоих с Сеченовым снимал квартиру на Захарьевской улице – их Менделеев посетил в числе первых) заметил, что у Дмитрия плохо действуют мышцы правого глаза. Призвали Юнге и постановили сделать операцию. Приказали другу явиться в Военно-хирургическую академию и всё сделали по правилам – тщательно, под хлороформом подрезали наружные мышцы. С глазом стало полегче, а может, он просто забыл о нем, полностью уйдя в работу. Менделеев писал, почти не отвлекаясь на новости, едва отмечая в сознании выход царского манифеста об освобождении крестьян, появление гарибальдийцев в славянских землях Турции, смуту в Варшаве… В какие-то мгновения казалось, что он уже и стук в дверь не слышит, и краткие перерывы в работе почти не запоминает – то ли были, то ли не были. Вроде бы примерял сшитое в долг пальто, вроде сапоги приносили – тоже в долг, а только дальше мерзнуть невозможно; вроде Феозве ручку целовал – это она «Обломова» в подарок принесла (хорошая девушка, хоть сейчас жениться, да жить на что?)… Или не было ничего – не примерял, не приносили, не целовал? Когда ему, в самом деле? Он же всё время пишет, пишет, пишет… Так устал, что стал видеть себя со стороны.
Учебник объемом в 34 печатных листа был написан и подготовлен к печати практически за три месяца. Мощный, с напряжением всех сил, рывок достиг намеченной цели. Менделеев успел к самому крайнему сроку. Сочинение было отрецензировано академиками Ю. Ф. Фрицше и Н. Н. Зининым, которые предложили его конкурсной комиссии: «Книга г. Менделеева «Органическая химия» представляет нам редкое явление самостоятельной обработки науки в краткое учебное руководство; обработки, по нашему мнению, весьма удачной и в высшей степени соответствующей назначению книги как учебника». На следующий год, 26 апреля, Менделеев получит извещение о присуждении полной Демидовской премии.
У этой книги, увидевшей свет накануне крупнейших химических открытий, в первую очередь бутлеровской теории химического строения органических элементов, будет яркая и непростая судьба. «Менделеев, – писал О. Н. Писаржевский, – дал как бы моментальную зарисовку состояния химической науки на этом переходном рубеже. И это была зарисовка, сделанная рукой выдающегося мастера и знатока предмета». Кроме того, в ней впервые приводились данные новой науки – биохимии – об отсутствии в животном теле некой таинственной «жизненной силы». Вслед за своим другом Сеченовым автор утверждал: «Каждое жизненное явление не есть следствие некой особой силы, каких-то особых причин, а совершается по общим законам природы».Более того, автор учебника энергично утверждал, что придет время, и все органические соединения можно будет добывать из неорганических тел. В то же время, показывая, как и в каких пределах могут изменяться молекулы, Менделеев использовал весьма неполные данные об их строении, и это мешало ему правильно уложить органические соединения в стройные гомологические ряды.
При всём сказанном работа Менделеева относилась к тому виду произведений, целостность которых совершенно отрицает любые дополнения и, тем более, переделку. «Превосходный учебник «Органической химии» Менделеева, – указывает Писаржевский, – должен был быть написан заново, с новых точек зрения, введенных в науку талантом Бутлерова». Если бы речь шла не о Менделееве, то можно было бы сказать, что казанский ученый перешел ему дорогу, обесценил плод тяжелого труда. У них действительно будут очень непростые отношения, но в конце концов Дмитрий Иванович в полной мере оценит своего талантливого коллегу. Одна из причин их научного «родства» приводится учеником Менделеева академиком Г. Г. Густавсоном: «Я слушал лекции Д. И. Менделеева по органической химии в 1862 и 1863 годах, по возвращении Д. И. из двухлетней заграничной командировки и тотчас после издания им книги «Органическая химия»… Книга проникнута широкой и сильной индукцией; это выразилось главным образом в том, что в ней приведена принадлежащая Менделееву теория пределов – предшественница теории строения. Фактическое содержание книги не только в общем, но и в частях ярко освещено выводами. В этой ее особенности, отличающей ее от других руководств, видится уже будущий автор «Основ химии». Но затем в книге до такой степени выдержана соразмерность частей, так ясно отсутствие лишнего, руководящие идеи проведены в ней с таким искусством, что она дает впечатление художественного произведения. Она так целостна, что, начав ее читать, трудно оторваться…»
В конце июня, сдав в печать книгу, Менделеев отправляется в десятидневное путешествие по Финляндии. Он пытается почерпнуть силы в том образе жизни, который сложился у него в Гейдельберге. Но безоблачной экскурсии уже не получается: отныне новые впечатления оказываются неотделимы от довольно тягостных воспоминаний и раздумий, а наслаждение природой уже не всегда может прогнать скуку, оно начинает перемежаться с раздражением и желанием поскорее вернуться к работе. Это новое состояние, судя по дневнику, переживалось Менделеевым довольно болезненно. И все-таки новое путешествие оздоровило и освежило его. Налегке, с небольшим запасом чая и табака (к качеству этих товаров он относился весьма придирчиво) и пятьюдесятью рублями в кармане Менделеев отплывает пароходом на Валаам, оттуда, через Сердоболь, в Рускеалу, из скал которой Куторга когда-то привез ему образец породы для первого исследования, потом от Иоенсу на лошадях и пароходах добирается в Лауритсалу, далее в Выборг и, наконец, возвращается в Петербург. Финская «кругосветка», гладь Ладожского озера немного напоминали безмятежное плавание по водам Швейцарии и Италии, но бескрайний северный пейзаж был спокойнее и холоднее, и состояние души молодого путешественника было уже иное.
Иногда он просто отмечал картинные места и заносил куда-то глубоко в память, как это, наверное, делают профессиональные художники: «Отличный вид. Холмы, вдали цепь гор, мимо холмов ближних просвечивает озеро, за ним и перед ним обработанные места, хороший лес – всё это вместе отлично. Много теней и планов, и плодородно». А то вдруг начинал ощущать пейзаж не только зрительно, а каким-то особым телесным образом: «Скатишься с горки и въедешь в туман – жутко. А с горы по бокам точно озёра эти туманы. Точно озёра – только разреженной, растворенной в воздухе воды».Купил за три копейки целый короб свежей земляники и ел ее, устроившись на палубе. Высаживался на берег, ночевал в местных гостиницах, где подавали очень вкусную простоквашу. Вокруг очень мало говорили по-русски, но ему не было скучно: он с удовольствием спал, гулял и валялся на траве после обеда. Любовался прекрасными вечерами, а ночью или утром вдруг вставал усталый и раздраженный, искал бумагу или хоть какую-нибудь книгу. Чая и табака на всё путешествие не хватило. Болели глаза.
Приближалась пойма Сайменского канала. Когда-то он жил здесь на мызе у Кашей. Теперь, накануне встречи с этим местом, Менделеев не спал всю ночь: «Стало крепко тяжело, когда вспомнил я то время, что провел здесь с Соничкой, когда еще и женихом не был. Помню, мы шли… к дамбе и там сидели вечером. Моряки хором и она пела. Помню, дал слово, любуясь этими местами, и исполнил, быть здесь… Поел немного и не мог не поехать в Моп Repos. Да и как было не поехать, когда с ним связано воспоминание о чудных днях. Нашел я ту китайскую беседку, куда ходил с ней, и эту березовую хижину, где надписали имена, – я их не нашел. «Желтые цветочки» – скажите. Да, и не стыжусь я их. Слава Аллаху, хоть брюхо требует бифштексу, хоть глаза слабеют, а еще не простыло понимание особого настроения тех времен. Это дорогое время – не забуду… Исходил математически весь сад…»
О чем еще он думал, бродя по живописным чухонским холмам и валяясь в свежей траве? Наверняка о родных. Несколько месяцев назад скончался Н. В. Басаргин – самый главный, после отца с матерью, наставник его детства. Сестра Ольга писала о тяжких хлопотах, которые выпали ей после смерти мужа: имение Новики, как и вообще всё наследство бывшего ссыльного, вполне могло отойти в казну. Между тем ей нужно было думать не только о себе, но и о больной падчерице Полиньке, выданной за их брата Павла. В этой семье было уже трое маленьких детей. «Если б я одна, я бы не думала, но за Полю и Павла страдаю». Ее письма навевали воспоминания о маменьке с ее беспрестанными хлопотами. Как только тяжба закончится, Ольга сразу же поедет к Поле и Павлику в Сибирь. Дмитрий недавно виделся с Ольгой – она приезжала в Москву проведать старых друзей и вызвала к себе брата. Он снова жил в доме тетушки Надежды Осиповны Корнильевой, где встречался с некоторыми старыми знакомцами из бывших тобольских ссыльных. Посмотреть на взрослых детей Менделеевых пришли Муравьева-Карская, Бибиковы, Матвей Иванович Муравьев-Апостол. Круг вчерашних ссыльных редел, по дружеские отношения не слабели. Говорили и о своем прошлом, и о его будущем. Сестра очень советовала жениться на Феозве. Он и сам уже склонялся к этому решению. Что с того, что милая Физа не была похожа ни на Соню, ни на Агнессу? Он чувствовал, что пора, пора ему обрести надежного друга. С остальными родственниками он не виделся уже десять лет. Маша с Поповым по-прежнему оставались в Тобольске, где Михаил Лонгинович учительствовал в гимназии. Когда Дмитрий уезжал из родного города, у них были две маленькие дочери – Настя и Анюта. Теперь они почти барышни, а в семье подрастают еще трое мальчиков и две девочки. У Ивана, хуже всех стоявшего на ногах из-за пристрастия к водке, было шестеро детей, и денег в семье вечно не хватало. Лучше всего обстояли дела у Капустиных. Оля и Евдокия уже были замужем, остальные дети – совместные и от первого брака Якова Семеновича, общим числом девять душ – жили в любви и достатке. Как и прежде, Яков Семенович считался главой рассыпавшегося менделеевского семейства, от него исходили совет, поддержка и доброе слово.








