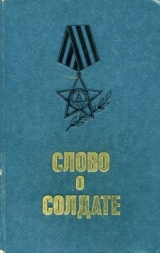
Текст книги "Слово о солдате (сборник)"
Автор книги: Михаил Шолохов
Соавторы: Алексей Толстой,Константин Паустовский,Вениамин Каверин,Михаил Пришвин,Валентин Катаев,Лев Кассиль,Андрей Платонов,Александр Твардовский,Александр Фадеев,Вячеслав Шишков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Со жгучей силой гремели слова слепца, и нищий, оробев, тяжело дыша, весь пригнулся, стараясь не смотреть в гневное лицо с омертвевшими глазами, с теми глазами, на которые он из страха перед немцем пожалел воды… Все же он попытался вывернуться.
– Граждане! – пролепетал он, воровато снуя прыгающими, точно горошины, глазками. – Что же это? Да я сроду не знал его! Приснилось ему, что ли!.. Да я сам инвалид с фронту…
– Врешь, трехпалый! Никогда ты на фронте и не был, – уверенно и жестко сказал слепой. – А ну, покажи людям руку свою правую. Я помню, как ты тогда меня в плечо толкал, а я тебя за руку ловил. У него, товарищи, на правой двух пальцев нет. Видно, из самострелов. От фронту отлынивал… Ну, предъяви руку людям, если я вру!
Нищий поспешно спрятал правую руку за спину. Но человек в наглухо застегнутом пальто, спрыгнув с верхней полки, вывернул ему руку вперед. И все увидели, что на руке у нищего не хватает двух пальцев.
Наступило молчание. А потом, чуточку успокоившись, баянист сказал:
– Хоть я очи потерял, но дело у меня нашлось, а таким, как ты, и в глаза людям поглядеть нельзя. Совесть у тебя слепая. Темно тебе на свете, и просвета не жди…
Наутро пассажиры в вагоне проснулись поздно, потому что долго накануне не могли заснуть, взволнованные встречей и возмездием, совершившимися на их глазах. А когда пассажиры проснулись, то увидели, что слепой уже встал. Он сидел у окна, незрячие глаза его упрямо и мечтательно уставились в уже высоко поднявшееся солнце.
– Солнышко-то сегодня какое ласковое, – проговорил он, – уже по-весеннему светит. Я щекой чую, как солнышко греет. На тепло повернуло. Весна скоро.
Николай Евгеньевич Вирта
Серый денек
Я вышел из вагона на маленькой станции – поезд стоит тут всего одну минуту.
Паровоз заревел, и состав покатился вниз по глубокой выемке, на дне которой были положены рельсы. Извиваясь, ложбина шла мимо полей и леса, а внизу, у окончания выемки, располагалась уже другая станция – зеленая крыша вокзала была видна с пригорка, на котором я стоял, провожая поезд.
Медленно пошел я по дороге мимо громадных прямых сосен, осенявших ее, и прекрасен был край, видимый мною в этот тихий мирный час.
Передо мной лежала холмистая долина, окруженная лесом; солнце, заволоченное легкими облаками, мягко согревало землю: стоял такой обычный для этих мест и всегда такой прелестный серый денек, когда нет резких переходов от света к тени, когда краски чуть-чуть приглушены, когда все вокруг погружено в чарующее спокойствие, когда душа растворяется в этом покое и просторности, и хочется думать о простых и ясных вещах, вспоминать о милых и добрых людях, и самому хочется быть хорошим и добрым, как природа вокруг…
Долго стоял я на вершине холма, прислонившись к стволу могучего дуба; вокруг него росли молодые, тихо лепечущие березки… Я смотрел вниз, в долину, на поля пшеницы, на яблоневый сад невдалеке, прислушивался к неясным звукам, доносившимся из селения, что раскинулось вдали… Я никуда не спешил… Да если бы я и спешил, я не смог бы оторваться от созерцания этих спокойных красок, от невинного шелеста тонких грациозных березок и…
Я лег на траву около дуба, утонул в ней, и, ощущая теплую землю под собой, задумался и, зачарованный шорохом трав, трепетанием листвы, птичьим неугомонным хором, заснул.
Не знаю, долго ли я спал, – часов со мной не было, – но день все так же кротко ласкал мир; облака, затянувшие небеса от края до края, по-прежнему смягчали и рассеивали солнечные лучи; так же многоголос был птичий говор… Однако что-то изменилось в окружающем, что-то нарушило мое уединение. Я прислушался.
Внизу послышался шорох раздвигаемых трав – кто-то взбирался на вершину холма, где, скрытый густой зеленью, лежал я.
– Сядем здесь, не стоит забираться наверх, – сказал женский голос.
– Хорошо, – отозвался мужской. – Подождите, не садитесь на траву, земля влажная. Я постелю плащ.
– Не надо, – сказала женщина, – У нас уже давно не было дождей.
Чиркнула спичка; голубоватый дымок папиросы спиралью проплыл передо мной и растаял.
Я тихонько развернул стену травы, посмотрел вниз и увидел офицерские погоны: два скрещенных ствола на золотом поле и звездочку посредине. Я мог бы, протянув руку, коснуться этих могучих плеч, над которыми возвышалась круглая, покрытая густыми белокурыми волосами голова. Офицер, услышав шорох над собой, обернулся, но я успел скрыться – он не увидел меня.
– Что там? – спросила женщина.
– Мне показалось, будто кто-то есть наверху…
– Это кузнечики… Или птицы вернулись в свое гнездо.
Голос ее был молод и звучен, он волновал воображение. Мне хотелось увидеть спутницу офицера, но я не мог пошевельнуться в своем укрытии. Вообще-то надо бы было уйти, но раз уж я не смог этого сделать в первую минуту, то теперь мое появление выглядело бы совсем нелепо. Я остался на своем месте, решив покинуть его, как только представится возможность.
– Птицы возвращаются в свои гнезда, – повторил офицер. – И у птиц и у людей закон один: стремиться в свои гнезда, где бы они ни были.
– У вас есть свое гнездо? – спросила женщина.
Снова синяя густая спираль дыма проплыла передо мной.
– Нет, – отвечал офицер. – У меня сейчас нет гнезда.
– Сейчас? Значит, оно было?
– Как у всех.
– Почему же нет сейчас?
– Его разорил ястреб,
– А!
Они помолчали несколько минут.
– Там были дети? – спросила она тихо.
– Да, трое.
– Не надо говорить об этом…
– Я никогда и не говорю… Так, пришлось к слову.
– Это давно случилось?
– В сорок первом году. В самом начале. Может быть, я сам виноват в этом.
– Вы?
– Да, я.
– Господи!
– Около той ложной батареи, где мы с вами встретились, в сорок первом стояла батарея, и это уже были настоящие орудия. Ими тогда командовал я. А вот на этом холме, на дубу, между ветвей, мне устроили наблюдательный пункт. Там еще должна быть площадка, если ребятишки не растащили ее. Потом мы посмотрим. Я ведь приехал-то сюда, чтобы повидать эти места…
Я взглянул на дуб, и точно, среди его ветвей, почти на самом верху, нашел полуразрушенную площадку из толстых досок, окруженную перильцами…
– Тут мы провели много ночей, – сказал офицер. – Памятен мне этот холм, и старый дуб, и эта площадка…
– Странно, – сказала женщина. – Я тоже приехала сюда, чтобы… Мы тут рыли противотанковый ров и ходили на батарею за водой… Помните, около нее бил родник.
– Он бьет и сейчас. Я уже был там. Вода в нем чистая и очень холодная. Ломит зубы, когда пьешь.
– Вы и сейчас пили из него?
– Да.
– И я тоже. Мы много раз бывали у родника, но вас я не видела ни разу. Мы отдыхали около ложных пушек… Они очень похожи на настоящие. Около них стоял часовой и не подпускал к ним. Смешно, они до сих пор уцелели…
– Их делали прочно.
– И около них мы встретились.
– Да.
– Люди встречаются в самых неожиданных местах. Жизнь водит-водит человека из края в край, пока не приведет туда, откуда начинается новая дорога. – Женщина вздохнула. – Это – случай или судьба?
– Не все ли равно, как это назвать?
– Да, конечно.
– Я хотел вам рассказать, как это случилось… С моим домом…
– Может быть, не стоит?
– Почему? Заживают даже самые страшные раны.
– Но все же их не разрешают бередить.
– Вы жалеете меня?
– Да.
Голубая струя дыма проплыла около меня.
– Это так странно, что всего два часа назад я не знала вас, – сказала женщина. – А вам не странно это?
– Нет. Когда-нибудь я должен был найти вас.
– Почему именно меня? Сюда могла бы прийти другая.
– Да, но я прошел бы мимо нее.
– А почему вы не прошли мимо меня?
– Вы же первая заговорили со мной.
– Значит, если бы с вами заговорила любая другая…
– Но ведь заговорили именно вы, а не любая другая…
– А если бы она заговорила?
– Я, может быть, не ответил бы ей.
– Может быть.
– Я бы просто не ответил ей.
– Ну да! Почему же вы ответили мне?
– Потому что… Я не знаю, почему.
– Но все-таки!
– А почему вы заговорили со мной?
– Я… У вас был такой сумрачный вид… Глаза печальные-печальные, и волосы растрепались на ветру…
– При чем же здесь волосы?
– Не знаю. Вы показались таким утомленным, и мне захотелось, чтобы вы немного отошли от своих нехороших мыслей. Ведь у вас в ту минуту мысли были не из веселых, правда?
– Да. Я вспомнил тот день.
– Вот я и заговорила с вами.
– А я ответил.
– Почему?
Он засмеялся.
– Очевидно, вы мне понравились.
– А что именно понравилось?
– Все.
Теперь засмеялась женщина, и смех ее был счастлив,
– Но ведь вы даже не подозревали о моем существовании.
– Зато теперь это для меня непреложный факт.
– Так уж непреложный?
– Да. Вот ваша рука. Вот ваши глаза – они очень ласковые. Они всегда так ласково смотрят на людей?
– Не знаю, как они смотрят на людей.
– А губы ваши тоже всегда улыбаются, как сейчас?
– Разве они сейчас улыбаются?
– Они все время улыбаются.
– Больше они не будут улыбаться.
– Попробуйте.
Они рассмеялись вместе.
– Нет, не выходит, – сказала женщина. – С вами у меня не выходит. А почему вы тоже улыбаетесь все время?
– Разве?
– Да.
– Вам хочется, чтобы я не улыбался, глядя на вас?
– Нет, нет! У вас чудесная улыбка.
– Что вы говорите!
– И рот у вас красивый, и волосы, и вообще все.
– Одним словом, писаный красавец.
– Впрочем, вам это, вероятно, не раз говорили, – сказала она сухо.
Помолчав, он ответил серьезно:
– Видите ли, если бы кто-нибудь подумал до этого дня сказать мне это, он на всю жизнь запомнил бы, что я грубиян и бревно.
– Почему же сегодня это разрешается говорить?
– Потому, что такой сегодня день…
– Самый обыкновенный день… Серый денек.
– Нет, необыкновенный, – сказал он. – Необыкновенный сегодня день, – повторил он. – Первый мой день за четыре года, вот так – первый.
– Вы все время были там?
– Да. Я воевал тысяча четыреста семнадцать дней.
– Вы даже сосчитали.
– Да, и каждый помню.
– Это страшно.
– Ничего, человек все забывает. Постараемся забыть. Не забудем только тех, кого мы потеряли, кто не дожил… Мы научились ценить людей. Человек очень дорого стоит, терять людей трудно…
– Как и находить их.
– Да. Вот я узнал вас. Всего два часа я вас знаю, а если бы мне сказали, что я потеряю вас, я бы вцепился в вас обеими руками…
Она ответила со смехом:
– Как же можете вы потерять меня? – В ее голосе я услышал искреннее недоумение.
– Как? Очень просто. Может быть, вот эти наши минуты здесь ничего больше, как влияние воспоминаний, всего, что вокруг этих ложных пушек, следы батареи, родник… Приедем в Москву – и все растает, и вы исчезнете в потоке людей… Все может быть, – закончил он с глубокой грустью.
– Но этого может и не быть. Разве не от нас самих зависит не потерять друг друга?
– Не всегда это зависит от воли человека.
– Нет, это зависит только от воли и желания человека. От его чувств. Только от него зависит сохранить то, что он нашел, чем живет и должен жить.
– Я стольких потерял за эти годы, и моя воля была часто бессильна помешать этим потерям.
– Но ведь то другое дело, – сказала женщина. – Там действительно не все зависит от человеческой воли.
– Если бы это зависело от моей воли, я бы ни на одну минуту не отпустил вас от себя!
– Я слишком мало вас знаю, чтобы дать волю вашей воле, – сказала она ласково.
Они долго молчали. Первым заговорил он.
– Вы можете меня узнать, если захотите.
– Я хочу, – сказала она просто.
Снова наступило молчание, нарушаемое какими-то смутными шорохами в траве и птицами. Воздух казался неподвижным, замолкли березы, восхитительная минута тихой задумчивости во всем! Я тихонько выглянул из своего зеленого убежища: офицер лежал на спине, устремив взор в небо. Я рассмотрел его лицо: оно было так свежо и молодо, и если бы не седые виски, я мог бы подумать, что передо мной юноша. Женщина сидела в отдалении от него, спиной ко мне, я видел лишь тяжелый пучок каштановых волос на затылке, прекрасную шею и красивый овал плеч.
Сильный порыв ветра налетел внезапно, и дуб могуче загудел, и березы снова разговорились, и в этом шуме потонули неясные шорохи, и шелест, и голоса птиц… Потом так же неожиданно ветер смолк.
– Как-то, в сентябре сорок первого года, – сказал он, – появились немецкие самолеты… Мы, бывало, только соберемся в лагерь, а они уже летят…
– Они часто бывали здесь… – отозвалась она.
– Я стоял на площадке на этом дубе и следил, как мои орудия били по ним. Самолеты летали над лагерем строителей противотанкового рва. Там было, очень много людей в ту ночь…
– Больше четырех тысяч, – сказала она. – В том числе весь наш курс.
– Немцы стреляли по лагерю. Мы стреляли по ним. Два самолета упали далеко, третий – подстрели мы его – упал бы как раз в лагерь… Я был в нерешительности всего несколько секунд. Этого было достаточно. Самолет ушел, в ту ночь в город пробилось несколько самолетов. Одна бомба упала на мой дом. Может быть, ее сбросили с того самолета, который не был сбит мною. Вот чего стоили мне несколько секунд нерешительности!
Она повернула к нему лицо – милое, доброе лицо с лучистыми ясными глазами ребенка, с губами, которых еще никто, вероятно, не целовал, что-то необыкновенно кроткое было в этих чертах, в округлом розовом подбородке, кроткое и нежное, как весь ее облик.
– Когда утром я узнал, что потерял все, я подумал: «Мне остается только одно – воевать до конца, бить их без всякой пощады, без колебаний…»
– Вы уж сделали все, что могли, – сказала она и доверчивым жестом расправила складку на его гимнастерке. – Теперь надо просто жить. Просто жить и стремиться к чему-нибудь иному. Ведь все кончилось. И вы сказали, что заживают самые страшные раны. Заживет и эта, если постараться не бередить ее.
– Да, – сказал он покорно, – не стоит.
– И потом… – она нерешительно замолкла. – Ведь в этом лагере была и я.
Я увидел, как порозовели ее щеки.
Дым от папиросы медленно таял в неподвижном воздухе.
– Когда все кончилось, – сказал он, – когда прочел закон о возвращении людей домой, горько мне было! Каждого ждет дом, дети, работа, а меня никто не ждал. Мне даже некуда было ехать, я был один в этом большом мире, который радовался, торжествовал, веселился… Куда мне деваться, я не знал. Я хотел отдохнуть… Это неверно, будто солдату скучно без стрельбы и атак. Нам всем досмерти хочется отдохнуть, хочется, чтобы кто-нибудь позаботился о нас… хочется, чтобы ничто не напоминало о том, что было, как бы велико оно ни было… После этого смрада, после пожаров, после развалин, взорванных дорог, выжженных полей хочется скорее увидеть мир, обновленный заново… Чтобы скорее заросли травой окопы и траншеи, чтобы даже дети не знали, где были рвы, батареи, доты… Чтобы поскорее дожди разрушили деревянные пушки, а ветер снес мою площадку с этого дуба… и чтобы не осталось на коре следов гвоздей, которые мы вгоняли в него… Чтобы опять все поля были засеяны и зеленели, как вон те, что перед нами, чтобы были залиты асфальтом, забиты камнем воронки на дорогах и посажены деревья на месте тех, которые мы рубили, когда строили свои блиндажи. Чтобы после смертельных схваток с врагом в часы атак объятья наших любимых и дорогих были еще жарче и нежнее, чем когда-нибудь…
– Это придет, – сказала она.
– И чтобы человек ни в чем не нуждался. Он заслужил того, чтобы ни в чем не нуждаться, чтобы жить без нужды, совсем без нужды, если, конечно, он заработал себе право на это…
– Все это будет.
– И чтобы жизнь была красивой и широкой, чтобы можно было всюду ездить, узнавать людей и их обычаи, чтобы было много веселья…
– И это будет.
– Тогда не зря мы дрались.
– А разве вы сомневаетесь в том, что все будет?
– Нет, никогда. Если бы я сомневался, разве я был бы здесь?
– Знаете, ведь я буду астрономом, – заявила вдруг она. – Я кончаю университет.
– Вот как, – сказал он и, как бы впервые видя ее, внимательно и серьезно поглядел в глаза. – Астрономом?
– Почему вы так удивились?
– Нет, я не удивился… Мне очень нравится, что вы будете астрономом. Я сам когда-то мечтал об этом… Да вот так сложилось, что жизнь пошла по другой дороге.
– А я еще девочкой начала мечтать об астрономии. Я прочитала как-то у Фламмариона, что вся наша вселенная, все планеты и спутники вместе с самим солнцем и все мы несемся к созвездию Геркулеса. А до него так далеко, что ум человека совершенно не может постичь бездны пространства. Этот бег беспрерывен, скорость его бешеная, сила, которая влечет вселенную к едва видимой звезде, невероятна… Знаете, это так подействовало на меня, что с тех пор я читала одну книгу по астрономии за другой, а когда кончила школу, пошла в университет, и никто не мог меня отговорить.
– Зачем же отговаривать? – удивился он.
– Были такие, – она смешно наморщила чистый лоб. – Впрочем, это в сторону. Я ведь не биографию вам свою хотела рассказать… Я ведь это вот к чему: мне кажется, что и наша жизнь мчится к своему Геркулесу… Что с того дня, как вы окончили ваше дело, бег нашей жизни к Геркулесу стал еще более стремительным… Мы не доживем до той поры, когда вселенная достигнет своей цели… Но мы доживем с вами, когда наша жизнь будет блинка к цели своей, не правда ли?
Офицер сел и с нескрываемым любопытством воззрился на свою спутницу.
– Вот вы какая! – только и мог сказать он, но в этих немногих словах было так много восхищения, что она снова порозовела и отвела от него глаза.
– Можно поцеловать вашу руку? – спросил он, уже успев завладеть ею.
Она отняла руку, поправила прическу – узел на затылке распался, и каштановые волосы закрыли всю спину. Она поспешно собрала их.
– Вы торопитесь? – с печалью спросил он.
– Вы же сами сказали, что у вас свободное время только до семи. А вы еще должны показать мне дуб и ваш блиндаж.
– Не буду я вам показывать ни дуба, ни блиндажа. Это все позади. Зачем оглядываться назад, если знаешь, что дорога тебе только вперед? Мы просто погуляем до поезда.
– Хорошо, – согласилась она. – Мы приедем еще сюда, мне тут понравилось.
– Мы не скоро приедем сюда.
– Почему?
– Мы приедем сюда стариками, чтобы вспомнить, где началась наша жизнь.
Я не слышал, что она сказала ему в ответ.
Они ушли. Я встал и подошел к дубу. Еще сохранилась лестница, ведущая на площадку наблюдателя, – железные колья, вогнанные в ствол дерева, – но она уже обросла древесиной. И площадка была почти целой. Осенние бури лишь выломали несколько досок из поручней.
Отсюда этот офицер командовал орудиями в те дни, что ушли в вечность, вечной славой покрыв каждый миг своего течения. С площадки я видел, как шли к дороге офицер и его спутница. Мне вдруг захотелось догнать его и рассказать то, что я вспомнил: в сентябре сорок первого года я слышал от кого-то из зенитчиков, что после бомбежки на обратном пути был сбит самолет, на борту которого был нарисован ястреб. Может быть, этот ястреб и разорил гнездо человека, которого я встретил на холме. Я уже сошел с дуба, чтобы догнать их, рассказать это и расспросить… и раздумал. Зачем рассказывать? Зачем ворошить прошлое, если он уже весь в будущем, зачем ему оглядываться назад, если у него путь только вперед, путь вместе с той, которую он нашел здесь…
Серый денек угасал. Легкий пар обозначил берег речушки, замолкли шорохи и шелест в траве, тишина и мир царили вокруг, повеяло прохладой и пала роса, предвещая жару.
Михаил Михайлович Пришвин
Кладовая солнца
I.
В одном селе возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб в Великой Отечественной войне.
Мы жили в том селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им чем только могли. Они были очень милые. Настя была, как золотая курочка на высоких ногах. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх попугайчиком.
Митроша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный. «Мужичок в мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.
«Мужичок в мешочке», как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх попугайчиком.
После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безымянные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Храп.
Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех этих живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.
– Буржуйчики! – смеясь, кричали им взрослые, отправляясь на колхозные поля.
И какие это были умные детишки. Хотя и в шутку сказанное, слово «буржуйчики» их все-таки задевало. Они всегда присоединялись к общественным работам. Их носики можно было видеть и на колхозных полях, лугах, на скотном дворе, на собраниях: носики, такие задорные.
В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.
Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостинкой в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи.
Митроша выучился у отца делать деревянную посуду, бочонки, шайки. При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят:
– Сделай, Митроша!
– Уделаю, – отвечает он.
Так у нас все говорят.
Сделает, и потом ему тоже оплатят добром. Но, кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверно, что-то смекает.
Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался, и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, что и теперь Митроша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка стоит и улыбается… Тогда «мужичок в мешочке» начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:
– Вот еще!
– Да чего ты хорохоришься? – возражает сестра.
– Вот еще! – сердится брат. – Ты, Настя, сама хорохоришься.
– Нет, это ты!
– Вот еще!
Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку, и как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.
– Давай-ка вместе полоть, – скажет сестра.
И брат начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку сажать.
Да, очень трудно было всем во время Великой Отечественной войны, так трудно, что, наверно, и на всем свете так никогда не бывало. Вот и детям пришлось хлебнуть много всяких забот, неудач, огорчений. Но их дружба перемогала все, и они жили хорошо. И думаем, наверное, это горе о родителях так тесно соединило сирот.
II.
Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, сладкая, как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом.
Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее: там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митроша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митроша взял отцовское двухствольное ружье «Тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, отправляясь в лес, не забудет этого компаса.
III.
Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимой зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода.
Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это Блудово болото, дном древнего моря. И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы, песчаные, покрытые высоким бором, называются боринами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая Грива. Отсюда с высокой пролысинки в серой дымке первого рассвета чуть виднелась борина Звонкая.
Скоро возле самой тропы стали показываться кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но деревенские сироты знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли:
– Какая сладкая!
Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые мелкие, и частые, и ароматные цветочки волчьего лыка.
– Они хорошо пахнут, попробуй, сорви цветочек волчьего лыка, – сказал Митроша.
– А почему это лыко называется волчьим? – спросила Настя.
– Отец говорил, – ответил брат, – волки из него себе корзинки плетут. – И засмеялся.
– А разве тут есть еще волки?
– Ну, как же! Отец говорил, тут есть страшный волк. Серый помещик.
– Помню, тот самый, что порезал перед войной наше стадо.
– Отец говорил, он живет теперь на Сухой речке в завалах.
– Нас с тобой он не тронет?
– Пусть попробует!
Пока дети так говорили, и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота сырого, глухого все звуки собирались сюда. Борина с лесом сосновым и звонким на суходоле отзывалась всему.
Но бедные птички и зверушки, – как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя с Митрошей, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.
Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.
– Тэк-тэк! – чуть слышно постукивает огромная птица глухарь в темном лесу.
– Шварк-шварк! – дикий селезень в воздухе пролетел над речкой.
– Кряк-кряк! – дикая утка кряква на озерке.
– Гу-гу-гу, – красная птичка снегирь на березе.
Бекас, небольшая серая птичка с носом длинным, как сплющенная шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы «жив, жив» кричит болотный кулик кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыкает; белая куропатка, как будто ведьма, хохочет.
Мы, охотники, давно, с детства своего, слышим эти звуки, и знаем их, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему, когда придем в лес на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово:
– Здравствуйте!
И закрякают в ответ, и зачуфыкают, и затэтэкают, и зашваркают, и закрякают, стараясь всеми голосами этими ответить нам:
– Здравствуйте, здравствуйте!
Но вот среди всех этих звуков вырвался один, ни на что не похожий.
– Ты слышишь? – спросил Митроша.
– Как же не слышать, – ответила Настя, – слышу и как-то страшно.
– Ничего нет страшного, мне отец говорил и показывал: это так весной заяц кричит.
– А зачем так?
– Отец говорил, он кричит: «Здравствуй, зайчиха».
– А это что ухает?
– Отец говорил: это ухает выпь, бык водяной.
– И чего он ухает?
– Отец говорил: у него есть тоже своя подруга, и он ей по-своему тоже так говорит, как и все: «Здравствуй, выпиха».
И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл собою торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать:
– Победа! Победа!
– Что это? – спросила обрадованная Настя.
– Отец говорил: это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет.








