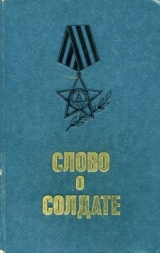
Текст книги "Слово о солдате (сборник)"
Автор книги: Михаил Шолохов
Соавторы: Алексей Толстой,Константин Паустовский,Вениамин Каверин,Михаил Пришвин,Валентин Катаев,Лев Кассиль,Андрей Платонов,Александр Твардовский,Александр Фадеев,Вячеслав Шишков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Евгений Захарович Воробьев
Пехотная гордость
В злую распутицу после марша по грязи шинель пехотинца весит без малого пуд. Полы ее, как серая жесть: теперь уж ее не чистить, а разве что скоблить.
И вот Матвей Иванович Катаев сидел у костра и кинжалом брил шинельное сукно. Грязь, словно мыльная пена, густо скапливалась на лезвии. Катаев то и дело обтирал кинжал о ветку.
Плюхин принялся разжигать костер, но костер брался нехотя, и как ни жались к огню бойцы, грязь на шинелях не просыхала.
– У танкистов иначе, – невесело сказал Плюхин и прищурился, он всегда щурился, когда сердился, завидовал или когда слушал кого-нибудь и был с ним не согласен. – Танкист плеснет на щепки бензину самую малость – и будьте любезны! У них костры знаменитые… Вообще не чета нашей пехтуре. Мы все пешедралом, а танкист день-деньской повоюет и сапог не запачкает.
– Что и говорить! – поддержал Катаев; он вздохнул, провел пальцем по лезвию кинжала и вложил его в ножны. – У них от ходьбы ноги не ломит.
Плюхин знал, что Матвей Иванович мечтал попасть в танкисты и даже просил об этом в военкомате у очкастого писаря. Но, как говорил сам Катаев, «не вышло по причине пожилого возраста». А при чем тут, спрашивается, пожилой возраст, когда ни седины, ни сутулости, плечи – дай бог каждому? Человек суровый, неразговорчивый, Катаев к своей пехотной жизни относился, как мастер к черной работе не по специальности, которую тем не менее нужно делать хорошо.
Сперва друзья съели всухомятку пшенный суп. Затем Плюхин полез в мешок и достал еще какой-то концентрат. Но бойцы не успели и обсушиться, как рота поднялась по боевой тревоге и развернулась цепью правее поселка и березовой рощи «Круглая». Бойцы знали, что за рощей находится деревня, что в ней немцы, а рота наступает на деревню с фланга.
Плюхин не любил оставаться в бою один. Еще стоя в строю, он решил держаться поближе к Матвею Ивановичу, так как воевал сегодня без второго номера. Но когда Плюхин переполз через дорогу, залез в кювет и осмотрелся, Катаева поблизости не было. «И когда успели разминуться? – огорчился Плюхин. – Еще у мостика Матвей Иванович был слева. Может, он ушел с теми добровольцами заглушать пулемет?..»
Плюхин полз вперед. Он уже давно успел вспотеть, запыхаться и слышал учащенное биение сердца, но, как всегда, не отставал от других. Вот он выполз, наконец, на бугор и заметил, что очутился на деревенских огородах.
Немцы сбегались из огородов на деревенскую улицу. Фигуры солдат были хорошо видны в просвет между домами. Плюхин ловко прошмыгнул в баню, вышиб оконце и открыл огонь. Он расстрелял один диск, затем второй, осмотрелся и не поверил глазам: до чего эта ветхая банька была похожа на его собственную – дома, в колхозе.
Еще больше озлившись, Плюхин вновь занял свою позицию у окна. Враги заметили ручной пулемет и начали окружать баню, заходя сзади, где плетень подходил к строению. Плюхин увидел троих за плетнем. Ворваться в баню они не решались. Подбежал еще один с нашивками на рукаве, достал гранату, вставил в нее запал, но Плюхин опередил его. Он появился на пороге бани и шарахнул гранату точно за плетень, на грядки. Трое фашистов остались лежать за плетнем, а один, с автоматом на шее, прижимая окровавленную руку к бедру, бросился вперед к бане.
Плюхин встретил его страшным ударом кулака «под вздох» и пристрелил…
Через минуту Плюхин лежал за плетнем и вел огонь из пулемета по задам деревни, по огородам. На деревенской улице шумел наш танк, и гитлеровцы бежали от него врассыпную; они перепрыгивали через плетни, скатывались кубарем с крутого склона в овраг.
Плюхин вскочил и побежал вперед. Он бежал с разряженным пулеметом на плече и орал что-то во все горло. Радостное нетерпение делало невесомым пулемет и легким дыхание. Это было великое ощущение победы, когда начинаешь дрожать от трепетного восторга, слышишь каждый толчок сердца, переполненного счастьем, чувствуешь, что слезы вот-вот выступят на глазах, и готов броситься на землю и целовать ее, целовать. А потом вскочить и бежать без устали вдогонку за убегающим врагом по этой вот рыхлой после дождя родной земле, которую ты сам только что отвоевал и на которой враг оставил отпечатки своих кованых сапог.
Нет большего счастья, чем собственноручно поражать врага, видеть, как враг падает на землю, чтобы никогда не встать, как бессильно разжимаются ненавистные пальцы, держащие оружие…
И Плюхин понял, что ради одного этого праздничного и гордого мгновения стоило пережить все невзгоды: выгребать котелком воду из окопа, тащить на своем горбу пехотное имущество и прошагать на запад сотни километров по дорогам и без дорог.
Командир батальона тотчас же после боя поблагодарил Плюхина от лица службы, сказал, что представляет его к награде, и Плюхин почему-то не особенно этому удивился.
Но все-таки ему не терпелось поделиться с кем-нибудь новостью, и он отправился искать Катаева. Он обошел немецкую траншею, выступ за выступом, исшагал вдоль и поперек деревню, заглянул даже зачем-то в колодец и в ту самую баньку, где воевал, но Катаев как в бездну канул.
Уже вечером Плюхин хотел навести справку у взводного младшего лейтенанта Старцева, но тот, оказывается, был ранен и отправлен в госпиталь, а новый командир взвода Косынкин только неопределенно развел руками.
После боя товарищи стали относиться к Плюхину предупредительно, и кое-кто уже величал его Степаном Степановичем. Но все это не радовало. Он чувствовал себя одиноким и только теперь понял, как сильно успел, в сущности, за эти месяцы привязаться к молчаливому Матвею Ивановичу…
Катаев тоже не заметил, когда он разминулся с Плюхиным. После того как он вместе со Скуратовым заглушил дзот, они вели огонь из окопов, отбитых у немцев, а потом достигли мостика, скрытого крутым скатом бугра.
Через несколько минут сюда примчался наш танк, разгоряченный боем. Заправочная машина ждала танк за холмом. Танкисты в скорбном молчании подняли из люка и перенесли в машину безжизненное тело молодого танкиста: голова мертво откинулась назад. Затем танк залили горючим, снабдили припасами.
Командир, весь в копоти и саже, снял шлем, смахнул со лба черные капли пота и, подойдя к младшему лейтенанту Старцеву, стоявшему рядом, козырнув, сказал:
– Хочу попросить у пехоты помощи. В порядке взаимодействия. Иду вам шлях расчищать, а заряжающего нема. – И добавил тихо: – Потеряли мы Рублева.
– У нас специалистов нет, – сказал взводный Старцев.
– И не треба! Нам бы доброго человека. Чтобы под огнем не тушевался.
– Ну, что же, – согласился Старцев, – дам вам от пехоты представителя. В порядке взаимодействия. – Он обвел взглядом своих бойцов.
– Пошлите меня! – попросил Катаев.
– Тебя? – взводный подумал. – Ну, что ж, иди. До окончания боя будешь под началом вот этого командира. Отделенному скажу сам. Потом явишься.
Танкист недоверчиво осмотрел Катаева с ног до головы, и по всему было видно, что он не очень-то доволен выбором пехотного лейтенанта. Молодой Скуратов, стоявший рядом, казался ему, на взгляд, более подходящим.
Катаев стал неумело карабкаться на машину.
– Винтовку куда же? – спросил танкист, мрачно наблюдая за всей этой сценой.
– Нам без винтовки никак нельзя, – виновато объяснил Катаев.
– А без штыка? – насмешливо спросил танкист.
Катаев снял штык; ему было стыдно своей недогадливости. Он залез в люк, позднее там же исчезла и винтовка.
Машина Ковша – так звали чумазого командира танка – оказалась в самом пекле боя. Заряжающий стоял внизу, в тряской черной темноте, освещенной лишь лампочками приборов.
Ковш показывал большой палец, и Катаев доставал осколочный снаряд; Ковш показывал указательный палец – орудие било бронебойным.
Уже нечем было дышать, а когда в танке вместо воздуха только пары бензина да пороховые газы, человек сразу сдает, как намокшая бумага. Раза три-четыре Матвей Иванович пребольно ударился головой о стенки и острые выступы – танк проделывал какие-то цирковые номера. Машина на что-то карабкалась, оступалась, спотыкалась, куда-то проваливалась. «Вот черт! – раздраженно подумал Катаев. – А еще двойное название у него – механик-водитель. Совсем дороги не разбирает».
В ту же минуту командир орудия издал радостный возглас. Он перегнулся вниз и закричал на ухо Катаеву, силясь перекричать грохот:
– Как утюгом! Отстрелялись, голубчики! Скончалась вся их батарея.
Как уже потом узнал Матвей Иванович, танк проутюжил один за другим три немецких батальонных миномета, установленных на западной окраине деревни. Но в ту минуту заряжающий ничего не понял. Он трясся в темноте, подавал снаряд за снарядом, и ему казалось, что каждый новый снаряд тяжелее предыдущего. А Ковш все показывал то большой, то указательный палец, и нужно было снова и снова доставать снаряды, а потом передавать диски в нетерпеливые, дрожащие руки пулеметчика.
– Гарно, дуже гарно! – кричал Ковш и, довольный, хлопал заряжающего по плечу…
Но потом, очевидно, в бою наступила какая-то пауза. Танк повернул обратно, долго торчал посреди улицы и не вел огня. Ковш открыл люк, и все вздохнули полной грудью. Однако внезапная заминка беспокоила танкистов.
– Кабы ваша пехота воевала пошвыдче, – начал укоризненно Ковш, глядя вниз на Катаева; голос его был хорошо слышен: танк стоял, а мотор работал на малых оборотах. – Без пехоты ничего не выйдет. Еще минут десяток – немцы очухаются… – Но вдруг лицо Ковша осветилось, и он закричал с радостной нежностью: – Бегут! Бегут, бисовы диты! Торопятся!
Катаев тоже высунул голову из люка и увидел вдали, на краю улицы, пехотинцев. Те быстро приближались.
– Наши! – закричал Катаев и замахал рукой.
Он издали узнал бронебойщика великана Шульгу, командира взвода Косынкина, Рублика и других. Катаев смотрел на своих товарищей с гордостью и счастливым волнением, каких никогда не знал раньше. Ему не терпелось спрыгнуть с танка и побежать вместе с товарищами, но Ковш приказал оставаться на месте. Механик уже включил полный газ.
– Да здравствует вторая рота! – закричал тогда Катаев, стремясь перекричать шум мотора. – За нами, товарищи пехота, вперед! Не жалейте боевого питания!
Услышав призыв танкиста, обращенный к их второй роте, пехотинцы закричали «ура» и устремились за танком.
Катаев полагал, что товарищи узнали его, и ошибся: никому и в голову не пришло, что этот танкист с черным лицом, кричавший из люка, – Катаев. Но призыв, обращенный ко второй роте, дошел до сердца людей.
Люк захлопнулся, танк пошел вперед. И опять заряжающий работал в тряской черной темноте, опять нечем было дышать…
Вечером после успешного боя генерал наградил всех членов экипажа, и Матвей Иванович получил медаль «За отвагу».
Прошло трое суток, а Катаева все не было. И вот, когда уже в роте решили, что он пропал без вести, Катаев явился целехонький, с винтовкой за плечом и доложил по всем правилам командиру роты Деревянкину.
– Какими судьбами? – спросил Деревянкин. От удивления он не сразу нашелся, что спросить. – Где пропадал? Где завоевал медаль?
– Воевал, согласно приказу, в танке. На должности заряжающего. Взводный меня для взаимодействия послал. Разве он не доложил? – удивился в свою очередь Катаев.
– Где ему, – вздохнул Деревянкин. – Его, беднягу, с поля боя санитары унесли.
– А что касается этого, – Катаев показал подбородком на медаль, – на то есть приказ генерала танковых войск.
– Ну, что ж, поздравляю, – сказал Деревянкин, растроганный. – А то как сквозь землю провалился.
Уже собираясь выходить из землянки, Матвей Иванович спросил:
– А Плюхин наш не пострадал за деревню? Я у ребят еще не был, к вам торопился.
– Куда такой молодец денется? Воюет. Не всем же с командиром роты в прятки играть, как тебе…
– Да завезли меня в танке за тридевять земель, два дня добирался.
…Катаев уже успел устроиться в землянке и отдохнуть с дороги, а Плюхина все не было: он стоял на посту. Но сменившись и узнав о возвращении Катаева, он чуть не бегом направился к землянке.
– Ну, вот и я, – сказал Плюхин, переборов одышку, и радостно оглядел воскресшего друга.
Катаев сидел в тесном кружке товарищей. Здесь был Рублик, Скуратов и огромный Шульга, человек с непомерным аппетитом, получивший в роте прозвище «Три котелка».
– Ты где это столько сажи нашел? – спросил Плюхин. – Чистый трубочист! Вывалялся, словно…
Только сейчас Плюхин заметил медаль на закопченной гимнастерке.
– А я, чучело, и не поздравил. Где отличился-то?
– В танковых войсках воевал. Согласно приказу взводного.
Уже была выпита водочка, выданная Катаеву за все три дня, а настоящий разговор о бое как-то не завязывался.
Матвей Иванович молчал, потому что боялся показаться нескромным. «Зачем пускаться в подробности? – рассудил он. – Еще подумают – медалью хвастаюсь. Может, Плюхин лучше моего воевал».
Плюхин тоже молчал. «Зачем бахвалиться? – думал он. – Ну, отметил меня комбат. Начну расписывать – еще подумает: из зависти, чтобы медаль умалить».
Катаев повел речь о каком-то рве и назвал его по-мудреному, как не называл сроду, – эскарпом. Он старался выглядеть заправским танкистом и про то, как не умел лезть в танк, предусмотрительно промолчал.
Плюхин скупо упомянул о броске гранаты.
– Как жахнуло, одни каблуки от немцев остались, да воротники от рубах!
– А ведь я в рукопашную еще не сходился, – сказал Катаев в раздумье… – Страшно, наверное?
– Да так, ничего, – сказал Плюхин; он помолчал и потом добавил вполголоса: – Только потом, уже после всего, долго цигарку не мог скрутить…
В землянке стало совсем тихо, потому что все здесь знали, какая это штука рукопашный бой, и всем приходилось когда-то по этой причине рассыпать табак дрожащими пальцами.
У Матвея Ивановича было такое ощущение, словно он вернулся домой.
– Конечно, нужна будет танкистам моя подмога – не откажусь, – сказал Матвей Иванович, не то важничая, не то подшучивая над собой. – Только и здесь, в пехоте, делов – дай бог, к новому году управиться!
– Но все-таки, – сказал Плюхин со вздохом, – воюем мы с тобой, Матвей Иванович, вместе с первого начатия. А вот повоевал ты один день в новых войсках – совсем другой разговор!..
В землянку вбежал ротный писарь и закричал так оглушительно, будто звал кого-то в лесу:
– Плюхин Степан – к комбату! На носках! Чтобы искры из-под ног летели… – Потом, пропуская Плюхина вперед, пояснил: – Начальства понаехало – страсть! Одних полковников трое.
Матвей Иванович еще не успел заснуть, когда Плюхин откинул полог плащ-палатки и вошел в землянку. Трудно сказать, что сияло больше: его глаза или орден Красной Звезды, привинченный к гимнастерке и поблескивавший при свете мигалки пятью рубиновыми лучами.
Анна Александровна Караваева
Родная земля
Знатный ростовский сталевар Александр Нечпорук только хотел было завернуть за угол и выйти на шоссе к заводу, как вдруг, пораженный, остановился: улица показалась ему совершенно неузнаваемой. Знакомый под облупившейся охрой заборчик домовладения знаменитого лесогорского лекальщика Степана Даниловича Невьянцева исчез под пышными облаками… яблоневого цвета!.. Белые, напоенные нежным, как первая дрожь зари, розовым пламенем, плыли, летели над землей и сладко дышали навстречу всему живому яблоневые цветы. От яблонь на сталевара пахнуло буйной волей детства, босоногой беготней, восторгами первых вешних дней, когда на родном его Дону каждая пядь земли благоухает и радует человека. Еще вчера эта улица жила своей небогатой весной, а сейчас Нечпорук смотрел и не мог насмотреться. И подумать только, где: на Урале, среди угрюмых лесов, на берегу дрянной, несудоходной речонки.
Рядом с Нечпоруком остановился приземистый подросток в черной шинельке. Нечпорук взглянул сверху вниз на подростка, забавно широкоплечего и большеголового, – в свое время и он, Александр Нечпорук, был такой же неловкий. И он, так же втихомолку сердясь и стесняясь своего маленького роста, вытягивал вверх короткую шею, как этот сероглазый паренек в черной фуражке с синим кантом.
– Эге, да тут знакомый человек! – усмехнулся Нечпорук. – Твоя фамилия ведь Игорь Чувилев?
Подросток с достоинством кивнул.
– Да, я Чувилев.
– То-то, бачу, знакомая личность. Ты ведь в бригаде Артема Сбоева?
– Да, я в его бригаде.
– Ловко! – почему-то восхитился Нечпорук.
– А чи ты тоже с наших мест, Дона, и в садах толк знаешь, хлопче?
– Нет, на Дону я не бывал, но город наш Кленовск от Дона недалеко, и садов у нас многое множество. А яблони здесь хорошие… цветут-то как!..
– Вот и я удивился! – восторженно воскликнул Нечпорук, кивнув на невьянцевский сад. – Никогда не думал такое здесь встретить… Этакий садочек милый!
– Ну, Степан Данилыч здесь был первый садовод…
До войны этот завод выполнял разного рода заказы, не гнушаясь и очень скромными, – недаром он считался средненьким заводом. О строительстве танков никто и помыслить бы не мог, само собой разумеется. В начале войны здесь на заводе стали вырабатываться части танков – башни и корпуса, – которые переправлялись за двести километров на место сборки танков. Осенью пришел приказ из Кремля: в кратчайший срок создать танковый конвейер, откуда готовые танки будут по ветке отправляться на фронт. Только слепой и глухой не мог бы заметить, как все на заводе подтягивались, «сжимали» время, открывали новые методы работы, соревновались все горячее, чтобы скорее проложить путь танковому конвейеру. Люди из разных мест, приверженцы разных производственных обычаев и сноровки, люди, доселе никогда не знавшие друг друга, становились рядом к печам, к молотам, к станкам. И надо было как можно скорее «прижиться» друг к другу, чтобы устранить с дороги неуклонно наступавшего труда все крупные и мелкие помехи.
Когда на этом заводе началось сверхскоростное, как шутил сменщик Нечпорука – Ланских, строительство нового мартеновского цеха, Нечпорук, словно в свое время у себя, на юге, предложил свою помощь и консультацию по кладке мартенов по последнему слову техники.
– Каждым камешком они мне наши ростовские напоминают, – признавался он Ланских.
Действительно, Нечпоруку казалось, что временная гибель его мартенов возмещена здесь, на Урале. Когда он начал варить сталь в этих новых мартенах, он порой даже забывал, что они только что возведены, – так быстро он сроднился с ними!.. А когда каждое утро Нечпорук стал слышать по радио сводки, что немцев гонят все дальше и дальше, он с еще большим торжеством повторял приглянувшееся ему у Ланских словцо:
– Ну-ка шибанем покрепче! Ну-ка нажмем!..
Уже безвозвратно в прошлое ушел старый завод и «божья печурка» в старинном, демидовских времен, сводчатом цехе. Уже четвертый месяц Нечпорук и Ланских варили сталь в новом цехе под стеклянным куполом высокого потолка. И теперь, если Нечпорук выходил вперед, он радовался, как и прежде на родном заводе, а если обгонял его Ланских, он рассуждал так: «Ты вперед шаг сделал, мне тоже стоять на месте нельзя. Время седлать надо, чтобы для фронта все больше вооружения давать… В этом главная суть!»
Часто бывали дни, когда Нечпорук после богатой плавки испытывал гордость и за Ланских и за себя: оба не подвели, оба не роняют честь в больших делах!..
Подобным образом мелькали в памяти Нечпорука события и: чувства, пережитые им в последнее время.
Шумно дыша после жаркой плавки и расправляя широкие плечи, Нечпорук шагал по длинному коридору к раздевалкам и думал усмешливо: это все яблони на меня нагнали… Вот Дон свой вспомнил… размечтался…
Около шкафчика с табличкой «Ланских» Нечпорук увидел своего сменщика. Вспомнив, что лесогорский садовод Степан Данилович Невьянцев приходится Ланских дядей, он сказал:
– Ну, и хороши яблоньки у Невьянцева… Так вот стоят у меня перед очами!.. И дивлюсь я, как вырастил твой старик такой чудный садочек?
– Да ведь дядя старый любитель этого дела, – ответил Ланских. – Завтра воскресенье, так ты заходи к нему: старик всегда рад поговорить о садах и рассказывать умеет, послушаешь… заходи…
– Спасибо, – расцвел Нечпорук, – приду, приду!
Ланских сунул ключ от шкафчика в нагрудный карман и спросил другим тоном:
– Как шихта сегодня?
– Шихта что надо.
– Дело. – И Ланских, нахлобучив вислоухую сталеварскую шляпу на светло-русую голову, пошел в цех.
По дороге домой Нечпорук уже не спеша обдумывал, почему еще так расчувствовался он утром. После освобождения Красной Армией Ростова к тоске о родных местах прибавилось еще стремление: эх, скорей бы обратно к себе, в Ростов!..
Нечпорук решил обратиться к директору завода Михаилу Васильевичу Пермякову, не слыхал ли он что-нибудь насчет возвращения ростовчан на свои места. Директор, посмеиваясь в сивые усы, спросил сталевара, не намерен ли он «пока что» обосноваться здесь, тем более что «база для этого имеется»: почему бы ему не заинтересоваться новыми стандартными домиками на бывших пустошках у речки? Ведь завод уже числит его в своих коренных кадрах.
Нечпорук не ответил ни «да», ни «нет», даже, кажется, забыл поблагодарить директора за его заботу: предложение застало его врасплох. Зато Марийка восторженно встретила эту новость. Часа не прошло, как привела она мужа на место уже заканчивающейся стройки. Блестя глазами, Марийка стояла перед рубленым сосновым домиком. Печь в кухне была хоть и «модная» – шведка, но Марийка, тут же прикинув, решила, что и эту кирпичную печь можно разрисовать украинскими мальвами и подсолнухами.
«Вот она уж ростовские родные садочки забыла и Дон наш милый! – недовольно подумал Нечпорук. – До чего эти женщины легко готовы осесть на новом месте…»
На другой день, в воскресенье, Нечпорук отправился к Невьянцеву. Едва широкоплечий, по-стариковски грузный сталевар распахнул желтую решетчатую калитку, как голову его сразу овеяло сухим ароматным дождем.
– Фу, ты… – смутился Нечпорук, – ветку задел… угораздило!
– Ничего, ничего, ей уже осыпаться пора, ветке-то… – приветливо пробасил Невьянцев.
– Ну, и сад же у вас, Степан Данилыч!.. Никак не думал я такую красоту на Урале встретить, прямо от всей души вам скажу!.. И как он народился на здешней земле?!
Степан Данилыч только улыбнулся в ответ и вынул из кармана красивый рифленый портсигар из нержавеющей стали (собственной работы), закурил, пыхнул дымком и, наконец, пробасил:
– Сад плодовый… Это, брат, на человеческую жизнь похоже: ему тоже годы надобны, чтобы в рост войти, пользу и радость приносить. К тому же этот сад из-за тысячи верст на Урал приехал, – пояснил дополнительно Ланских.
– Да, так оно и было… – мечтательно улыбнулся Невьянцев.
Перед мировой войной Степан Данилыч перевелся из «Лесогорской глуши» на Мариупольский завод, прожил на юге восемь лет, но в конце концов затосковал об уральских соснах и березках, морозах и метелях. На юге Невьянцевы привыкли к фруктам и решили на риск взять с собой корзину с десятком яблоневых черенков вместе с их южной землей. Первое время Невьянцев боялся, сроднятся ли комья южной земли с уральским суглинком. Но южная и северная земля сроднилась, и яблони принялись на новом месте. За шестнадцать лет от яблонь-родоначальниц произошли двадцать восемь деревьев, раскидистых, пышных, богатых плодами. Незадолго до войны на задах одноэтажного домика Невьянцевых, на бугристой лужайке, где прежде шуршали лопухи да крапива, вырос маленький питомничек. Там воспитывались потомки всех выведенных за эти годы сортов.
– Все яблоки у меня зимние, неторопливые, – рассказывал Степан Данилыч. – Я за них, голубчиков моих, с погодкой нашей боролся, землю для них готовил и приохотил-таки к нашему краю… И мне помогали в этом деле, понимали мою мечту, а в ней наше время себя показывает… И это учти, парень!.. Не будь советской власти, не запало бы мне в голову сады на Урале разводить, не заезжал бы я к Ивану Владимировичу Мичурину, потому что тридцать лет назад я ничегошеньки не знал о том, как можно над природой властвовать… Тридцать-то лет назад – это ведь и для нашего поколения лихая старина-старинушка!.. В те поры меня, рабочего человека, все – от управителя до последнего заводского вахтера – только и учили, только и долбили: «Всяк сверчок знай свой шесток!» Существуй, мол, а мечтать не моги, не для вашего это брата! А теперь я о чем возмечтал, парень? Возмечтал я яблочком моим всю нашу Лесогорскую округу обсеменить. Вот, давай-ка, пройдемся…
Плавным жестом поднимая руку вровень с пышущими молочным цветеньем ветками, Невьянцев рассказывал историю каждого дерева – от появления побегов до первоцвета и плодов.
– Другие кое-кто ведь это гиблым считали. А теперь пройдись по слободке, на Кузнечную улицу загляни, увидишь и там яблоньки молоденькие… Хочешь, подарю и тебе на новоселье парочку-другую саженцев? Хочешь?
– Что ж, спасибо скажу… – немного растерялся от неожиданности Нечпорук.
– Вот, молодец!.. Я тебе все покажу, проинструктирую, как землю приготовить… Потерпи годика четыре… и увидишь, как деревца наши, голубчики, зацветут возле твоего домика! – воодушевился Невьянцев.
«Домик-то у меня здесь временный», – чуть не вырвалось у Нечпорука, но он прикусил язык: лицо Невьянцева выражало такое глубокое, торжественное удовлетворенно, что только совершенно бесчувственный человек мог нарушить его.
Под вечер Нечпорук со Степаном Данилычем отправились к домику в стахановском городке. Вскапывая землю, по указаниям Невьянцева, Нечпорук чувствовал угрызения совести: собираясь зачинать сад на этой скудной лесогорской земле, он словно изменял своему родному донскому чернозему.
– Ну, как вы там? Начали? – крикнула Марийка. – А я уж, побачите, що сробила! – и она горделивым жестом указала в глубь ярко выбеленной кухни. Широкая печь с разверстым, темно-бурым еще не обжитым чревом пестрела, как клумба.
– Вон какая искусница жена-то у тебя! – сказал Степан Данилыч, и его тяжеловесное складчатое лицо вдруг ласково обмякло. – Смотри, перегнала она ведь нас с тобой… начнем-ка, благословись… Бери вон антоновку уральскую и станови ее в ямку смелее… да только легче, парень, легче, пусть корни вольготно разместятся… Та-ак… Теперь земелькой забрасывай…
Наконец Степан Данилыч разогнулся, присел на крылечко и посмотрел на реденький строй саженцев, обращенных к окнам домика, потом замысловато улыбчиво пожевал мягкими старческими тубами.
– А все-таки, парень, когда о смерти подумаешь, так и охота ей, подлой, надерзить: «Не сожрать меня тебе, курносая, вконец-то не изничтожить меня – труд мой на земле останется, людям на пользу и утешение».
…Ночью Нечпорука сильно толкнуло в бок.
– Сашко, вставай!.. Да ну ж, Сашко!.. Открой очи, дурна дытына! – услышал он сквозь сон встревоженный голос жены.
– Что? Что тебе? – испугался Нечпорук.
– Да слухай же: ливень, льет же страшно! Гроза!..
– Ливень! – фыркнул Нечпорук.
– Ото, дурень! – вспылила Марийка и так крепко толкнула мужа, что Нечпоруку пришлось подняться с постели.
– Что ты спать не даешь, бисова баба?
– Да гроза, ветер же… вот как поломает наши яблони!.. Чуешь, как они скрыпят, бедные… ну? Иди, побачь, как они…
Нечпорук ворча оделся и вышел на крылечко.
…Гроза уже шла стороной. Вода еще журчала в трубе, но ливень отшумел, и только крупный редкий дождь, разбрасываемый ветром, шальными горстями хлестал Нечпоруку в лицо.
– От придумала докуку, бисова баба, – ворчал Нечпорук, нащупывал в темноте тонкие стволы саженцев.
И деревца и шесты около них стояли невредимо, лишь кое-где ослабли перевязи. Нечпорук поправил их, сердясь и на свою неловкость и на Марийку, поднявшую его среди ночи.
Ветер вдруг широкой волной дохнул на него, и в грудь Нечпорука ворвался пронзительный и в то же время нежный запах: ночь пахла листом, распустившимся листом.
Словно светящаяся палица, обливая небо голубоватым сиянием, серебристая полоса света прощупывала высоту, то вонзаясь в небо, то качаясь, то совсем припадая к земле, то поднимаясь вновь. Это прожекторы освещали пробное поле, куда, словно разъяренные стальные кони, вышли с конвейера ночной смены новые средние танки серии «Л-С» конструкции Юрия Костромина. Нечпоруку вдруг вспомнилось, что ведь эта серия родилась на этом заводе «в невиданно короткие в истории техники сроки», как писали в центральных газетах. Вот танки вынеслись в очередной свой пробег, грозные, быстроходные боевые машины, которые создает здесь, на Урале, и он, Александр Нечпорук.
Он подумал, что эта простая мысль еще никогда не волновала его так сильно, как сейчас, и понял, почему. Он всегда как бы отделял себя от всех лесогорских; как пришелец из лучших мест, как человек «временный»: здешняя земля, мол, не родная мне, а случайная. А оказалось, что родная эта земля раскинулась куда богаче и шире, чем он привык воображать ее. Вот она дышит ему навстречу своей влажной прелью и запахом листа, который здесь так же сладок, как и под Ростовом.
Вдруг раскатистый рык мотора прокатился совсем близко, и Нечпорук услышал, как по мосту через реку заскрежетали гусеницы танка. Голубоватая тропа на небе, которую Нечпорук опять принял было за луч прожектора, все ширилась, раздвигая темно-сизые тучи, и сталевар увидел первую дрожь рассвета.
– Ну, что ты там, хлопче? – крикнула Марийка и, не услышав ответа, вышла на крылечко. – Ведь спать же надо… – начала было она, но, увидев лицо мужа, умолкла.
– Постоим немножко… – тихо сказал он и кивнул на тонконогую шеренгу юных яблонь. – Видишь… целы?
– Вот и хорошо, – проронила Марийка и прижалась плечом к груди мужа. Так стояли они еще несколько минут, озирая светлеющие дали и огромное распахнутое в ожидании солнца небо.








