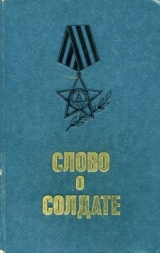
Текст книги "Слово о солдате (сборник)"
Автор книги: Михаил Шолохов
Соавторы: Алексей Толстой,Константин Паустовский,Вениамин Каверин,Михаил Пришвин,Валентин Катаев,Лев Кассиль,Андрей Платонов,Александр Твардовский,Александр Фадеев,Вячеслав Шишков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Федор Иванович Панферов
Рука отяжелела
Мой верблюд идет первым и всем кланяется. Как шаг, так плавный поклон. С ним вместе кланяюсь и я плодороднейшим полям, бурным потокам и вот этим величавым горам. Справа от нас тянется хребет Тянь-Шань. Вершины хребта, покрытые голубыми ледниками, величаво и гордо блестят на солнце. Нет, они не угрюмые, а какие-то мудро-задумчивые: они манят, зовут к себе, и поэтому на них смотришь неотрывно, как завороженный. Подножье гор покрыто темно-зелеными травами, выше цветут дикие яблони, еще выше тянутся сочные, серебристые ели и еще выше – буро-черные, оголенные пики.
– Зверь тут много, – поравнявшись со мной на своем верблюде, говорит мне сопровождающий Саке. – Зверь много. Орхар, козел, медведь, барс. О-о-о! А птица! Фазан, куропатка, дрофа, утка все виды, гусь, лебедь, все есть. Много! А вот смотри, вор идет. У-у!
– Вор? Какой может быть в горах вор?
Саке не успел мне ответить, как тот, кого он назвал вором, крупными машками, словно через что-то перепрыгивая, пошел к ущелью, и по машкам я определил, что это волк. А из ущелья выскочило десятка полтора диких коз. Они на какой-то миг остановились, вскидывая белыми пушистыми хвостами, напоминая собой балерин, и тут же стремительно ринулись в горы. Волк тоже остановился и, как бы с обидой посмотрев в нашу сторону, вяло поплелся прочь.
– А-а, не удалось волку схватить козел! – обрадованно закричал Саке и, повернувшись ко мне, сердито добавил: – Не люблю вор. Все живут честно: орхар, козел, фазан, а волк – вор, барс – вор. Как и человек, есть честный, есть вор. Что, неверно говорю? Вора надо убивать. Нет? Скажешь, лечить? Э-ге! Волка можно лечить? А есть и человек такой, как волк.
Я пристально посмотрел на Саке, все еще не понимая, к чему он такое говорит. Ему лет под семьдесят, но на верблюде он держится, как юноша.
– К чему это ты говоришь, Саке?
– Зачем честному человеку война? Ответь мне. Зачем? Гляди, наш край богатый. Видишь, сколько яблонь-дички. Все горы – яблони. А там еще много-много малины, урюку, груши. О-о-о! А посмотри сюда, в низину. Твой глаз достанет края наших полей? В этих полях все растет. Яблоко растет, виноград растет, пшеница растет, овес растет, коров растет. Все растет. Зачем мне война? Мне надо работать, много работать, и я буду богатым, сосед мой будет богатый, все будет богатый. Да. Работай только. А-а-а, нет, вор хочет все мое добро карапчать! (воровать). Работать не хочет, карапчать хочет, значит, его надо убивать, как волк. – И Саке вдруг о чем-то быстро-быстро заговорил на своем родном языке, отплевываясь, выкрикивая одно и то же слово: «Собака! Собака!»
Я засмеялся:
– Саке, я не понимаю, о чем ты.
Саке спохватился:
– Я ругался. Крепко ругался. На фашист ругался. Фашист – волк. Да, нет?
С гор спускались гурты овец. Жирные, с тяжелыми курдюками, они спускались, пощипывая молодую травку, обгоняя друг друга, переваливаясь, как барашки на море.
– Саке! Саке! – заговорил я. – Я хочу видеть чабана. Да, да, пастуха.
– Мужчину трудно. Женщину можно.
– Разве чабан обязательно женщина?
– Нет. Обязательно мужчина. Но мужчина ушел туда, на фронт. Муж ушел, жена встала на его место.
Я повернул верблюда и направился к гуртам овец. Впереди гурта шли две женщины в полушубках. Одна из них, прикрыв лицо рукой, сквозь трещину пальцев посмотрела на меня.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте, пожалуйста, спасибо, – обе враз ответили они и громко засмеялись.
Я, ничего не понимая, повернулся к Саке. Он тоже хохотал, выкрикивая:
– Они по-русски знают только три слова: здравствуй, пожалуйста, спасибо.
А женщины все смеялись, сверкая карими, чуть-чуть раскосыми глазами, и что-то часто-часто говорили на своем языке, все время показывая на меня.
– Что они говорят, Саке?
– Они говорят, приходи вечером, чай будет, крепкий чай, и ты будешь гостем. Они видят, ты военный, значит, брат родной, может, ты увидишь на фронте ее мужа, так скажи: жена его хорошо стережет овец от волка; пускай он, муж, крепче бьет волка-фашиста. Ого! Слыхал, что говорят наши женщины?
Я подъехал к женщинам. Мне показалось, что они примолкли потому, что застеснялись, но в то же время я увидел, что они смотрят в другую сторону, а одна из них проговорила:
– Председатель.
По склону горы скакал всадник. Он скакал, держась в седле так, как будто был вылит. У коня по ветру развевалась грива. Всадник сидел чуть-чуть боком и, казалось, совсем не управлял конем. Но вот конь на всем скаку остановился, всадник соскочил с седла, и тут мы увидели, что это женщина лет сорока пяти, смуглая, загорелая. Подойдя ко мне почти вплотную, осмотрев меня с ног до головы, она сердито заговорила:
– Шалтай-балтай нет. Наш женщина чист. Зачем пришел?
Это было так неожиданно, что я растерялся.
– Муж на фронт. Женщина чист. Зачем пришел?
– Марьям Бузакарова, – сказал мне Саке. – Ты к ней в гости ехал, а она тебе навстречу.
– Марьям! – сказал я. – Я привез тебе поклон от твоего сына Ураза.
Строгое, суровое лицо Марьям дрогнуло, золотистые чуть-чуть раскосые, такие же, как и у ее сына, глаза увлажнились, и она протянула ко мне руки:
– Ураз! Сын мой Ураз! А ты прости меня за мои нехорошие мысли! – И, подведя ко мне своего коня, сказала: – Садись на коня. Тебе надо на коне скакать. Садись! А я сяду на твоего верблюда.
Я повиновался ей.
Марьям привела нас к себе в хату. Хата саманная, покрытая камышом, внешне довольно мрачная, тем более что нас еще встретила огромная стая собак-волкодавов с острыми шинами на шеях. Но когда мы вошли внутрь, нас поразила не только особенность обстановки, но и чистота, опрятность. В передней комнате, куда нас ввела Марьям, на полу были разостланы ковры, посредине комнаты стоял круглый стол на низеньких ножках, в стороне – кровать и на кровати множество одеял и кошм. Мы сели на ковры. Марьям кинула нам две подушки. Саке сел на подушку и шепнул мне:
– Садись. Такой обычай: почетный гость должен сидеть на подушке.
Я сел. А Марьям вышла из хаты, и вскоре послышался во дворе ее звонкий голос. Перед окном вспыхнул костер. Около костра появились две девушки с длинными косами и стали хлопотливо что-то делать. Вскоре в комнату вошел древний старик. Он поклонился нам и сел около стола. Следом за ним вошла старуха, низенькая, полная, с вытянутым лицом, и, тоже поздоровавшись с нами, села около стола. Она некоторое время смотрела на нас молча, затем старик заговорил:
– Когда Уразу было шесть лет, отец его Абильда посадил его на коня. Подхлестнул коня плеткой и пустил в степь. Такой обычай: мужчина должен с шести лет управлять конем. Конь помчался в степь, стараясь скинуть со своей спины неопытного седока: конь тоже не хочет подчиняться. Но молодой Ураз крепко держался за гриву, и, когда взмыленный конь прискакал к табуну, тут я Ураза снял с коня и сказал:
– Крепкий будешь, настоящий мужчина.
Ураз ответил:
– Я это знаю.
– Ого! Откуда он знал, что он будет настоящий мужчина? – И старик громко засмеялся, показывая крупный белый ряд зубов.
– Он еще спрашивает, – обратился ко мне Саке, – какой он там, на фронте, Ураз?
– Крепкий, настоящий мужчина.
– Ого! Я это знал, – авторитетно заметил старик и, кивнув головой старухе, сказал ей: – Он, Ураз, такой же крепкий мужчина, как и твой сын Абильда, отец Ураза. Абильда тоже пошел на фронт, к сыну. – Тут он обнял старуху и, сидя рядом с ней, закачался, тихо напевая.
Он пел о том, что вот когда-то они – он, старый Сабит, и его, теперь старуха, молодая Аше – родили на свет Абильда, сына степей, сына гор. И пока рос Абильда, кости Сабита и Аше черствели… «Живость, струнность наших костей уходила к сыну нашему Абильда. Но мы не злились, не завидовали, мы радовались с тобой, мать, что у нас растет такой могучий сын и этот сын забирает наши молодые силы. Потом у Абильда появился Ураз… И мы с тобой, старуха моя, опять радовались тому, что наши силы переходят в Ураза. Нынче Абильда и Ураз защищают наши степи, горы наши, покой наш…»
Песню оборвали девушки. Они внесли и поставили на стол два блюда: в одном лежали куски вареной баранины, в другом – нечто похожее на огромные блины, только подсушенные. Затем вошла Марьям, раскрасневшаяся, помолодевшая, и положила около старика баранью голову, одновременно ставя на стол огромный кувшин с самым натуральным вином.
Марьям пододвинулась ближе ко мне и, глядя мне в глаза, тихо проговорила:
– Ты кушай, кушай, ты друг Ураза. Когда увидишь его, скажи – отец его тоже пошел туда. И еще скажи – мать его работает в колхозе. Эта рука, – она показала маленькую, обветренную руку, – эта рука не может держать винтовку, но она может вести хозяйство. Скажи ему, когда народ нашего колхоза узнал, что с фронта приехал его друг, то есть ты, народ сказал мне: «Марьям, возьми дочек своих и иди встречай гостей. Скажи ему, мы бы пришли все, но нам некогда: весна, надо поля убирать». А ты кушай, кушай!
Уставшие с дороги, сытно поев, выпив порядочный кувшин натурального вина, самовар с чаем, мы уснули. Но я все время сквозь сон слышал, как неподалеку от меня что-то шептала Марьям, то и дело упоминая сына и мужа.
…Я открыл глаза. У моих ног стояла Марьям и, глядя куда-то в сторону, шептала:
– Дорогой гость, родной, как сын. Люди собрались в поле, они зашли, чтобы посмотреть на тебя.
Я быстро вскочил с постели, умылся и вышел во двор.
Вдалеке виднелись горы. Солнце играло на пиках, и казалось, оно сходит с гор на предгорье. А во дворе стояли люди, смуглые, загорелые, и все молча смотрели на меня, а я на них. Так длилась какая-то минута. Молчание нарушила женщина. Она крикнула мне:
– Расскажи нам про Ураза.
Я рассказал о том, как однажды Уразу было предложено переправиться за линию фронта и достать «языка». Он ушел с вечера, утром явился очень пасмурный, грустный и сказал:
«Я подкрался к часовому ночью, ударил его прикладом по голове, схватил, понес, но вскоре увидел – часовой мертвый: такой сильный был удар, что каска вмялась в голову».
Командир ему заметил:
«Зачем же так сильно бил? Надо полегче».
Ураз ответил:
«Я не хотел так бить, сама рука ударила. Рука отяжелела, товарищ командир!»
«Ну, что ж, придется послать другого».
«Нет, нет, – запротестовал Ураз. – Я пойду. Только я приклад оберну мешком».
И пошел с вечера. Рано утром, видим, Ураз несет «языка». Принес, положил. Подошли, посмотрели – враг был мертв.
«Мертвый, Ураз, „язык“ опять мертвый!» – сказали мы.
Ураз растерялся:
«Нет, я его не сильно ударил. Он был живой, когда я его схватил и понес. Но я, наверно, так крепко сжал его, что задушил. Рука отяжелела, товарищ командир!»
– Так же, как у Ураза Бузакарова, отяжелела на врага рука у всех наших бойцов. Я скоро снова буду на фронте – что передать от вас Уразу? – спросил я.
И в этот миг, сжав кулаки, вскинулись сотни рук, и люди в один голос крикнули:
– Передай Уразу, у нас также рука отяжелела на врага!
Всеволод Вячеславович Иванов
Счетовод Динулин
Город сопротивлялся с яростью необычайной.
Танки врага направлял известный полковник фон Паупель, и танки приближались к окраине города, где находился огромный завод сельскохозяйственных машин и Дворец культуры, увенчанный большой скульптурой Ленина.
Когда генерал Горбыч осматривал фортификационные сооружения возле завода, в одном из ходов сообщения он обратил внимание на худощавого и бледного артиллериста.
«Трусит? – подумал генерал. – Нет, кажется, болен».
– Вы недавно выписались из госпиталя? – спросил он.
Красноармеец уловил мысль генерала и ответил:
– Никак нет, товарищ генерал-лейтенант. Счетный работник Рязанской области, колхоза «Пятнадцать лег Октября». Бледность у нас, счетных работников, – черта природная.
Генерал улыбнулся и, отходя, сказал:
– Немецким солдатам сделать бы поприроднее эту бледность!
– Слушаюсь! – в тон генералу, и тоже улыбаясь, ответил красноармеец Динулин.
И он исполнил свое слово.
Вот как это произошло.
Динулин был уже опытным подавальщиком снарядов. И теперь, стоя возле снарядных ящиков, ощущая холод чуть покрытого утренней росой металла, он спокойно глядел поверх дула орудия на лесок, за рекой, откуда шли танки и то и дело раздавались взрывы. Такой обстрел он видывал не раз, и, зная, какие настроены укрепления, он презирал его. Он ждал, когда покажутся танки.
Взрывы приближались, вздымая глыбы земли, и, будто корни, торчали из нее металлические, согнутые балки, железные пруты и плиты. Все это падало обратно с невыносимым звоном, шумом и лязгом, и падало как бы прямо на Динулина! Мало-помалу страх начал заползать в его сердце. Он исподволь глядел в лица товарищей: чувствуют ли они то же самое? Они напряженно и ожидающе наблюдали за леском, и ничего, кроме боязни пропустить и не заметить врага, их лица не отражали.
Бойцы у орудий падали. Убили наводчика. Убили командира орудия. Из леска выполз танк и то зигзагами, вдоль ходов сообщения, то напрямик, через пулеметные и орудийные гнезда, устремился вверх, прямо на Динулина. Красноармеец знал, что это самый плохой признак в бою, когда начинаешь думать, что весь противник идет на тебя. Но думать иначе Динулин не мог.
– Принимай! – сквозь грохот взрывов и толчки теплого воздуха услышал он рядом.
Он подал снаряд и оглянулся. Раненый, которому санитар перетягивал руку, протянул Динулину автомат. Стрелял Динулин неважно, но все-таки счел необходимым крикнуть вслед раненому.
– Не подкачаю!
Машины были ловки и сильны, они сваливали громадные железобетонные надолбы, глубоко заделанные в грунт, а попадая в широкий ров, где им было заказано утонуть или, во всяком случае, забуксовать, потому, что грунт там разрыхлен, вылезали только испачканные глиной.
– Подавай, подавай! – слышал он сквозь взрывы.
– Подаю, подаю! – отвечал он, отворачиваясь от двигавшихся на него машин.
Хватануло! Снаряд попал в танк. Ушатообразная машина закачалась и словно взвизгнула. Она вздыбилась, и вдруг пламя изверглось изо всех ее отверстий.
Необычайная радость охватила Динулина. Он поглядел в довольные лица товарищей и улыбнулся своему страху и тому чувству неравного боя, которое звенело у него в горле совсем недавно, как предсмертный колокол.
«Миновало, слава богу, – подумал Динулин. – И бой есть жизнь, и жизнь есть бой!» – твердил он только что придуманную поговорку, и ему думалось, что поговорка эта защищает его лучше всякой брони и лучше всякого бетона. «Да, жизнь есть бой, и бой есть жизнь, ко всему привыкаешь».
А привыкать приходилось ко многому!
Огромная, облупившаяся машина, с пробоинами и поврежденной башней простерла над ним гусеницы как раз в то время, когда он поднял новый снаряд.
И откуда она появилась? Динулин только одно мгновение смотрел на гусеницы. Кровь, остатки одежды, истерзанное голенище, застрявшее между пластинами, тело, к которому пристали куски темной мокрой земли, – все это вызывало у Динулина тошноту. Надо бежать. Но куда? Танки носились вдоль окопов, расстреливая их в упор, увиливая от огня противотанковых орудий, которые, казалось бы, подавленные, вдруг выныривали из груды щебня и обломков, извергая снаряды. Не попадешь под гусеницы, очутишься под своим огнем! Штук бы пять гранат сюда! Гранаты, конечно, остались по ту сторону танка, вместе с расчетом его орудия. При нем был только автомат. Выхода не было. Динулин вскочил на гусеницу. Он вовсе не хотел быть раздавленным. Он встал на ее широкие, как у крыльца, ступеньки: гусеница подбросила его вверх.
Он вспрыгнул на какой-то уступ, обрезав себе металлом руку, лег возле башни танка и заглянул вниз.
Разбитое орудие, остатки еще чего-то не давали возможности просунуть автомат. Вот положение, неучтенное никакими уставами и инструкциями!
Танк подскакивал. Динулин обернул грязным и пыльным носовым платком раненую руку и держался ею за ствол орудия, торчавшего из башни. В правой руке его вздрагивал автомат.
Башня, слегка поскрипывая, – танк, должно быть, много поработал на своем веку, – издавала запах масла и пороха. Динулину показалось, что он слышит снизу слова немецкой команды. Он привстал на колени и огляделся.
Танк, на котором находился бывший счетовод Динулин, вместе с другими танками врага подавлял узлы сопротивления. Прячась за возвышения или выскакивая, он искал пулеметы и орудия, обстреливающие немцев фланкирующим и фронтальным огнем.
Динулин стал определять положение: где же находилось его орудие и командир орудия Пащенко?
Наконец, Динулин узнал это место – небольшой холмик, замаскированный кустами смородины в виде буквы «у». Смородины, конечно, не оставалось, да и холмик сполз в сторону… Но неожиданно холмик зашевелился, мелькнуло острое и милое дуло, и какой-то танк лопнул, как пузырь. Динулин узнал наводчика Птицкина.
Динулин решил действовать. «Перед каждым действием – узнай, какую позицию ты занимаешь и какую твой противник». Динулин огляделся.
Одно ему показалось удивительным: где же находилась пехота противника, которая должна занять в таких случаях местность, захваченную танками?
Так как танк часто менял положение, то Динулин, несмотря на пламя, дым и пыль, вьющиеся вокруг, мог определить почти безошибочно, что пехота противника оторвалась от танков и не успела подойти. Наши орудия продолжали вести заградительный огонь по тому берегу реки, где стояла нерешительно пехота гитлеровцев.
Но не может же быть, чтобы немецкая пехота не просочилась. Он стал приглядываться. В окопах, оставленных нашими войсками, Динулин разглядел чужие каски. На следующем развороте танка он увидел, что каски эти, видимо, получив приказание, стали ползти по направлению к Дворцу культуры.
Врагов не больше роты. «И это все…», – подумал Динулин и стал стрелять…
Между тем танк, на котором находился Динулин, приблизился к тому холмику, где находилось орудие, командиром которого был Пащенко, а наводчик Птицкин. Танк приближался осторожно, маскируясь за возвышенностями и горящими деревьями.
Танк приближался к своей гибели. По тысяче признаков, неуловимых для немца, Динулин понимал, что наводчик Птицкин уже «засек» этот танк. Так как Динулин находился на этой грязной и отвратительной машине, то, естественно, он решил помочь товарищам как мог. Вновь царапая себе руку о разорванный металл, он, опершись на башню, привстал.
Динулин увидал Дворец культуры, мечущиеся над ним немецкие бомбардировщики, тщетно старавшиеся попасть в него, разрывы наших зенитных снарядов в небе. Он увидел простертую с непоколебимой твердостью руку Ленина. И ощущая огромное, переполнившее душу, волнение, Динулин поклялся Владимиру Ильичу: «Будьте покойны, Владимир Ильич, что надо сделать, то сделаем полностью».
Он встал в полный рост и во весь свой голос через рытвины, канавы, воронки от взрывов, трупы убитых, вопли раненых, через окопы, блиндажи и выстрелы орудий крикнул наводчику Птицкину:
– Огонь по живой цели, круши их, Птицкин!
Наводчик Птицкин действительно наводил орудие на этот танк, и то, что на танке показался во весь рост человек, очень помогло ему при наводке.
Птицкин пустил снаряд.
Снаряд как раз попал в середину танка. Танк взорвался.
Наводчик Птицкин вытер пот со лба и с век, опухших от усталости, взял карандаш и придвинул к себе ящик, на котором бывший счетовод Динулин вел запись уничтоженных танков противника.
– Прямо рука не поднимается, – сказал уныло Птицкин. – Разве у меня почерк? Вот у Динулина почерк, так почерк. При таком почерке…
Он не успел добавить, что возможно сделать при таком почерке, – показался другой вражеский танк. Птицкин кинулся к прицелу и влепил снаряд в этот танк. Танки врага отступали.
…И тогда же полковник фон Паупель, ведший атаку на город, подсчитав свои потери, побледнел.
Это была как раз та самая бледность, о которой говорил генерал Горбыч и которой хотел добиться у врага покойный счетовод Динулин.
Ванда Львовна Василевская
Ты – красноармеец
Это была маленькая девочка, совсем маленькая девочка, товарищ в шинели! Быстро мелькали по лугу ее малые босые ножки, путаясь в долгом, до земли, платьице. Она энергично погоняла прутиком теленка, который ни за что не хотел возвращаться в сарай; она толкала его, тянула за хвост со всей серьезностью трехлетней хозяйки.
– Как звать?
– Нюрка.
Чудесные глаза, какие мне приходилось когда-либо видеть, огромные, голубые, окаймленные черными ресницами. И все личико было, как с картины.
Девочка сидела на завалинке, держа на коленях двух серых котят, пальчиком вытирала нос и внимательно смотрела в небо, откуда доносился шум мотора.
– Летит, гадюка, – шептала серьезно, безошибочно различая гудение немецкого самолета.
– А это, это наш, – говорила она и, пуская котят, махала ручонкой машине, едва заметной в далекой синеве.
– Понравилась вам наша Нюрка? – говорила старушка, ее бабушка, поправляя платочек, спадающий с ясной головки ребенка.
Да, понравилась мне Нюрка, понравилась до слез, до боли в сердце. Она похожа, страшно похожа на другую маленькую девочку, на девочку, которая осталась далеко за гудящей выстрелами линией фронта, по ту сторону.
Мы отошли из деревни над речкой. Маленькая Нюрка тоже осталась там, по ту сторону линии фронта. Может быть, ее уже нет… Ее отец и дядя служили в Красной Армии, а на выбеленной стене хаты висели портреты Ленина и Сталина. Бабушка говорила с гордостью:
– Оба сына партийные.
Я думаю о них часто – о маленькой Нюрке и о другой девочке, которую она мне напоминала.
Та девочка слышала треск разваливающихся в Варшаве домов. Видела немцев, расхаживающих по улицам. Видела фашистов, избивающих людей, стреляющих в женщин и детей. Она пережила несколько страшных месяцев в оккупированной Варшаве. А потом, когда подъезжала к границе, к Советскому Союзу, в поезд вскочили враги. С мчащегося поезда выбрасывали евреев, били их палками, ударами сапога сталкивали евреек с платформы под колеса вагонов.
Все это видела маленькая девочка. И когда на границе встретили ее командиры Красной Армии, она с криком бросилась к матери:
– Мама, бежим, немцы!
Она еще не различала шинелей. И долго не могла понять, что уже не находится среди врагов. А когда поняла, на улице Львова останавливала проходивших красноармейцев:
– Ты – красноармеец, правда?
И обращалась к матери с блестящими глазами:
– Это не немец, это красноармеец.
Красноармейцы улыбались, не понимая, чего хочет эта маленькая польская девочка, которая по ночам во сне испуганно кричала:
– Мама, бежим, немцы!
А днем, встретив красноармейцев, останавливала их на улице и заглядывала счастливыми голубыми глазами в удивленное лицо, маленькими пальчиками гладила жесткое сукно шинели и повторяла:
– Ты – красноармеец.
Этой маленькой девочке, для которой слово «красноармеец» означало радость, счастье, свободу, пришлось вторично переживать кошмарные дни, пришлось второй раз встретить фашистов. Сколько раз звала она: «Мама, бежим, немцы!» Сколько раз, идя по улице, растерянным взором искала она знакомую, любимую шинель красноармейца!
Не знаю, жива ли она. Не знаю, живы ли они, обе маленькие девочки, которые любили красноармейцев и боялись фашистов.
Я думаю о них часто. Мысль о них сгоняет сон с моих глаз.
Я хочу, чтобы и ты думал о них, товарищ в шинели, думал почаще.
Их не две. Их тысячи. Светловолосых и темноволосых, голубоглазых и черноглазых, наших детей, которые остались по ту сторону линии фронта.
Умирают там ежедневно – подумай, товарищ в шинели, – умирают там пробитые штыком, умирают в подожженных гумнах, разрывает их на куски вражеская граната. Сотнями умирают от голода. Протягивают прохожему маленькие ручонки, выпрашивая кусочек хлеба. Сироты замученных матерей и отцов, они умирают от голода, падают в пути, дрожа от холода, прикрывают тряпьем исхудавшее тельце.
Каждый день и каждая ночь приносят им смерть. Каждый час увеличивает этот никем не подсчитанный список детских имен, маленьких мертвецов.
А они помнят о тебе. Плетясь нищенской дорогой, засыпая, как бездомные щенки, в развалинах хат, дрожа от холода, прячась от взоров врага, думают о тебе с отчаяньем, с тоской, не понимая, почему ты не приходишь, не освобождаешь, не спасаешь.
Товарищ в шинели, там, по ту сторону линии фронта, – тысячи наших детей. Но с каждым днем их становится меньше.
Не забывай о них! Они ни на минуту не забывают о тебе. Ожидают тебя с замирающим сердцем. Они маленькие, но понимают: ты один можешь спасти их.
Каждый день промедления – это смерть десятков и сотен. Товарищ, не медли: каждый день стоит жизни маленьких людей.
Посмотрят на тебя голубые и черные глаза, полные слез, и маленькие детские ручонки погладят жесткое сукно шинели. Скажут детские уста, не находящие многих слов, не умеющие благодарить, фразами краткими и простыми, в которых заложена вся любовь детского сердца:
– Ты – красноармеец.
И тогда, товарищ в шинели, завянет, развеется память об ураганном огне неприятеля, о днях в блиндажах, о ползанье по снегу в морозную ночь, о ранах, о бомбах.
Тогда скажешь себе, что взоры детских глаз, что ласки несмелых детских ручонок отблагодарили тебя за все тяжелые, трудные дни.
Напряги слух, товарищ! Сквозь шум моторов, сквозь гул артиллерийской канонады, сквозь дробь пулеметов, сквозь дикий вой пьяных, идущих в атаку немцев, сквозь грохот танков – с той стороны линии фронта просит тебя, зовет детский голос, голос тысячи наших детей:
– Поспеши, товарищ, поспеши! Ты – красноармеец.
Перевод с польского Г. Кутыловского








