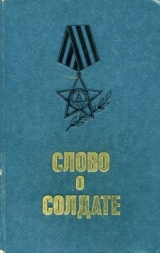
Текст книги "Слово о солдате (сборник)"
Автор книги: Михаил Шолохов
Соавторы: Алексей Толстой,Константин Паустовский,Вениамин Каверин,Михаил Пришвин,Валентин Катаев,Лев Кассиль,Андрей Платонов,Александр Твардовский,Александр Фадеев,Вячеслав Шишков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Владимир Германович Лидин
По ту сторону
Холодным ноябрьским утром вернулись Макеев и Грибов в знакомый город.
На дороге у въезда в город стояли часовые. Но Грибов свернул с дороги на кукурузное поле. Мертвые почерневшие стебли цеплялись за ноги и шуршали, уже прихваченные морозцем. За кукурузным полем шли городские пустыри, гиблые места свалок и голодных собак, бродивших, как стаи волков, с поджатыми хвостами. Они пробрались сквозь давний пролом в кладбищенской стене и пошли по аллейке, по мокрым листьям, в тишине этого ноябрьского забвенья, обросшие бородами и потасканные, похожие, вероятно, на жителей этого исстрадавшегося города.
Они миновали городское кладбище, совершенно пустое, без единой души – даже кладбищенского сторожа не было у входа – и пошли по улицам города… Самое окаянное сиротство и разрушение представлял Грибов себе, по город был страшнее, чем мог он представить. Какие-то жалкие, согнутые, точно их сложила пополам болезнь, брели люди с земляными, озябшими лицами. Казалось, одна старость осталась в этом городе, одни калеки, но потом они поняли, что это голод и несчастья состарили и сгорбили людей. Оторвавшееся железо вывесок зловеще громыхало на ноябрьском ветру. Ни один дым не был виден из труб, будто в городе никто не обогревал жилища и не готовил горячей пищи. Магазины, пустые и черные, зияли разбитыми стеклами, и только у бывшего гастрономического магазина с немецкой полотняной вывеской поверх старой стояло несколько немецких солдат, прикуривая друг у друга. Такой же пустынной была и главная улица. Только ветер просторнее и холоднее катился по ней со стороны лимана. Несколько подростков с синими лицами стояло возле кино, над которым желтым, пустым светом горели в утреннем холоде лампочки. Макеев покосился на плакат: немецкие танки двигались цепью. Еще одна полотняная вывеска на немецком языке перекрыла старую вывеску – кафе-столовой. За окнами сидели у столиков несколько скучающих немецких солдат. Пустой, гиблый город, согнутые люди с помертвевшими лицами, зима, уже катившаяся с зимним норд-остом… «Это пришли завоевывать?» – казалось, вопрошали они с тоской, глядя через окно на пустынную улицу.
У скверика, там, где цвел когда-то табак, сейчас стоял столб с перекладиной, и на перекладине невысоко от земли висел человек. Казалось, очень спокойно и грустно, сложив перед собой связанные руки, он наблюдал жизнь с высоты. Ветер неспешно раскачивал его, и Макеев успел увидеть, что это парнишка, ничуть не попорченный, – вероятно, не первый день он висел, – а только как-то ссохшийся, точно кожа его обтянутого лица плотно пристала к костям… Холодный ветер пробрался под ватный пиджак и захолодил плечи. Но оба и на этот раз ничем не выразили своих чувств, точно привыкшие ко всякому жители. Словно чума прошла над городом – он вымер. В щелях, выкопанных на скверике, стояла стылая вода, – некогда копали их жители, уповая на это ненадежное прибежище. Вдруг в громкоговорителе на столбе зашуршало, голос сказал что-то на чужом языке, и хлынула музыка, страшная в мертвом безмолвии города. Но они шли, как будто согнутые временем, старостью и несчастьями, как все жители города…
На колхозном базаре возле забитых или растасканных на топливо ларьков и прилавков бродили люди. Макеев и Грибов перешли площадь – они должны были все увидеть в мрачном разрушении недавно налаженной и шумной жизни большого южного города. Старики и старушки (или это были молодые женщины, ставшие старухами, – в неопределенности серых, земляных лиц нельзя было понять) продавали какую-то рухлядь, отрепья или жалкие остатки былой жизни. Ненужные подсвечники, пожелтевшие воротнички и кружева, мясорубку и большие плоские раковины, завезенные в портовый город каким-нибудь моряком… Несколько таких же неопределенных людей торговали семечками, отмеряя зелеными, бутылочного цвета стаканами, и странной желтой трухой, в которой Грибов распознал раздавленные жмыхи. Он спросил цену: – стакан тридцать рублей. Больше на этом торжище ничего не было. По другую сторону площади, где начинался бульвар, они увидели новое кладбище. Памятник Ленину, стоявший в начале широкой аллеи, был снесен, и вокруг постамента, заставленного досками с немецкими надписями, во всю ширину бульвара точно размеренно, на равном расстоянии друг от друга, словно на параде мертвецов, стояли кресты. Глубокие, тяжелые каски мутно-зеленого цвета были надеты на верхнюю часть креста. Могил было много, Макеев прикинул – не меньше двухсот.
На бульваре их остановил часовой. Мотоцикл был прислонен к дерену. Они долго и обстоятельно доставали документы, как бы равнодушные к этой очередной проверке: печать о регистрации и явке к коменданту была – часовой их пропустил. Серый, низенький, штабной автомобиль быстро пронесся в пустынности улицы. На телеграфных столбах, ухватившись кошками, немецкие связисты тянули провода. Совсем синий, полумертвый или уже заживо умерший старик сидел на приступочке дома. Лысая его голова с ободком волос была непокрыта. В шапку, лежавшую рядом на ступеньке, точно для смеха, была брошена никелевая немецкая монетка. У бывшего здания городского музея стоял огромный желтый фургон, в каком перевозят мебель: фургон, очевидно, – был пригнан из Германии. Двери в музей с блистающими колоннами вестибюля были настежь открыты. Несколько солдат выносили стулья, аккуратно сплетенные соломой, чтобы не побились в дороге, такие же аккуратно сбитые деревянные рамы, в которых были картины и ящики с большими номерами. Фургон, вместительный, как дом, поглощал бывший музей. У входа на почту висел плакат с изображением зверского бородатого лица, не то в папахе, не то в кубанке.
«Всякому, кто окажет укрывательство партизану, смерть!» – было написано по-русски под изображением.
Скоро они свернули в сторону Приморской, некогда поселка рабочих судостроительного завода. Дома были пусты, часть без окон, часть заколочена. Некоторые, обгоревшие, давно растасканы по бревнышкам, и только кирпичный четырехугольник фундамента или невыломанные изразцы печи определяли место недавнего жилища. Но в один из этих домов Грибов все-таки зашел. Только прежде, чем толкнуть калитку забора, он долго закуривал на ветру, оглядывая пустынную улицу. Нет, немцам нечего было делать на этой пустой и обезлюдевшей окраине. В глубине двора, двумя ступеньками ниже земли, была дверка в бывшую бондарную мастерскую. Старые ржавые обручи от бочек валялись во дворе.
Они были у цели. Их ждали. Долго, пробираясь балочками и глухими степными дорогами, шел сюда криворожский шахтер Семичастный. Он был здесь уже третий день.
Хозяин дома, старик Павлюченков, пока вели они свой разговор, вышел чинить прогнившие ступеньки приступочки – отсюда далеко была видна улица, если бы кто-нибудь появился на ней…
Семичастный сказал: «Надо бить по железнодорожным путям, по всем коммуникациям немцев».
– Это мы понимаем, – сказал Грибов, – не думайте. Волку сухожилья перерезать – он никуда не уйдет. Только и немцы стали сейчас осторожны… У них на путях чуть ли не на каждом километре посты. Собак привезли… мы одну такую взяли, чистый волк, но умна! – Он хохлился в ватном своем пиджачке, в серебряных очках, только изредка недобро поблескивали из-за них его глаза. – Всякому, кто окажет укрывательство партизану, смерть! – сказал он с усмешкой. – Вот как у них написано. А страшными они партизан рисуют, видно, сильно напуганы. – Он вспомнил плакат возле почты. – Всех людей не перебьешь… Это тоже время нужно. А мы не бараны, что убоя своего дожидаются. Ты – нашего одного, а мы твоих десять. Пять поездов сваливают в день партизаны – нужно сорок свалить.
Он на минуту стал прежним – лукавым и словоохотливым, если бы, только не старила и не меняла его уже с густой проседью борода.
– Передай, – обратился Макеев к Семичастному, – дело мы свое понимаем. И ответственность понимаем… Мы себе радио раздобыли. Москву ловим. Родной голос слушаешь, легче на душе становится. А то немцы свою работу ведут… их послушать – так и Москвы уже нет, и в Ленинграде они хозяевами стали давно.
Они рассказали Семичастному, сколько людей в отрядах и что сделано за месяц.
– Скажи: крестов по немцам не ставим, как эти в городе… а вся степь для них кладбище, каждая балочка. Сот восемь, может, за это время прибрали, два эшелона с боеприпасами полетели, одни колеса остались… Ну и так повредили составов до дюжины. Только пути они быстро чинят, у них это дело поставлено хорошо.
Они долго и внимательно разбирали план предстоящей операции. Партизанские отряды становились как бы выдвинутыми глубоко вперед частями действующей армии. Немцы готовились в городе к пуску судостроительных мастерских, которые перед отступлением были плохо подорваны нашими: немцам нужно было море. На стапелях закладывались первые легкие морские суда. Привезенные лесоматериалы загружали половину заводской территории.
– Тут огонька пустить – пойдет. Материал сухой, это сразу прихватит, – сказал Грибов. – А ветерок наш, морской…
Он прислушался: норд-ост громыхал железом крыши.
– А материалу у них свезено порядочно… все тес, каждая тесина с клеймом. Тут при хорошем ветре пойдет! Есть у меня человечек один, – сказал Грибов в раздумье, – ему только на свет божий нельзя показаться… нашлась сволочь какая-то, на него донесла. Он прежде на заводе в пожарной охране работал. Тут огонька пустить мало, – добавил он, – тут надо, чтобы море цельное бушевало…
Он щурился и воображал это море в зловещей черноте ночи.
В тот же день Семичастный и Макеев ушли из города. А Грибов задержался для выполнения задуманного.
Посты охраны мастерских были прежние: пост у проходной будки, вышка с часовым у восточной глухой части территории, где были сложены лесоматериалы, и два поста по обе стороны стапелей на берегу лимана. Подача воды в пожарные колодцы производилась через насосную станцию. Станцию эту надо было подорвать одновременно с поджогом.
Глухой, ветреной ночью Грибов пробрался на заводскую территорию. Тихий лиман гудел и бросался на берег. На этом заводе Грибов проработал два года. Но территория, заново заваленная лесными материалами, изменилась, и он долго в тумане не мог определить направления. Он пробрался между штабелями и заложил в двух местах тол. Подорвать насосную станцию должен был пожарник, который с великой охотой и озлоблением взялся за это дело: немцы погнали его младшую сестру рыть окопы, и она пропала без вести. Зажечь штабеля Грибов должен был сейчас же после подрыва станции. Думал ли он еще год назад, что придется ползти ему в ночной тишине по мерзлой земле родного завода, чтобы жечь то, что он строил и что привык беречь. Но сейчас только на пепелищах могла родиться новая жизнь, и человек именно во имя ее превращал в пепел, в развалины самое дорогое и близкое… Ненависть к немцам, сначала захватившая его, как всякая ненависть, теперь становилась планомерной, размеренной. Он вырабатывал график этого отмщения, как вырабатывал некогда график работы. Ему хотелось вложить в эти планы уничтоженные фашистские части, сбрасываемые с рельсов или подорванные воинские составы: десять составов – это план на месяц, двенадцать – это перевыполнение плана. Он чувствовал себя почти прежним человеком, только служба была не завод, а война. Он ждал знакомого удара воздуха и перекатывающегося грохота, которые означают взрыв. Он ждал взрыва водонасосной станции. Но только лиман шумел и плескался внизу, и ледяная крупа шуршала временами по доскам. Время шло, а взрыва все не было. Удивительное томление вдруг овладело им, что-то случилось с пожарником: может быть, его захватили, и надо спешно выбираться отсюда. Давно уже непогода пробралась в рукава пиджака, и холодная дрожь, похожая на тоску, сотрясала по временам его тело. Но он все медлил и ждал. Только теперь почувствовал он, что устал за все эти месяцы напряжения, слишком много горя увидел он за это время… В ту же минуту произошло что-то страшное. Прогремел взрыв. Огненным заревом вспыхнула водонасосная станция. Грибов точно очнулся. Теперь очередь была за ним…
Тишина. И снова черную глухую ночь разорвали два чудовищных взрыва. Огромные багрово-красные огненные столбы встали над верфями.
Минуту спустя тревожные свистки хлестали уже на территории завода.
…На рассвете Грибов был уже далеко. Позади него был город, встретивший его отчаяньем и разореньем, родной город, страшный, как смерть.
Алексей Силыч Новиков-Прибой
Волга
Из обширного полузыбкого болота струится едва заметный ручеек. Непроходимые трясины, одетые мягким моховым покровом, тянутся на километры. Опустите шестик в этот ручеек – он углубится только на один метр и остановится на мягком илистом грунте. Если вы увидите на другом берегу приятеля, то смело протягивайте ему руку: он сожмет ее в крепком рукопожатии.
Здесь рождается Волга – родная и любимая река русского народа, его «матушка», «кормилица» и его «красавица».
Из малого ручейка, стремясь по лесам и болотам, то погружаясь в озера, то сторонясь их, она пробивает себе верный путь. Кропотливо и бережно вбирает она каждый ручеек, каждую речку и хранит их и песет, как мать своих детей. Как дети, они тянутся к ней и доверчиво отдают ей свои волны. Все крепче и глубже становится ее русло, все шире и дальше раздвигаются ее плодородные берега… С высокого Урала несет ей свои воды Кама, из гущи старорусской земли вливает в нее свою силу Ока, и невообразимой великаншей, величественной красавицей, разбившись на рукава, она течет навстречу седому и бурному Каспию…
Не так ли собиралась и росла русская земля? Не так ли из мелких племен и княжеств, враждовавших и истреблявших друг друга, она слилась в одно русло и, раскинувшись на шестой части земного шара, выросла в единое, крепко спаянное великое содружество народов?
Волга – любовь наша, наше раздолье, наше богатство, наша многовековая история, колыбель нашей свободы!..
Нет в русском языке ласкательных эпитетов, которые не приложил бы народ к своей любимой реке. Нет красивее легенд и ярче сказок, которые не рассказывал бы он о ней. Нет горячее и задушевнее песен, передающих нашу любовь к ней, веками распеваемых по всей необъятной нашей Родине…
Великая русская река! Она символ нашей вольности, нашего раздолья и нашего богатства. Для нас она не великое водное пространство от Валдая до Каспия, не простое географическое понятие и не только источник неисчерпаемого богатства. Мы очеловечили ее своей любовью, а ее имя вознесли, поставили рядом со священным именем матери и гордимся ею сыновьей гордостью…
Пароход идет плавно, рассекая широкую водную гладь. Я стою на палубе, не отрывая глаз от необозримых просторов великой реки, от ее простоты, от ее уютной теплоты, похожей на теплоту материнской груди. Солнце, рассыпаясь золотыми искрами, рябит в глазах, но глаза не устают, а еще пытливее, еще жаднее впитывают красоту ее течения, ее величия. Я стою часами, днями, но в душе моей нет скуки, нет тоски однообразия, как не бывает их дома, в кругу своей семьи… Здесь все родное: и небо, и луга, и леса, и звуки песен, и энергичные, здоровые лица людей.
Все, что я вижу на пути, близко мне и дорого. Каждый город – гамма народных преданий, страница нашей истории, памятник нашей культуры. Вот тысячелетний Ярославль. Я вспоминаю здесь первого законодателя Руси – Ярослава, основоположившего этот город. Я знаю, что тут зародился и наш русский театр, искусством которого мы теперь гордимся перед всем миром. Здесь созрела и создана знаменитая «Камаринская» – песня, в огне которой жег свое горе наш многострадальный «камаринский мужик». В Костроме мне светит величественный образ Ивана Сусанина, как бы перекликающийся с нами и зовущий не щадить жизни во имя Родины.
Город Горький!.. На высоком обрывистом берегу, обрамленном обомшелыми стенами, высится старый Нижегородский кремль. Оттуда, с паперти древнего собора, я слышу мужественный голос великого гражданина Минина, призывающего русский народ на спасение родной земли. Я слышу лязг мечей и твердый шаг сермяжной нижегородской дружины, идущей к оскверненным интервентами твердыням седого Московского Кремля… А там, напротив, в треугольнике между Волгой и Окой, я чувствую огненное дыхание гигантов нашей советской индустрии, дни и ночи неустанно выковывающих смерть для новых, ворвавшихся к нам поработителей.
Ульяновск, Казань, Куйбышев!.. Здесь родился Владимир Ульянов, здесь прошли его годы детства и юности, годы учебы и первого гонения от свирепого произвола царских охранников. Как молодой орел, оперялся он здесь. Гениальным умом и горячим сердцем юности он осознал и почувствовал на берегах родной Волги вековечное горе трудового народа, его правду и отдался этой правде до конца.
На реку, на Волгу на широкую,
Вылетал, слетал молодой орел…
В небеса он не глядел, властям не кланялся,
Зачерпнул он ладонью воду рудо-желтую
Под Саратовом, Царицыном, Свияжеском!
Взговорил он ко Волге вопрошаючи:
«Ой, пошто, Волга-мать,
Ты мутишь со дна пески да рудо-желтые?»
«Я пото верчу, пески кручу,
Поднимаю камни-горы подсамарские,
Чтобы вышла к тебе правда-матушка,
Чтобы взял ты ее в свои белы руки
И унес-отдал народу подъяремному»…
Так поется в народе о великом Ленине.
Краса и гордость Волги – Жигули!.. Горы, овеянные сказками, легендами и разудалыми песнями казацкой вольницы!..
Здесь колыбель русской вольности, уголок чудес, где народная фантазия создала таинственные подземелья, к которым стремился обездоленный люд искать запертую в них правду. Сюда стекался он со всех сторон, буйный и неукротимый, и кликал клич, отзывавшийся грозным эхом по всей русской земле…
Гой ты, синелучистое небо над маткой-рекой!
На тебе ли пылают-горят угольки твоих звезд вековечные…
А к огням у реки мужики прибрели,
Русаки к русаку присуседились.
С головой на плече супротивных своих;
Не одна и не две, много, много боярских головушек
Принесли мужики к заповедным огням.
С головами боярскими – заступы,
Принесли топоры, вилы, косы с собой,
Пробудилась, знать, Русь беспартошная!
Эй, гори, полыхай злою кровью, холопское зарево!
На лихих воевод, что побором теснят
Да тюрьмой голодят, бьют ослопами досмерти…
Мы пришли вызволять свои вольности
С атаманом, со Стенькою Разиным,
От судей, от дьяков, от подьячих лихих,
Подавайте нам деньги и бархаты,
Нашим жонкам вертайте убрусы-шитье
Да тканье золотое со вираньем!..
И не раз и не два собиралась на груди Волги восставшая Русь, но каждый раз давила ее сила боярская, измена и хитрость людская. На московской площади сложил свою голову удалой атаман Степан Тимофеевич. Но не обезглавлена была правда народная: у крутых волжских яров, в подземелье заповеданном, ждала она часу заветного… И час этот наступил в октябре 1917 года.
Широка и необъятна великая река! Грудью сказочного богатыря кажется ее суровая, необозримая гладь. Несокрушимой силой веет от ее мощного течения, взламывающего лед, стремящегося навстречу солнцу… Сталкиваются, с шумом лезут друг на друга льдины. Затертые пароходы, тупоносые баржи, взламывая лед, с неимоверными усилиями и риском везут боеприпасы, танки, хлеб. Это сталинградская переправа. Она должна обеспечивать Сталинграду наступление. И «полярная» воинская переправа работает день и ночь.
Мы подходим к Сталинграду.
Три месяца беспрерывно длился беспримерный в истории бой. С настойчивостью голодного зверя враг рвался к великой реке. Горел Сталинград – город, заслуживший бессмертие, горели многолюдные цветущие станицы, горели села и хутора. Черным дымом расстилалась кругом холодная вражеская злоба, отравляя и убивая все живое.
Но непоколебима доблесть наших воинов, ставших грудью за свою Родину, за свой дом, за свою свободу, за свою Волгу.
Сталинград! Сегодня миллионы людей в Советской стране и во всем цивилизованном мире на разных языках, но с одним и тем же чувством гордости и восхищения повторяют это слово.
Девяносто дней немцы штурмовали город. Они бомбили его заводы, театры, больницы и сады, они разбивали его дальнобойной артиллерией, растреливали из пулеметов и пушек.
Но город выдержал все. Настал грозный час, час наступления. Оно будет лучшим памятником тем, кто пал, обороняя Волгу и Сталинград. Оно будет памятью русскому мужеству, русскому народу.
От неприступной волжской твердыни воины Красной Армии гонят врага, и он будет стерт с лица земли, как были стерты нашими предками все орды завоевателей, посягнувшие вступить на прекрасные берега великой русской реки. С незапамятных времен мы обручились с Волгой для жизни и теперь бьемся и будем биться за нее насмерть.








