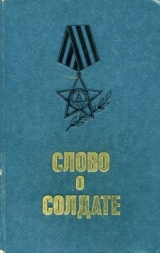
Текст книги "Слово о солдате (сборник)"
Автор книги: Михаил Шолохов
Соавторы: Алексей Толстой,Константин Паустовский,Вениамин Каверин,Михаил Пришвин,Валентин Катаев,Лев Кассиль,Андрей Платонов,Александр Твардовский,Александр Фадеев,Вячеслав Шишков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
– Это уже наша бьет! Наша бьет! – азартно прокричал Рахманов.
Из соседнего окопа уже стрелял бронебойщик. Рахманов на ощупь проверил рядом с собой в бойнице патронташи. Он долго прицеливался: то вздрагивала сошка, он осаживал ее, то дымом застилало глаза.
Он положил пулю – знал это! – точно в башню. И тут вокруг него грохнули разрывы. Черной стеной встала земля. Комья ударили его в лицо, в грудь, в голову. Потом сквозь пыль и зловонную гарь не вдруг стала видна воронка. Рахманов приподнялся. Соседнего окопа не было совсем. Не было ни бронебойщика, ни ружья. Зияла одна зловещая воронка. Только что были в окопе товарищи, боевые, испытанные друзья. Воронка была огромная. На скате отливал синевой зубчатый осколок. Воронка была пуста. Спокойное бешенство обняло Рахманова. Шумела, кружилась голова. Подламывались ноги. Он упирался локтями. И стрелял в башню, прицеливаясь мгновенно. Танк остановился, стреляя с места, подбитый. Рахманов стал стрелять по другому. Он не замечал ни пуль, ни близких разрывов. Второй танк загорелся – его сразу заслонило бушующим костром огня. Немцы-танкисты выскочили из люков и пропали в терновнике.
– Что же там смотрят? Выпустили! – с рыданием вырвалось у Рахманова.
Рахманов перенес свой огонь на третий танк. Но тот вместе с четвертым уходил за скат. Он выстрелил по скрывавшейся башне. Рука его пробежала по патронташу. Он был пуст. Рахманов яростно швырнул в окоп ружье. Уткнулся черным лицом в землю. Порывисто поднялся:
– А где же два танка?
На вершине далекого бугра резко виднелись два немецких танка. Но они уже прошли окопы и вели огонь по второму эшелону.
– Обходят. А у меня ни одного патрона нет! – яростно, словно ругательство, выкрикнул Рахманов.
Шатаясь, он встал. С усилием поднял на плечо ружье и пошел в гору на командный пункт батальона. Он шел не скоро, не сгибаясь, пока грохот боя не прорезал голос комбата.
– Сержант Рахманов, бегом!
Рахманов быстро зигзагами добежал до хода сообщения. И по нему, сгибаясь, проворно добрался до командира.
– Молодец! Объявляю благодарность! – командир расцепил высохшие губы и широко улыбнулся.
– Служу Советскому Союзу!
– Досталось сегодня?
Рахманов ответил горячо, слова шли из самой глубины его души:
– Очень интересно было. Я сам желал такого боя!
– Ну, бой еще не кончился! – усмехнулся командир, и лицо его стало суровым. – Мне еще с полчаса надо.
– Два танка слева, товарищ комбат! – торопливо доложил боец-наблюдатель.
– Слыхал, сержант? – командир батальона поднялся над бруствером, поднял к глазам бинокль и опустил его враз.
– Сержант Рахманов! Выдвигайтесь на угол кустов, в окоп станкового пулемета. Остановите их! Мне нужно еще полчаса!
– Есть, товарищ комбат! А…
– Адъютант, возьмите патроны в моем расчете!
– Есть!
Через мгновенье Рахманов с ружьем и полным патронташем бежал по траншее. Потом он пробежал кустами и спрыгнул в одной траншее на опушке.
На площадке, отрытой очень старательно, стоял безмолвный станковый пулемет. Пулеметчиков не было. На земле валялись ленты, россыпи стреляных гильз. Два немецких танка были уже не дальше трехсот метров, когда Рахманов изготовился к стрельбе. Хорошо, что наблюдатель заметил их вдалеке. Да какое уж там вдалеке! По брустверу рядом брызнула, выбросив фонтанчиком землю, длинная очередь. Рахманов выстрелил. Вторая очередь прошла над головой.
«Сейчас расстреляют меня», – мелькнула у Рахманова мысль.
Он снова выстрелил. В калиновый куст позади окопа с резким воем шлепнул и не разорвался снаряд.
– Бронебойным бьет! Неужели в меня? – Рахманов увидел танк в огне, убегающих от него немцев. И выстрелил в третий раз. Но тут же обругал себя. Другой танк на всей скорости уходил за гребень, стреляя бронебойными снарядами. Они резко выли. Оглянувшись, Рахманов увидел наши тяжелые танки. Грозно и неотвратимо шли они в атаку. Это их удара по врагу дожидался командир батальона. Рахманов счастливо улыбнулся, оглядываясь вокруг. Над высотой и лесом все еще маячило упругое белое облачко. Утро разгоралось.
Константин Александрович Федин
Мальчик из Семлева
Шел литературный вечер в Доме Красной Армии, в Москве. Из-за стола я вглядывался в ряды слушателей, затихших в торжественном и старомодном зале. Ряды уходили далеко, и лица, ясно различаемые на передних стульях, где-то на середине зала утрачивали подробности черт, а в конце сплывались в нераздельные легкие полосы, желтоватые от электричества и слегка туманные. Но повсюду общее выражение лиц объединяло их в однородную массу людей сосредоточенных, серьезных и уравновешенных тем спокойствием, какое приобретается после пройденных и выдержанных испытаний. Аудитория состояла из командиров, прибывших с фронта, и неподвижный огонь взглядов, казалось, отсвечивал опытом сражений, а сжатые рты как будто старались не выдать горечи, которой наполнен народ на войне.
Вдруг где-то во втором ряду среди суровых и взрослых людей я увидел детское лицо, выделявшееся нежностью красок и блеском чистых широких глаз.
Это был мальчик, одетый в военную форму, с худенькой шейкой, вытянувшейся из слишком просторного воротника с сержантскими петличками. Он был совсем невелик ростом и тянулся, чтобы лучше все видеть, и каждая черточка выражала трепетное любопытство, и все происходившее с публикой происходило с ним настолько в увеличенном размере, что если, посмеявшись, зал становился опять серьезным, то его тонкий рот долго еще сверкал застывшей улыбкой детского удовольствия.
– Смотри, – сказал я своему другу, сидевшему за столом рядом со мной, – смотри во второй ряд, какой там воин.
И мы начали пристально глядеть на мальчика, дивясь его присутствию здесь, его мирному облику в воинском одеянии, всей его маленькой, необычайно жизненной фигурке.
Минут десять спустя мне передали из рядов аккуратно сложенную записочку:
«Мальчик, на которого вы указали, участвовал во многих делах партизанских отрядов и регулярных частей, дважды представлен к правительственной награде, привел десять „языков“».
Мы перечитали несколько раз эти строки, поворачивая в пальцах записку и так и этак, с сомнением косясь друг на друга.
– Надо с ним поговорить, – сказал я.
И как только кончился вечер, мы попросили разыскать в публике мальчика и привести к нам.
В смежной с залом комнате мы прождали недолго. Вскоре раздался громкий, отчетливый стук, и очень увесистая дверь неожиданно легко отворилась. Вошел плечистый, высокий, большерукий лейтенант и, громко сдвинув ноги, распрямляясь и делаясь еще выше, спросил:
– Разрешите ввести?
В первый момент мы не совсем поняли, кого собирались ввести. Но лейтенант обращался к нам, а мы не имели никаких оснований что-нибудь не разрешать, и мы сказали:
– Пожалуйста!
Уходя, лейтенант оставил дверь приоткрытой, и на смену ему в ее узкой щели тотчас появился мальчик в военной форме.
Так же, как лейтенант, он щелкнул каблуками громоздких сапог, вытянулся и взглянул нам по очереди в глаза.
Любопытство подавляло всякое иное выражение на его тонком заостренном к подбородку лице. Мы представились ему достойными самого внимательного изучения, и он был похож на охотника, впервые ожидающего появления из-за кустов редчайшей дичины. Я думал – он непременно первый задаст нам вопрос: губы его вздрагивали, собираясь выпустить готовые слова. Но дисциплина поборола любопытство, и он стойко ждал, когда его спросят.
– Давно ли в армии? – спросил мой товарищ.
– Вот как сошел снег.
– А зимой?
– Был у партизан.
– В каких же местах?
Помолчав, он обернулся на высокого лейтенанта, и хотя у того был вполне доверительный и даже добродушный вид, ответил очень серьезно:
– Места лесные.
Мы засмеялись, и я сказал:
– Смоленские, что ли, леса-то?
Он опять посмотрел на лейтенанта и тоже засмеялся, опустив голову.
– Смоленские.
В смехе его было еще столько ребячьей прелести, что я почувствовал свежее, наивное волнение, какое испытываешь, войдя в детский сад.
– Сколько же тебе лет?
– Четырнадцать, пятнадцатый.
– Ого, а с виду ты года на два моложе.
Он пропустил это обидное замечание без всякого интереса, как будто решив терпеливо дожидаться более занятного разговора.
– А откуда ты родом?
– Из Семлева.
– Вон что! Знаю, знаю Семлево – по обе стороны железной дороги станция и село и совсем рядом – леса.
– Лес – так вот, подать рукой, – быстро подхватил он и весь раскрылся в своей сияющей детской улыбке, замигал часто-часто и вздернул острым носиком.
Тогда с яркостью, почти осязаемой, я увидел этого мальчика среди его родных лесов, каким он был там год или два назад, мог быть там в ту или другую минуту, на веселых тенистых холмах Смоленщины. Я увидел его, беловолосого, без шапки, с прозрачными, как осенний ручей, остановившимися на тихой думе глазами, с голубой жилкой на виске и с голубой тенью над прикрытой верхней губой. Стоит он неподвижно, чуть-чуть наклонив голову, точно прислушиваясь одним ухом, как закачался тяжелый лапник ели под перепрыгнувшей золотисто-луковичной белкой, которая сорвала прошлогоднюю еловую шишку, пошелушила ее и сердито бросила, пустую, наземь. Стоит он, слушая свист лимонной иволги, спрятавшейся высоко на осиновой макушке и словно передразнивающей журчание струи, которая выбилась из болотца внизу, под холмом. Стоит он рядом с тонной беленькой березой, ниточкой тянущейся к высокой тихой синеве, и сам он тянется своею замершей думой высоко вверх, в молчании соединившись с вечной жизнью родной природы. В прошлом этот мальчик был бы, может быть, нестеровским отроком; в будущем он станет, может быть, поэтом, русским поэтом, какого дает нам смоленская земля иное счастливое десятилетие.
Мальчик стоял сейчас передо мной с отражением внезапного воспоминания на лице о родной своей земле, о Родине, которой наделяется человек раз в жизни отцом и матерью и которую он несет потом в сердце через всю жизнь, как отца и мать.
– Где же твой отец? – спросил я.
– В Красной Армии.
– А мать?
– Мать? Не знаю. Говорили, ушла в лес.
– А что про тебя рассказывают, будто ты от немцев «языков» приводил?
– Приводил.
– Это когда партизаном был или в армии?
– И у партизан и в армии.
– Сколько же всего привел?
– В общем десять.
– Десять немцев? Ишь ты какой! Что же, поодиночке доставлял или как?
Мальчик опять с улыбкой обернулся на лейтенанта, но теперь улыбка его была рассеянной: видно, его расспрашивали об этих случаях уже не в первый раз.
– Когда как, – ответил он в растяжечку, – то по одному, а то по двое.
– Как, и двоих приводил? Ну, расскажи, как это было.
Он принял наше изумление за неспособность взрослых понять самые простые вещи, которые для детей обыкновенны, и сказал, оживившись, искренно желая нам помочь:
– Да фашисты в разведку чаще пьяные ходят.
– Пьяные?
– Выпьют для храбрости и пошли. Я один раз притаился в ельнике, лежу. А они по дороге идут из разведки.
– Сколько же их?
– Двое. Я вижу, пьяные.
– Что же, они качаются?
– Ну да, они на лыжах, ноги катятся, они падают, хохочут, – деревня, где они стояли, уже близко. Я пропустил их, а потом из ельника как крикну! И выстрелил. Они – раз! – кувырком. И подняться не могут, лыжи разъехались. Я их и взял.
– Да как же взял? Ты один, а их двое.
– Подбежал, стрельнул одному в руку, а другого по башке револьвером – стук! – и разоружил. Связал им руки назад, а потом наша разведка подоспела. И повели…
Он подождал немного и добавил:
– Еще раз я тоже взял двоих, а один не захотел идти. Уперся – никак.
– Ну, и что же?
– Ничего. Пристрелил его, а другой пошел.
Развеселившееся лицо его говорило: видите, все очень просто, а вы изумляетесь! И выходило, действительно, так просто, что уж нечего было больше расспрашивать, и мы молча смотрели на мальчика.
Тогда с заново вспыхнувшим любопытством он быстро спросил:
– Вот вы сегодня читали рассказ: что это правда, или вы это придумываете?
– Зачем придумывать? – ответил я. – Правда интереснее всякой придумки.
– Да-а, как бы не так! – протянул он с полным недоверием.
– Разрешите, – сказал высокий лейтенант, делая вежливый полушаг вперед, – нам пора.
– Вы что же, приставлены к нему? – спросил мой друг, кивнув на мальчика.
– По вечерам, – сказал лейтенант. – Он ведь в Москве первый раз, мало ли, заблудиться может, и движенье порядочное…
Они оба – большой и маленький – сделали шумный поворот по-военному и вышли.
Александр Александрович Фадеев
Встреча
Из ленинградского дневника
Утром меня разбудил поэт Николай Тихонов:
– Пришла девушка, называет себя твоей племянницей. У тебя есть здесь племянница?
Я быстро оделся и вошел в комнату к Тихоновым. Меня, действительно, ждала племянница, дочь моей двоюродной сестры, которую я никак не предполагал встретить в Ленинграде. Ее муж, штурман дальнего плавания, давно уже плавал в дальневосточных водах. Девушка была очень худа и бледна, очень просто одета, и, видно, ей стоило большого самообладания не показать, что она очень смущена.
– Как вы нашли меня?
– Мы услышали твое выступление по радио, и в Союзе писателей я узнала твой адрес.
В одно мгновение я представил себе, как тяжела могла быть жизнь в блокированном Ленинграде одинокой, неслужащей женщины с дочерью, ученицей школы. У меня еще оставались кое-какие продукты, я быстро собрал все, что мог, и мы отправились на квартиру к сестре.
Двоюродная сестра моя является последней представительницей семьи Сибирцевых, известных дальневосточных революционеров. Ее старший брат Всеволод был вместе с крупнейшим военным и политическим деятелем Дальнего Востока, вождем дальневосточных партизан Сергеем Лазо, сожжен японской военщиной в паровозной топке в 1920 году. Другой ее брат, Игорь, погиб в бою с японскими войсками в декабре 1922 года, погиб смертью героя: будучи ранен в бою в обе ноги, преследуемый кавалерией, он застрелился, не желая сдаваться в плен.
Двоюродная сестра моя не была революционеркой, как ее братья; она была обыкновенным, рядовым советским служащим: служила на телеграфе, работала корректором в газете, работала в качестве счетовода, а в последние годы перед войной была домашней хозяйкой – воспитывала дочь и несла обычную рядовую общественную работу.
Именно потому, что жизнь моей сестры и ее дочери типична для жизни любого рядового ленинградца, я позволю себе рассказать здесь, как прожили моя сестра и племянница зиму 1941/42 года в Ленинграде.
Поскольку ни сестра, ни ее дочь нигде не служили, они получали каждая обычный хлебный и продовольственный паек иждивенца, то есть самый минимальный паек в Ленинграде. В самые тяжелые времена они получали по 125 граммов хлеба. Когда я встретился с ними, они получали уже по 300 граммов хлеба (в это время служащие получали уже 400 граммов, а рабочие – 500 граммов хлеба). Для того чтобы вскипятить чай и сварить свою скудную пищу и немного обогреться, они вынуждены были из этого скудного хлебного пайка экономить некоторое количество для того, чтобы на хлеб выменять немного дров.
Человек, привыкший к обычным нормальным условиям жизни, может не поверить мне, что при этих условиях и сестра моя и ее дочь остались живы. Да, они остались живы, как сотый и сотни тысяч ленинградцев, находившихся в одинаковом с ними положении.
Они остались живы прежде всего и главным образом потому, что это были уже не обычные рядовые люди в обычных нормальных условиях жизни. Сестра моя жила в новом громадном ленинградском доме, население которого равно было населению иного города районного значения. С войной значительная часть этого населения была эвакуирована. Но все же это был громадный дом, или «объект», как стали называть во время войны все здания, могущие быть подверженными бомбардировке, артиллерийскому обстрелу или пожару. Сестра моя всю зиму была начальником этого объекта, то есть начальником противовоздушной и противопожарной обороны всего этого здания. Иными словами, сестра моя была уже одним из сотен тысяч сознательных защитников родного города, человеком исключительной моральной стойкости, самодисциплины, человеком, знающим, что виновником ее тяжелого положения является бешеный враг, стоящий у ворот города, полным ненависти к этому врагу и неукротимого желания жить, работать и бороться наперекор и назло этому врагу.
Я свидетельствую, что дом, в котором жила моя сестра, когда я попал в него, находился в абсолютном порядке. Конечно, в нем, как и в большинстве ленинградских домов, не было электрического света, не действовала канализация и воду нужно было брать в ведра из кранов во дворе. Но дом и двор содержались в абсолютной чистоте. Сестра с гордостью показала мне газету, в которой был ее портрет, портрет домашней хозяйки, объект которой вышел на первое место в районе. Вокруг дома, по удобству местности, были густо расположены зенитки. Сестра знала их количество, знала в лицо большинство зенитчиков, как и они знали ее, они были уже товарищами в общем деле обороны города.
И выжили они, моя сестра и дочь ее, еще потому, что при всех мучениях голода они жили по строгому режиму питания. Как бы мал ни был паек, он делился на три части, и надо было приучить себя к тому, чтобы съесть утром, в обед и вечером не больше того, что положено.
Должен сказать, что при всем том я застал свою сестру в очень тяжелом положении. Я знал ее красивой, физически развитой женщиной, в расцвете зрелых сил. Передо мной была почти старуха. В ее черных, гладко причесанных волосах сильно пробрызнула седина. Красивые руки ее огрубели, стали тяжелыми, узловатыми руками чернорабочего.
Первое, что она мне сказала, это то, что она по слабости сил вынуждена была сама сложить с себя несколько дней назад звание начальника объекта. Мысль эта была, очевидно, ей так горька, что слезы выступили ей на глаза, но она тотчас же убрала их платком, и лицо ее приняло то каменное выражение, которое я видел на лицах многих и многих ленинградцев.
Сестра моя, как и большинство ленинградцев, была определена через несколько дней в столовую усиленного питания, где она питалась в течение шести недель. К концу этого срока она стала заметно поправляться. Прежде всего ожили ее глаза, в них снова появился молодой блеск. Спала опухлость век, улучшился цвет лица, она начала чуть-чуть прибавлять в весе, и голова ее перестала кружиться. Я понял, что она вышла из беды и внешне станет такой же, какой была до войны. И только в душе се останется незабываемый след от того времени. Иных людей такие лишения ломают. Но сотни тысяч ленинградцев, подобных моей сестре, стали от этих лишений несгибаемыми, стальными людьми. Горе врагу, когда эти люди потребуют от него расплаты за все содеянное им!
Племянница моя, как и большинство молодых людей, особенно девушек, легче перенесла эту блокадную зиму. Когда я увидел ее, она уже поправлялась, хотя была еще бледна и худа.
Когда мы с племянницей вошли в квартиру, сестра моя с подругой, такой же истощенной женщиной, обедали. Учитывая, что к Первому мая продукты были выданы по повышенным нормам, этот обед можно было бы назвать по ленинградским условиям роскошным. В нем участвовали даже пиво и водка, настоянная на старых апельсиновых корках. В числе блюд был знаменитый блокадный ленинградский студень, студень, вываренный из столярного клея. Как известно, столярный клей варится на костях. Это процесс обратимый. Надо выварить клей, пока не останется один костяной навар, вернее, бывший костяной навар, потом добавить к нему желатина, а потом остудить.
Во время нашего обеда в дверь постучались, и вошла подруга моей племянницы, девушка се возраста, в сопровождении военного моряка. Они стали звать мою племянницу в театр.
– В какой же театр? – спросил я подругу моей племянницы.
– В музыкальную комедию.
– Где она подвизается?
– В Александринке.
– А что идет сегодня?
– «Сильва».
– Уж не Кедров ли поет? – спросил я.
– А вы его знаете? – вспыхнув, спросила девушка.
– Конечно.
– Можно вас на минуточку? – совсем уже покраснев, сказала девушка, отзывая меня в соседнюю комнату.
Мы вышли с ней в другую комнату.
– Вы никому не скажете то, что я хочу попросить у вас? Только вы не смейтесь!
– Безусловно не скажу.
– Если вы знаете Кедрова, попросите у него автограф для меня. Вы знаете, если бы у меня был его автограф, что бы там ни случилось со мной и со всеми нами, – потому что мы ни за что, ни за что не расстанемся с Ленинградом, – что бы там ни случилось, мне тогда не страшно и умереть.
Пусть эта девушка не сердится на меня за то, что я обнародовал ее тайну. Пусть она знает, что ее просьба не только украшает ее молодость, но утверждает неистребимые силы жизни в блокированном Ленинграде. Немцам, зарывшимся в землю под Ленинградом, еще предстоит сгнить в этой земле, а Ленинград жил, живет и будет жить во веки веков бессмертной жизнью.
Я ночевал у своей сестры и ранним утром был разбужен невероятным грохотом зениток. Их было так много, и стреляли они так близко, что казалось, будто они бьют прямо из-под кровати. Сестра моя стояла у раскрытого окна и смотрела на улицу.
– Мои зенитки! Это мои зенитки! – сказала она, обернувшись ко мне с прекрасной улыбкой, сразу преобразившей ее изможденное лицо.
То, что она несколько дней назад передала руководство над объектом, было мгновенно забыто ею. Она была в платке, в теплом жакете, с противогазом через плечо. Какая-то сила преобразила ее, звуки стрельбы действовали на нее, как звуки трубы на боевого коня.
– Давай полезем на крышу, – сказала она мне.
Пользуясь тем, что у меня был уже пропуск на хождение во время воздушной тревоги, я пошел домой.
Несмотря на расклеенный по всему городу приказ, грозящий самыми свирепыми карами гражданам, нарушающим правила поведения во время воздушной тревоги, все ленинградские граждане спокойно по всем направлениям шли на работу.
У Троицкого моста через Неву милиционер стал все же усовещивать одну юную гражданку и убеждать ее идти в убежище, грозясь не пустить ее через мост.
– В убежище! Вот еще новость взяли! – с удивлением говорила юная гражданка.
Милиционер попробовал было удержать ее под руку.
– Отчепитесь! – сказала она, ловко хлопнув его по руке. – Вот еще новости взяли! – сказала она с еще большим удивлением и бодро застучала каблучками по мосту.
Милиционер был, несомненно, прав, а юная гражданка не права. И все же не было никаких сил сердиться на эту неисправимую ленинградку. Как видно, этих сил не было и у милиционера. В СССР нет другого такого города, где бы милиция и частные граждане так понимали друг друга, как в Ленинграде.








