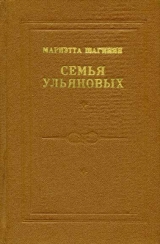
Текст книги "Первая всероссийская"
Автор книги: Мариэтта Шагинян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Сестрорецкий оружейный завод, основанный Петром, уж во всяком случае, как один из первых в империи, мог во весь рост подняться на юбилее, чтобы произнести свой тост.
Арендовавший завод у государства, генерал-майор Лилиенфельдт хотел провозгласить этот тост не хуже, чем у другого начальства. Он на собственный счет (а немцы, как известно, не любят разбрасывать деньги почем зря) нанял музыкантов, купил восемь бочек пива и объявил своим рабочим, что устраивает для них гулянье в Дубовой роще, посаженной когда-то Петром, – гулянье широкое, с немецким пивом, с женами, невестами, детьми и под музыку. Но заведующий хозяйственной частью в селе Сестрорецке, полковник Ладыгин, расставил всюду своих часовых с приказом: никого в Дубовую рощу не пускать, чтоб не помяли травы. Разъярился генерал-майор Лилиенфельдт на полковника Ладыгина! И приказал: музыкантов отпустить, а все восемь бочек пива вылить в Разлив. И тоста не состоялось. Рабочие-оружейники ответили на вопрос гражданской власти «как праздновали» сухим «да никак, ваше благородие, кружки были пустые». А Ладыгин, потирая руки, отпускал в адрес генерала патриотические русские выраженья: «Ступай сам бир трикен, немецкая колбаса, тут тебе не фатерланд!».
Справедливость требует, однако, заметить, что благородный национальный порыв русского военного сердца был объяснен сестрорецкими жителями несколько более прозаически: траву-мураву в Дубовой роще берегли не ради местной живописности и охраны природы, а на сено собственным полковничьим лошадям, – для чего из года в год косили ее в порядке добровольной повинности назначенные из хозяйственной части полковника Ладыгина безответные русские солдатики-новобранцы.
5
Город Симбирск жил собственными противоречиями, о которых симбирцы узнавали частью из опыта, частью из местной газеты. «Симбирские губернские ведомости», кроме объявлений, имели два отдела – официальный и неофициальный. В первом перепечатывались телеграммы и всякого рода новости из «Правительственного вестника»; во втором рассказывалось о событиях местных. Выставке, еще за полгода до ее открытия, были посвящены многие номера, и симбирцы знали подчас о том, что не всегда становилось известно и москвичам: точные суммы пожертвований, от кого и когда; точные указания квадратных саженей, где и на что отведенных; прибытие разного рода экспонатов, от кого и на какую сумму. Хотя не все в этом потоке информации могло заинтересовать Илью Николаевича и пригодиться ему, он аккуратно вырезывал сообщения о Выставке и складывал их в большой конверт, где уже находилась старая карта Кремля и расходившихся вокруг него московских улиц. В том же конверте лежало полученное им из округа официальное уведомление:
«23 мая 1872 года
№ 2733
Казань
Господину Инспектору народных училищ Симбирской губернии.
Имея в виду, что в учебном отделе предстоящей в Москве летом текущего года Политехнической Выставки будет собрано весьма много элементарныхучебных пособий и что при Выставке предположены учительские курсы, Г. Министр Народного просвещения признал весьма полезным и даже необходимым, для пользы учебного дела, командировать на означенную Выставку инспекторов народных училищ Казанского учебного округа, с выдачей им из сумм министерства на расходы по поездке и на проживание в Москве пособий в следующем размере: инспекторам народных училищ губерний Вятской, Пермской и Оренбургской по 300 руб., Симбирской и Самарской по 250 руб., Казанской и Саратовской по 200 руб. каждому, Нижегородской 175 руб. и Пензенской 250 руб. Вследствие предложений об этом Г. Министра Народного просвещения от 18 сего мая за № 4916, покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, уведомить меня – какое время с 1 июня по 1 сентября Вы находите более удобным для командировки в Москву на Политехническую Выставку сроком от 3-х до 4-х недель.
Управляющий округом…Помощник попечителя…Правитель канцелярии А. Троицкий».
К этому уведомленью подшита была другая бумага из округа о том, что, прибыв в Москву, инспекторам народных училищ, как и педагогам, надлежало явиться к господину чиновнику Министерства просвещения, Кочетову, имевшему служебное помещение для приема делегатов тут же, на Выставке.
У Ильи Николаевича как раз в это лето было такое множество дел, и так одно дело заходило своим концом за начало другого, – казалось бы, до бесконечности, – что решить о поездке было ему трудненько. Приблизительно расчислив сроки, он тогда же ответил в округ, что «более удобным для командировки в Москву считает время с 3-го по 31-е июля». Июль – это ведь еще так далеко… Вчера только белый пух с яблонь осыпался, и сирень еще не отцвела.
А свои, симбирские, противоречия, которыми заняты были философские умы города, доходили до инспектора, по горло занятого школами, скорей как досужие пересуды. Одним из них, занявшим два вечера в дворянском клубе, было обсуждение загадочной народной души. Время, когда вопрос о «русской душе», поднятый творениями господина Достоевского, переплеснулся со страниц его романов на Запад, а с Запада назад, на Русь, – еще не пришло. Но уже предпосылки к тому времени начали нарождаться отчасти из фактов, сообщаемых газетами, отчасти из нашумевшего в 71-м году в Петербурге нечаевского процесса.
– Какое противоречие! – воскликнул в один из вечеров в клубе за картами молодой Языков. – С одной стороны – крестный ход из Жадовской пустыни, в память избавления нашего города от Стеньки Разина. Что там творилось! Огромное стечение… мужики на живот валились перед Чудотворной. Я сам видел одного солдата – встал на колени, да так, по пылюге, прополз на коленях с полверсты. А вот с другой стороны – преступление инфернальное, диабольское, средневековое, за это в средние века на кострах жгли: этот рекрут шестьдесят третьего батальона в уездном нашем Ардатове. Отказался от причастия. А когда его, наконец, обломали, – взял его на язык, а потом выплюнул и растер сапогом. Святое причастие! Какова душа русского народа, какова ее растяжимость. На коленях по пылюге полверсты и святое причастие – сапогом! До этого немец ваш умрет – не додумается, хоть он и гегельянец.
– Вам сдавать, – ответил партнер. – А противуречие, пардон, очень простое. Который на коленях полз – попросту выслуживался перед начальством. А который плюнул да растер, – или он из сектантов и ему причаститься грех, или выбивался из всех сил от службы царской, чтоб лучше в тюрьму, чем в солдаты.
Но трезвое объяснение никак местных философов не удовлетворило, и они еще долго, за ужином, приводили случаи загадочного поведения русского мужика. Об этом разговоре в клубе сообщил Илье Николаевичу Ауновский, когда встретился с ним в Духов день на торжественном молебствии.
До этого дня, 5 июня, жители Симбирска брали воду из реки, кто из Волги, кто из Свияги. Зажиточным вода развозилась в бочках, с оплатою за ведро. Какова же была радость населения, когда в Духов день были, наконец, открыты в Симбирске первые водопроводные колодцы для снабжения жителей водой. Весь город собрался в Святотроицком соборе послушать поучение протоиерея Охотникова, превзошедшего в тот день красноречием самого Иоанна Дамаскина. Темой для проповеди он выбрал слова псалма «На горах стонут воды: дивны дела твоя, господи». От губернатора до нарядного, с блестяще заглаженными на пробор волосами, молодого и красивого Ивана Яковлевича Яковлева, – все стояли и слушали проповедь. Был в форменном сюртуке Илья Николаевич, нетерпеливо дожидавшийся ее окончанья, – его ждали дрожки, чтоб ехать в уезд. А протоиерей творил свою речь и наслаждался. Он знал, что ее напечатают в газете:
– «Горы наши, обнажаемые ранее других местностей от снего-светлой одежды, под знойными лучами палящего главы их солнца, – горы, естественно, первее всего жаждут благодатной влаги. И наш град, стоя на верху горы, на высоком холме, при всем обилии вод в обтекающих его реках, всегда нуждался в воде… Исполняется наше давнее желание: на горах Симбирска станут вóды. Теперь несчастный бедняк не будет томиться жаждою от недостатка воды или вкушать воду из кладенцев сокрушенных; теперь с меньшим ужасом будем взирать мы и на страшное пламя, которое еще так недавно истребило почти весь наш град…»
Ауновский, старый друг Ильи Николаевича, поспешил выйти вслед за ним, не дождавшись, покуда хлынет из собора вся масса народа. «Несчастный бедняк» среди нее не был: он в поте лица работал в это время на Чувиченском острове на Волге, где отец Павел Охотников владел рыбными ловлями, покосами и различными, в аренду сдаваемыми, кустарными предприятиями. Рассказав Ульянову о «загадочной душе», Ауновский прибавил:
– Знаешь, кто купил право открывать колодцы? Заплачут у населенья денежки.
– Да ведь город?
– Какой город! Сдал наши колодцы господам Струве с гарантией – двадцать пять тысяч ведер ежедневной продажи.
– Двадцать пять тысяч ведер хватит на всех по горло, – отозвался Илья Николаевич.
Ему было жарко в мундире, солнце жгло ему лысинку, глаза улыбались всему вокруг, – сияющей голубизне наверху, голубому теченью Волги, делавшей внизу, под горой, свою живописную извилину, голубям, как бы нехотя клевавшим овсинки в сухом лошадином навозе, и звукам музыки, откуда-то из открытых окон лившимся на улицу. Вот сейчас раздвинется перед ним знакомая ширь с просохшей дорогой, легко пойдут по ней колеса. В прошлом году в это время проехать нельзя было от грязи и вместе с дождем – перепадал серый какой-то снег, а сейчас хоть первую траву коси, хоть на земле сиди, – раннее, раннее лето.
– Вот мы и с теплом, и с питьевой колодезной водой, – улыбнулся он в отступившую, словно ежик, от его улыбки волосок от волоска бородку свою.
– Хватит-то хватит, – ответил Ауновский не на эту фразу, а на предыдущую, – да почем будет стоить, вот вопрос! Ведь господа Струве хлопочут не из-за себестоимости. Им прибыль нужна. Согласись, неисправимый ты оптимист, Илья Николаевич, – что куда лучше было бы городу самому продавать населению воду ну там с копеечной надбавкой. Зачем ему посредник понадобился? А уж господа Струве, будь уверен…
– Не увег'яй, не увег'яй, не увег'яй, – картаво пропел Илья Николаевич, быстро сворачивая на Стрелецкую улицу. – Ты у меня первый кандидат в директоры Порецкой семинарии. Так что будешь пить чай не из колодцев господ Струве, успокойся, пожалуйста!
Он быстро переоделся дома и зашел в детскую, попросив ямщика, ходившего возле лошадей, обождать еще с минуту.
Мария Александровна уже собрала ему на дорогу и укладывала все в неизменную клеенчатую сумку. Толстенький Володя в рубашке и шерстяных носках, связанных ему няней, уже разгуливал по всем комнатам, слегка кривя ножки под тяжестью своего тельца. Рыжеватые волосы на большом лбу чуть-чуть кудрявились. Говорить он еще не мог, а только кряхтел, хотя крохотная, как кукла, Оля опередила его. Она сказала Илье Николаевичу явственно и четко «папа».
Илья Николаевич поднял дочку, легкую, как пушинка.
– Девочки завсегда раньше мальчиков дар обретают, – по-книжному пояснила няня Варвара Григорьевна, тоже ходившая в церковь, – зато поздний овощ крепче раннего, – прибавила она уже своим лексиконом, не желая дать своего любимца в обиду. – Володечка по осени лучше Оли заговорит!
– Няня, – так же четко и явственно произнесла Оля на руках у отца.
Илья Николаевич засмеялся, поставил ее на пол и, подхватив Володю, подбросил к потолку. Теперь хохотал и малыш, цепляясь за отца и открывая первые щербатые зубки во рту. Потом инспектор прошел в другую комнату, где, усевшись за круглым низеньким столом, шестилетний Саша и старшая, Аня, которой в августе уже исполнялось восемь, сообща что-то громко читали из «Родного слова» Ушинского. Аня, умевшая читать и писать, старательно обучала этим наукам Сашу, а вечером, когда Мария Александровна поканчивала с хозяйственными заботами, старшие дети занимались с ней немецким языком.
Приласкав обоих и послушав с минуту, как Саша медленно, целиком произносит слова по книге, сперва слитно соединив их в уме, – детей учили читать не по складам, а сразу все слово – он прошел к жене и, притворив за собой двери в детскую, крепко прижал ее к себе. Нужно было успеть поручить ей многое: «Если придет Арсений Федорович… Если пришлют из Казани заказанные книги… Если понадобятся деньги…» Но вместо всех этих поручений, которые, он знал, она выполнит лучше его самого и будет сама знать, что делать, он только постоял так, обняв ее, и вздохнул. Ему было, как всегда, жалко оставлять ее одну с детьми. Но ямщик волнуется, – сегодня и так поздно для выезда.
И вот уже опять едет Илья Николаевич, сперва по рытвинам симбирской околицы, потом знакомая ширь распахивается перед ним, дорога становится мягкой, а ямщик, любящий поговорить с барином, поворачивается боком и сетует, что бог дождичка долго не посылает, а дождя бы во как нужно. Левая пристяжка вдруг поддает задними ногами, словно кавалерийская лошадь в галопе, пыль и ссохшаяся грязь комом летят в самую бричку, и ямщик садится прямо, лицом к лошадям, перестает говорить и начинает перебирать вожжами.
Илья Николаевич изучил и полюбил эту особую музыку перебирания вожжами жилистой рукою своего ямщика. Много раз вспоминал он поэтов, воспевших ямщицкую удаль, ямщицкое горе, ямщицкую песню. Он часами следил, как работает рука ямщика, пропуская вожжи между большими и прочими пальцами, давая им скользить по ладони: и снова натягивая и как-то таинственно-непонятно для наблюдателя дергая то за одну пару, то за другую засаленные до блеска ремни, хотя пристяжка и коренная ничуть не отзываются на это дерганье, а поворачивать никуда не надо. Или вдруг натягивает он все четыре вожжи в обоих кулаках, а потом встряхивает ими, словно понукает, а лошади знай бегут, как бежали, и виду никакого не подают на эту музыку переборки. Однажды Илья Николаевич даже не вытерпел и спросил своего постоянного возницу, Еремеича, как же это лошади бегут ровно, ничего не меняя, в то время как он непрерывно трудится над вожжами, то притягивает, то дергает, то опускает… Для чего нужно это?
Еремеич ему тогда долго не отвечал. А когда ответил, видимо обдумав ответ, Илья Николаевич был поражен глубоким смыслом его слов.
– Надо ей, лошади, чувствие дать, что ямщик – он над ней трудится, работает. Вот она тогда и будет бежать ровно, как полагается. А поворачивать – это она и без вожжей лучше нашего брата найдет дорогу. Хоть и тварь она, а понимает. Я, барин, в ямщиках состою издавна. И скажу тебе, Илья Николаевич, лошади первое дело – чтоб ты вожжами работал. Спиной она тебя воспримат, ты работаешь – хорошо, а лошадь слушается, работает. Ты зазевался, задумался, и она, лошадь-то, остановится, иной раз голову повернет. Вот и сидишь, плетешь в руках вожжи, как баба кудель, – чтоб ей, коняге, обидно не было: она работает, и ты работай.
Еремеич говорил о лошади собирательно, объединяя двух своих коней, а подчас и тройку, в одно общее понятие. Илья Николаевич подумал тогда: до чего это верно! Хочешь, чтоб другие трудились, показывай, что сам над ними трудишься…
И снова, как много раз в разъездах, поразил его простой и ясный разум народа, всегда построенный на опыте, выведенный из жизни. Сколько твердили ему со всех сторон о трудности работы с крестьянами, об их упорстве на бессмысленном и стародавнем, об уклончивости их ответов, – а как это оказалось со всех сторон неверно. Он мог разговаривать с ними не только с пользой для себя. Ему было интересноразговаривать с ними.
– Мужик умен… А вы, – «загадочная душа народа», мистики… – почти вслух подумал он, вспоминая рассказ Ауновского.
Дорога пошла еловым лесом, начали жалить комары и кусать оводы, густо пахнуло ландышем из лесу, а молодым земляничным листом с лесных прогалин, и до чего же любил эти запахи раннего лета Илья Николаевич! Комары застревали у него в густой бороде, а он ловил их широкой ладонью и улыбался, – всему, даже этим досаждающим, путающимся в волосах комарам.
Инспектор ехал сейчас в село Порецкое, чтоб посмотреть и проверить внутреннюю отделку здания, уступленного удельным ведомством для будущей учительской семинарии.
Весь прошлый год прошел у него в борьбе за эту собственность, симбирскую, на всю их губернию, – учительскую семинарию. Министерство постановило открыть всего их пять: в Санкт-Петербургском и Московском, в Харьковском, Одесском и Казанском учебных округах. И началась война губерний! У каждой были в округе свои защитники. В конце концов победила Саратовская, предложившая для учительской семинарии свой Сердобский уезд.
Илья Николаевич думал было, что прогорело дело. Он знал по опыту: сердобцы в свою семинарию примут только своих, а когда кончат они учебу, их разошлют по всей Саратовской губернии, имеющей нужду в учителях, как имеют эту нужду и симбирцы. И вдруг – неожиданность! Сердобский уезд тщетно подыскивает у себя в деревнях помещение для семинарии. Нет и нет этого помещения! А тут с помощью Белокрысенко, – золотой он человек, – удельное ведомство отвалило им здание в селе Порецком, замечательное здание, какие строит только казна, – с колоннами на фасаде, или хоть не с колоннами, это он перемахнул, но как бы в колоннах, – трехэтажное, каменное, с палисадником перед ним.
Он видел его, при своих наездах в Порецкое, только мельком, никак не полагая, что будет посылать туда своих кандидатов на обученье. А сейчас это белое внушительное здание, со средним корпусом в три этажа, с пятнадцатью окнами во всю длину второго этажа, казалось ему настоящим университетом для будущих народных учителей. По его предложению училищный совет утвердил будущим директором давнишнего друга его, естественника Владимира Александровича Ауновского, – и Ауновский с радостью согласился. Ауновский не только был педагог, но обладал краеведческой жилкой или, как тогда чаще говорилось, интересом этнографа. Он раньше Ильи Николаевича переселился из Нижнего в Симбирск, он же подыскал и квартиру Ульяновым на Стрелецкой улице. Он отлично изучил и город и губернию, и как много лет раньше, будучи в Пензе, интересовался залежами угля и даже писал об этом, так и теперь, не успев в Симбирск перебраться, занялся местной статистикой, стал редактировать «Симбирские вестники», «Памятные книжки Симбирской губернии», писал в газеты – словом, живой интерес ко всему ключом бил в этом человеке, и без Ауновского, может быть, и губерния не знала бы о себе так много, как знает сейчас.
Порецкая учительская семинария была излюбленной мыслью Ильи Николаевича. Он страстно хотел ей успеха; и каждой мелочью – переделкой внутреннего помещения под классы, отводом места под общежития, нужною мебелью, материалом для стенных переборок, обоями, числом и составом книг в библиотеке – занимался самолично. Да, это было великое счастье, что сердобцы не смогли найти помещение, а он этим воспользовался и провел в округе постановление – открыть семинарию в селе Порецком! Сейчас он ехал туда, чтоб проверить строительную часть, а кстати, и проинспектировать школы в Алатырском уезде… Как всегда, дни перешли в недели, одно дело потянуло за собой другое, и лишь к двадцатым числам июня смог Илья Николаевич вернуться из своей поездки. И как всегда, – обросший, бронзовый от загара, в черной от пыли рубашке, он прежде всего потянулся к бане, чтоб не занести грязи в детскую. На письменном столе ждали его бумаги. Их было очень много, из уездов, из города, из округа. Два больших конверта со штампом «секретно», он отодвинул прочь, чтоб не портить первого дня приезда. Но бумагу из округа прочитал. Это был второй запрос, уже за № 3219 и за подписью помощника попечителя, И. Соловьева, – когда же инспектор найдет удобным ехать в Москву на Выставку и «явиться в Казань для получения следующих ему денег». Бумага была от 13 июня, а получена у них 21-го…
Кажется – только еще вчера думал о Выставке, как о чем-то бесконечно далеком; вчера, в разговоре с Еремеичем, Москва вставала, как нечто почти нереальное. А вот и последние дни июня! И если попасть к сроку – надо опять собираться и ехать. Выставка подошла совсем близко… А дел больше прежнего, дел уймища.
Час назад, вернувшись из бани, Илья Николаевич чувствовал себя бесконечно усталым. Он хотел бы прилечь на диван, слушая, как бегают старшие дети, как кричат и лопочут младшие, и наблюдая стройную тень на стене тихо проходящей из комнаты в комнату милой жены своей. И вдруг усталости – как не бывало. Зная, что все успеет, все устроит, все распределит, все обдумает сразу же, – Илья Николаевич вскочил с живостью мальчика и почти подбежал к стене, на которой висело у него расписание пароходов по Волге…








