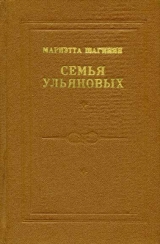
Текст книги "Первая всероссийская"
Автор книги: Мариэтта Шагинян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
– Покажите письмо! – нетерпеливо попросила девушка, и Чевкин, не чинясь, вынул смятое, много раз читанное, не совсем грамотное письмо Ольховского, посланное ему из Петербурга.
Сдвинув брови, с большим вниманием, дважды прочитала это письмо девушка. Для нее это был как голос из гущи народа, как запах земли. Читая, она почти забыла о Чевкине, – все ее внимание обратилось к Ольховскому, к его образу, его чувствам и его мыслям, какие пробивались из письма через беспомощный синтаксис. Образ был обаятельный для лавристки, какою она себя считала. Сотни раз, представляя в образах и картинах свое хождение в народ, она говорила в мыслях именно с такими Ольховскими.
– Эх, вы, – голос ее зазвенел укоризненно. – Были с человеком и не смогли ну хоть грамотой раза два, вечерами, позаняться, выправить ему язык. Он учитель, а пишет, как ученик. При его интеллигентности в два-три урока освоился бы с письмом.
Лицо Чевкина потемнело. И без того уже темно было на душе у него в эту минуту, когда он сознал, какие возможности потерял в своей роли гида на Выставке, – а еще это неожиданное, недоброе, но справедливое замечание. А девушка уже заметила, как он изменился в лице, и тут же другим тоном прибавила:
– Но вы, видимо, им все-таки много дали. Бессознательно, а дали. Поглядите только, как он к вам обращается, как доверчиво выкладывает всю душу. Нет, вы все-таки распропагандировали его. По этому письму вижу, что вы – честное слово – хороший пропагандист. Жалко, что не выступили у нас вчера.
– Знаете, а я ведь хотел выступить! – неожиданно для самого себя вдруг признался Федор Иванович.
– Ну и выступили бы!
– Меня Жорж Феррари вытащил – домой идти. Напомнил наш возраст. В самом деле, мы с ним лет на десяток старше были всех присутствовавших.
– Ничего подобного, – важно сказала девушка, и опять сверкнули золотинки в ее детских глазах. – У нас и не такого есть возраста. У нас одному члену кружка тридцать два года!
Она так произнесла эту злополучную цифру «тридцать два», что у Чевкина екнуло сердце. Каких-нибудь четыре года, и ему самому стукнет тридцать два!
– А вы как хотели выступить? Возьмите, да и выступите сейчас, я вас буду слушать за весь кружок.
– Я бы так начал: «Дорогие молодые друзья!» («Ой, – воскликнула девушка и прибавила, встретив его вопросительный взгляд: – Только не так, не по-тургеневски!») – Он опять начал, но уже без обращенья: – «Я попал к вам неожиданно и думал, что случайно, а сейчас уверен, что не случайно. Для меня важно было попасть к вам, потому что я на распутье. По своей природе я совсем не революционер, то есть у меня нет таланта революционера и характер совсем не подходящий, очень тихий, мирный. Но я отнюдь не реакционер и понимаю вас, думаю, что превосходно понимаю. Вы не все одинаковые, одни, мне кажется, не идут дальше чтения, изучения экономики, желания просветить народ. Другие хотят идти в народ, чтоб поднимать их на восстание, на революцию. Третьи проповедуют сразу взрыв, восстанье и считают, что в народе уже все назрело для этого. Но при всех этих различиях убежден, что вы одинаковы в чувстве долга перед народом. Я какой ни на есть, – может, самый терпеливый и пассивный среди вас – тоже чувствую свой долг перед народом и в этом смысле вполне вас понимаю. Но вы знаете, как выплачивать свой долг, а я не знаю. Попросту, ну реально, что ли, я не знаю, что надо сделать, чтоб не чувствовать вины перед народом. Когда я верил юношей в бога – мне иногда кажется, я до сих пор верю в бога, – на меня подействовали бы слова: раздай все, что имеешь, и иди за мной. Отречься от благополучия, правда, весьма относительного, и идти по стопам Христа. Но и тогда, юношей, я бы задал вопрос: хорошо, иду по стопам, а дальше что делаю? Кому какая польза, если иду по стопам? Наоборот, других обременять, – хоть и проповедовать, а есть буду чужой хлеб, не мною в труде посеянный, не мною выпеченный. Это в своем роде экономически означало бы: я вам отдаю свое имущество, а вы взамен меня кормите. Цинизм, но по сути ведь именно то же самое, правда? Но я не юноша, сейчас уже на эти слова не откликаюсь, мне нужны другие слова, быть может – ваши слова: что мне делать, что делать, посоветуйте, чтоб не прожить свою жизнь без всякой пользы?»
Пока он говорил, а сказал он больше, чем думал сказать, и по времени говорил долго, девушка глядела на него и, казалось, изучала каждую черточку, каждое движенье его лица. Она совещалась сама с собой, к какой человеческой категории его отнести. Он безусловно искренен, – это в его пользу. Он из того меньшинства, той «педагогической семинарии», хотя и без диплома, о которой пишет Лавров. Значит, есть что другим передать, – но сперва спросить, что именно он хорошо знает. Пришел со своим вопросом не как чиновник к начальству, не как читатель к писателю, – эти порядком писателям надоедают, а писатели романов – сами не знают, что им ответить, – пришел к нам, к молодежи, это в его пользу, и в пользу сознание долга перед народом. Но, с другой стороны, пассивность, не революционер, а что, интересно, он понимает под этим «не революционер»?
Когда Чевкин перестал, наконец, говорить, вынул платок и обтер им вспотевшее на солнце лицо, она спросила:
– А скажите, что именно вы знаете? То есть из «чего-нибудь да как-нибудь» осталось ли у вас положительное, экзамен выдерживающее знание какого-нибудь, предмета?
– Осталось, – подумав, ответил Чевкин. – Знаю французский, немецкий, английский, латынь – хорошо. Итальянский, греческий – хуже. Черчение. Игру на рояле. Историю архитектуры. Физику и математику в пределах первого курса университета. Остальное – в пределах гимназии. Танцую. Даже – камаринскую! Любил гимназистом танцевать. Кажется – все.
– Господи боже! – вздохнула девушка. – Если б я когда-нибудь столько знала, да я бы горы своротила! А вы раскисли. Ну пока оставим это. Второй вопрос: не революционер. Что вы вкладываете в эти слова – «не революционер»?
Федор Иванович опять задумался, на этот раз немного дольше. А когда начал отвечать, заговорил медленно, подыскивая каждое слово:
– В целом – я почти всегда жизнью, то есть действительностью, верней – той частью жизни и действительности, в которой в каждый данный момент обретаюсь, – доволен. Вижу, что есть лучшего в ней, как говорится – положительного, и это – сразу – без особого наведенья, без размышленья. Лучшее бросается в глаза, захватывает, иной раз увлекает. Критическое чутье почти отсутствует. То есть мне гораздо тяжелее подходить к вещам критически. Просто не хочется критиковать. Есть так много прекрасного – в природе, в людях, в книгах, так интересно многое, что совершается, например – в науке, в общественной жизни, – что не тянет выискивать отрицательное. Говорю «доволен жизнью» не в том смысле, что не бывает минут отчаянья, безнадежности. Такие минуты есть. Такую минуту вчера утром, например, переживал. Но это от недовольства не миром, а самим собой, презрение к себе, неверие в свои силы.
Он замолк и несколько виновато повернулся к девушке. Он старался все передать в точности, но, когда говорил, что-то неприятное, протестующее шевелилось в нем.
– Очень это плохо? – нерешительно спросил он, заглядывая ей в глаза.
Но глаза девушки не смотрели на него, они были опущены. Ей, в ее собственном внутреннем мирке, это признание показалось чем-то начисто стершим все ее предыдущие, добрые о нем выводы. Но выразить это на словах – не так-то легко. И несколько минут она сидела молча, не глядя на него, а он тоже стал глядеть на дорогу.
Они ехали сейчас густым лесом, и время было за полдень. Лошадь, видимо, притомилась, от боков ее шел пар, и она часто взмахивала хвостом, отгоняя мух. Возница подремывал и едва-едва шевелил вожжами. Вдруг Чевкин услышал, как девушка заговорила, – не своим обычным, полноводно-звонким голосом, а как-то глухо:
– Видите ли, я мало над таким типом думала, поэтому не сразу отвечаю. Прогресс по Лаврову, – и мы все с этим абсолютно согласны, – делает «критически мыслящая личность». Без чутья критика, без взгляда на недостатки, на отрицательную сторону жизни, нет движения вперед, а жизнь ведь сама есть движение вперед, иначе ни в чем не было бы смысла. Реакционеры более полезны, чем вы, например. Они так и высматривают отрицательное, только не там, где надо, – они именно в положительном видят отрицательное. Но они полезны, чтоб с ними бороться… А вы… – Она чуть не плакала, ей не хотелось обижать человека, не больше всего не хотелось, чтоб этот объект пропаганды оказался неспособным воспринять пропаганду. Почти сквозь слезы она махнула на него рукой. – Вы просто безнадежный какой-то. Вас и по Спенсеру некуда поместить. Ну подумайте, раскиньте мозгами: вокруг безобразие творится, правительство озверело, школу обезобразили, печать обезобразили, людей ни за что ни про что в тюрьму сажают, в. деревнях голод, мрак беспробудный, девять десятых народа человеческих условий для простой, скромной жизни не имеют, – и вы довольны.Довольны! Подумайте, ведь это узость и даже не узость, куриная слепота какая-то!
Неизвестно, что бы ответил ей расстроенный Федор Иванович, если б извозчик неожиданно не повернулся к нему. Лошадь стала.
– Барин, дневать пора, – сказал он внушительно. – Лошади дать отдых часок, овсеца ей засыпать, да и нам не худо поисть, – он так серьезно, с таким ударением выговорил это «поисть», что Чевкин с ужасом вспомнил: никакой еды не купил на дорогу! И тоже был голоден, хотя совсем в разговоре не замечал этого.
– Может быть, тут деревня поблизости?
Девушка уже доставала свой узелок из-под его шляпы.
– Никакой нам деревни не нужно, управимся и без деревни. Мне Липа оладий наложила, яиц дала, еще, кажется, чего-то, – она рассчитывала на день пути на подводе. Лишь бы тут вода была.
– Ручеек вот именно есть, – отозвался извозчик, – без ручьев какие же привалы? Лошадь-то ведь напоить в первую голову надо. – Он уже отпрягал, выводил свою конягу из оглобли, поогляделся и повел ее куда-то глубоко в лес.
Девушка посмотрела ему вслед, посмотрела на расстроенное лицо Федора Ивановича и вдруг с детской откровенностью сказала ему:
– Вы пойдите вон туда прогуляться, а я вон сюда, а потом вместе к ручью, воды в кружку наберем, руки помоем, и я разверну скатерть-самобранку. Только шепните, чего хотите, все появится! – И, подобрав длинное свое платьице, она быстренько исчезла за кустами.
Через полчаса они отыскали ручеек, где извозчик уже сидел на камне и солил из тряпицы свой хлеб, а рядом с тряпицей лежала у него на камушке тонкими ломтями нарезанная луковица. Они прополоскали руки и вытерли их о длинный подол девушки; набрали у верховья ручья в большую кружку чудной, студеной влаги и пошли к пролетке. Скоро «скатерть-самобранка», большой кусок ткани, напоминавшей Чевкину вчерашнюю короткую юбку его соседки, – был аккуратно растянут на траве, а на нем, в свежих, сорванных поблизости кленовых листьях, появились знаменитые поповские оладьи, яйца, мясные котлеты. Все было вкусно, и все они быстро одолели, напившись по очереди из кружки.
– Пришлось-таки отведать Липочкины оладьи! – пошутил Чевкин.
Но он не забыл разговора. Напротив. Покуда длилась их трапеза и звучали безобидные шутки, он очень серьезно обдумывал свой ответ. Представив себе, что это исповедался в «отсутствии критицизма» не он, а кто-то другой, совсем посторонний, а ему, Чевкину, поручено быть адвокатом этого постороннего, он все время, пока они ели, копил аргументы за этого постороннего. К удивлению, они сами собой рождались в голове, и, обдумывая их, он все меньше и меньше испытывал то неприятное, протестующее чувство, какое щемило его во время исповеди.
– Ну-с, Афина Паллада, продолжим наши прения, – сказал он, когда все было опустошено и скатерть-самобранка скатана в пакетик и водворена в пролетку.
– Что-то вы очень расхорохорились, – с опаской протянула девушка, еще не совсем перейдя с шутливого на серьезный тон. – И почему «Афина Паллада»?
– Потому что вы на нее удивительно похожи. Мудрая, как… ну как Афина. И в то же время дите новорожденное по своей ребячливости. Известно ведь, что Афина Паллада родилась из головы Зевса сразу, со всеми атрибутами мудрости, – но ведь родилась!Новорожденная была.
– А знаете, на кого вы, сударь похожи с этими вашими бачками и длинным носом? На Пушкина, честное слово.
Чевкин был польщен. Но все же заметил:
– Пушкин темнее был.
– Нет, Пушкин блондин был и голубоглазый. Я знаю, мне моя бабкарассказывала. А бабкамоя – та самая просвирня, которая на Хитровом рынке бубликами и просвирками торговала и Пушкину пример дала чистоты русского языка.
– Не может быть!
– А вот и может! Бабка просвирня, а мой отец – булочник в Раменском, вот кто я, если хотите знать. И никаких иностранных языков, кроме немецкого, в жизни не знала, а немецкий выучила самоучкой.
Неизвестно было, шутит она или говорит серьезно. Опять Чевкин почувствовал, что ему все равно, кто она такая; булочник или не булочник, – но всё, и девушка, и ее речи, и эта поездка были ему нужны, как в детстве сказка, и он никому и ничему не дал бы отнять всего этого из своей жизни.
Стал вдруг накрапывать дождик, сперва редкими каплями, потом дробно и туго, чаще и чаще, покуда не зачастил так, что пришлось поднять верх пролетки. Они уселись в ее глубину, извозчик застегнул кожаный фартук, прикрывший их чуть не до подбородка, сам накрылся какой-то невзрачной рогожей и влез на козлы. Отдохнувшая лошадь резво побежала по прибитой дождем дороге.
– Вот, госпожа Афина, – с важностью сказал Федор Иванович, – вы, кроме реакционеров и революционеров, ничего себе представить не можете и меня с грязью смешали. Однако ваш Лавров не отрицает накопленное знание, искусство, науку, цивилизацию, ведь он как раз и считает прогресс накоплением этих ценностей. Этого отрицать вы не сможете, вы сами это читали. Но мало копить, надо хранить накопленное. Хранить, развивать, расширять обладание им все большими массами людей. Кто хранит и продолжает культуру? Консерваторы, госпожа Афина, консерваторы, – не в политическом английском смысле, а в буквальном. Те, кто видят, понимают, любят прекрасное, нужное, доброе, кто пишут историю… Они ее, может быть, не делают, на это природа им каких-то зубов не дала, – но они ее пишут, хранят, держат в памяти человечества, передают потомству, и такой сорт людей тоже необходим для прогресса.
– Наелись оладьев, набрались сил, и гляди – какие аргументы изыскали! – сонно ответила девушка, которой монотонная дробь дождя по кожаному верху нагоняла дремоту. – Пусть так, мы не отрицаем роли ученых и признаем, что и творцы двигают прогресс. Но вы ведь не Ньютон, не Рафаэль, не писатель даже какой-нибудь вроде Боборыкина, хоть и похожи на Пушкина, это не отрицаю. Вы-то ведь только барчук-недоучка, вот вы кто.
– А вы – плохой пропагандист, – с силой вырвалось у Федора Ивановича, – плохой, никуда негодный пропагандист, не добрый, не чуткий, бьющий людей по больному месту, да будет вам это известно!.. – Он был смертельно, как ему казалось, оскорблен. Все опять заболело, заныло в нем от этих беспощадных слов «барчук-недоучка».
А девушка не на шутку испугалась. Ей не было видно его лица, твердый кожаный фартук мешал как следует повернуть голову. Но она чувствовала – объект ее пропаганды выглядит сейчас ужасно. Ей не то что жалко его было, – она знала, что насквозь не права и что действительно – плохая, плохая пропагандистка. Но как исправить дело? И всего-того хуже, что ей взаправду хотелось спать. Хотелось спать, как ребенку, который хоть и старается изо всех сил не спать, а знает, что сразу заснет. И она, словно сама природа подсказала ей самый лучший исход, проговорила:
– Оба мы друг друга обидели, по самому больному месту. Но это не мы, это усталость. Давайте простим друг другу, и честное слово – отдохнуть надо. Нельзя весь день спорить.
Последние слова она сказала уже сквозь сон и, засыпая, щекой коснулась шелковистых «пушкинских» бачков Чевкина, как следует устроилась головой на его плече и мгновенно уснула.
Чевкин не шевелился всю оставшуюся дорогу. Ему было необыкновенно хорошо, и он был перепуган внезапностью перехода от полного несчастья, какое испытал полчаса назад, – к полному абсурдному счастью.
Раменское подошло совсем неожиданно, когда и пяти часов еще не было. Соседка его тотчас проснулась, отстегнула фартук и попросила остановиться, не доезжая до дому. Вся она была сейчас чем-то не в шутку растревожена, и Федор Иванович видел, что ей не до него. Она подхватила свой сверточек и несколько раз по-детски тряхнула ему руку, прощаясь. Отбежав, обернулась еще раз, крикнула «до скорого!» и скрылась за поворотом.
– Шесть рубликов, никак нельзя меньше, лошадь совсем упарилась, ночевка тоже денег стоит, – говорил между тем извозчик, втолковывая растерянному и полному всем пережитым Федору Ивановичу житейские истины. – Шесть рубликов, пять за проезд, как был уговор, рубль за ночевку себе и лошади.
– А как же я? На чем я назад поеду?
Минут пять они обсуждали этот серьезный вопрос, совершенно не предусмотренный в Москве, и если б не дождь, Чевкин, наверное, двинулся бы домой пешком. Он испытывал необычайный душевный покой и мог бы с этим чудесным чувством прошагать хоть сто верст. В конце концов на фабрике Малютиных, с помощью инженера, знакомого ему по Выставке, удалось найти фаэтон с двумя лошадьми, которые и домчали его к ужину в дом Феррари.
– Где вы пропадали, друг мой, Федор Иванович? – огорчительно сказал ему старый Феррари. – Жорж по всей Москве бегал, вас разыскивал. Делля-Вос прислал мальчика с письмом, они там очень опасаются вашего отказа. Переживают – вынь да положь Чевкина, вот оно как для вас все оборачивается.
– Завтра утром непременно пойду, – ответил Чевкин.
После ужина он зашел к Жоржу в комнату и сел перед ним, не зная, как начать. Жорж, серьезный и доброжелательный, без тени улыбки глядел на него.
– Значит, познакомились с нашей Леночкой?
– Леночка… Кто такая Леночка?
– Да ведь вы ее, Липа мне рассказала, утром на рынок взялись проводить?
– Так это была Леночка! – ахнул Чевкин.
– Ну да, очень хороший, очень глубокий человек. Видели у нее свежий шрам на щеке? Отец ножом полоснул. Приходит пьяный домой, таскает за косу, бьет чем попало, регулярно книжки ее сжигает. Как она из этого омута умницей такой выросла, просто непонятно. Единственное спасение для нее – фиктивный брак. Мой папан денег дает на учебу, он не первую русскую в Швейцарию отправляет. Товарищи тоже кое-что собрали. Ну как? Выручите вы девушку?
– Хорошо, – глухо ответил Чевкин.
Он знал, что будет любить эту Лену, фиктивную свою жену. И, может быть, никогда не будет любим ответно.
Глава восьмая
УЧИТЕЛЬСКИЕ СЪЕЗДЫ
1
Обогащенный Выставкой, Илья Николаевич приехал домой, и в первые часы приезда, отданные, как всегда, семье, – между распаковкой вещей, раздачей подарков, счастьем свиданья с женой и детьми, бесчисленными вопросами, бесчисленными рассказами – успевал думать о работе. Кроме накопившихся на его письменном столе бумаг, потока очередных дел и постоянного у него на службе приема посетителей, – на очереди было открытие учительской семинарии в селе Порецком и перевод туда слушателей с Симбирских курсов, – большое событие в губернии и в личной его жизни. А за этим открытием начинались другие дела, важнейшие для него, – организация учительских съездов.
Он уже имел опыт одного такого съезда, который вернее было назвать смотром, – для Сызрани. С самого конца прошлого, 71-го года, по 5 января нынешнего, 72-го, он провел смотр сызранских учителей народных школ этого обширного уезда. Нужно было выяснить, каким способом велось в школах преподаванье, знакомы ли были учители с новейшими методами и как их применяли. При своем первом посещенье Сызранского уезда он уже убедился, что дело там обстоит плохо, и действительно – на съезде пришлось не столько слушать и смотреть, сколько учить и показывать: из 24 учителей, съехавшихся в Сызрань, 22 понятия не имели о новом звуковом методе. Часть их вела, правда, урок по барону Корфу, но были еще и такие, кто месяцами тянул с детьми свое «ба-а – ба», по-старинному буки-азу. И все же съезд тогда прошел с пользой. Сам он, как обычно, засел на последней парте в классе, давая действовать самим учителям. Реферат письма-чтения сделал учитель Николаев, – и очень толково сделал… Недаром именно Николаев и был послан на Выставку, выбранный им вместе с тремя другими.
«Двигается, двигается дело, – думал Илья Николаевич. – Но новые съезды должны быть выше уровнем должны стать кузницами педагогического мастерства».
– Тоже скажете, кузницами мастерства! Каких это вы мастеров думаете выковать из них, когда я сам слышал, как ваши мастера говорят: «они хочут», «он лягет и встать не могет»…
– Ну уж это – он лягет и встать не могет – вы сочинили, Валерьян Николаевич, – г'ешно, г'ешно вам! – залился хохотом инспектор, когда в один из своих наездов в деревеньку Назарьева, Ново-Никулино, поделился с ним своими планами.
Съезд народных учителей, как ни наводи экономию, стоил денег, и деньги эти должно было давать земство, ну а земство раскошеливаться не любило, и приходилось убеждать и уламывать его, хлопоча, разъясняя, чуть не речи произнося перед каждым в одиночку. Валерьян Николаевич Назарьев был большим помощником Ульянова, несмотря на его постоянные шутки, – и с него первого начал инспектор свою агитацию за съезды.
Дело, что там ни говори, действительно двигалось. Чуть не на второй день по приезде Илья Николаевич побежал на свои Педагогические курсы. Хотя открытие семинарии в Порецке было его победой, но курсы, которым суждено было закрыться при этом открытии, все же были его первенцем, на них он потратил весь жар души своей в эти симбирские два года жизни. И как-то заныло его сердце, когда он сейчас, держа в руках свои коллекции, картины и пособия, сопровождаемый штатным смотрителем, несшим самые тяжелые пакеты, взошел по ступенькам в знакомое помещенье. В этом году чтенье на курсах закончили лучшие его учители, которыми он мог гордиться.
– Вот, господа, – сказал он, раскладывая на столе свои пакеты, быстро развязывая их и аккуратно закручивая в клубок бечеву, – буду вам отчитываться в своей поездке, – а это в придачу к излагаемому. Как вы знаете, новые методы преподавания побеждают повсюду. За ними жизнь. В школах они дают удивительный эффект, – дети усваивают предметы вдвое, втрое скорей прежнего. А нужда в поднятии грамотности народной – велика и днями растет. Вы будете передовыми людьми там, куда должность ваша вас направит. Древние мудрецы говорили; благословен человек, кто за свою жизнь посадил хоть одно деревцо… А как же сказать о человеке, кто за свою жизнь не деревцо, а людей вырастил, и много людей – целое поколение?
Ему хотелось говорить, хотелось передать обо всем, пережитом на Выставке, не как старшему с младшими, а как с товарищами – бойцами одного с ним фронта. Хотелось рассказать о юбилее Петра Великого, и как по всей Выставке, чуть не в каждой ее части, чувствовалась рука Петра, дело его, след, оставленный им в той или иной области. Но начал он, превозмогая свою внутреннюю «разговорчивость», – с отчета о курсах. Из четверых народных учителей, побывавших благодаря его хлопотам на Выставке, в Симбирске был лишь один, – остальные разъехались по самым дальним уездам. Но и этот один сейчас отсутствовал, – из Москвы он поехал навестить своих в деревню. И пришлось инспектору одному рассказывать и рассказывать, отвечать на десятки вопросов, описывать Евтушевского и Бунакова, вынимать вырезки из газет с их выступлениями. Пока он делился пережитым, в памяти его вставали критические замечания учителей, слышанные им на Выставке, и к его удивлению, и тут, на отчете его, кто-то из слушателей спросил о том же:
– Показательного урока на Выставке не было?
– Показательных уроков не было, – ответил Ульянов, – и многие курсанты остались поэтому не удовлетворены чтениями, – Евтушевский и Бунаков избрали лекционную систему. Да, вероятно, показательный урок в Москве и трудно было устроить, кроме того, ведь Бунаков с Евтушевским крупные преподаватели старших классов, известнейшие методисты, задача их была – дать теорию.
– Вы, Илья Николаевич, начальство в губернии, а сколько раз не брезговали и не брезгаете сесть в школе за показательный урок! Да и просто за урок! Вон в женском приходском учительница болела, а вы чуть не месяц урок за нее давали.
– Я, господа, практиком годы и годы был, практиком и остался. Давайте лучше к делу вернемся.
Делом был вопрос – о подготовке нового съезда учителей и о способе проведения съездов так, чтоб и ошибки и достиженья учителя были показаны в классе наглядно для каждого участника съезда и чтоб при этом те и другие были проанализированы теоретически.
На этой первой встрече его после Выставки с народными учителями собрались не только слушатели, уже имевшие перевод в Порецкую семинарию, но и кончившие в последний год шесть человек, которыми он гордился. То были Василий Калашников, Петр Малеев, Николай Лукьянов, Дмитрий Преображенский, еще один Петр – Архангельский, и Константин Бобровский. С теми, кто уже закончил его курсы за те неполные три года, что он работал инспектором, вся его армия представляла собой не малую силу – сорок семь народных учителей. Сорок семь обученных новым методом, вооруженных не одним только знанием начальных предметов преподаванья, а и горячей душевной охотой учить детей, идти в народ, полюбивших чтение, а кое-кто даже и письмо для себя, первые опыты литературной обработки мыслей своих на бумаге, составления не по книге, а от себя рассказиков и побасенок для ребят, чтоб применить их в школе, – вот какая это была армия. Очень молодые, почти все – еще и двадцати лет не достигшие. И пусть с печатью своего выхода из крестьянства, с ошибками в ударениях, неполной свободой речи, вдруг прорывавшимися чертами того угрюмого деревенского воспитания, что учило детей сызмала гнуть перед барином спину и уклончивым, а то и неправдивым быть в ответе из страха не угодить; пусть с этими еще не вовсе исчезнувшими следами проклятой деревенской темноты, столетиями, как густой туман, лежавшей над русской деревней, – да ведь как мало их было, следов этих, и как быстро, с какой живительной силой таяли они на его глазах! Одним он гордился особенно: общей, почти, всегда выдерживавшейся ими, манерой равенства, тем широким, свободным внутренним жестом, какой был совершенно нов в тогдашнем народном учителе и сразу же отличал «ульяновца» от всякого другого.
Илья Николаевич много сил и энергии положил на выработку этой атмосферы равенства. Еще совсем недавно дал он урок неожиданному, вдруг проявившемуся атавизму в таком светлом и привлекательном умнице, как Василий Калашников, да зато как быстро усвоил этот урок Калашников, – и сейчас не поверишь, в чем он вдруг провинился тогда. Рассказал об этом уроке много десятилетий спустя советский учитель Зайцев, но за давностью лет и по слабой памяти перенес его на более позднее время, когда Илья Николаевич числился уже директором. А случилось это совсем на днях, в годы его инспекторства, чуть ли не в первый симбирский его год, и, подняв глаза на Калашникова, Илья Николаевич с удивленьем подумал: неужели это было недавно?
Василий Калашников, шестнадцатилетний, был им поставлен преподавать, как только он кончил уездное училище, – в Симбирскую начальную школу, и в эту же школу он поместил мальчугана, бежавшего в Симбирск из деревушки, где отец его батрачил, а сам он пас гусей. Бежал этот мальчик, Зайцев, как и Рекеев, босоногим, слезно просился в школу; и, поместив его в школу, Илья Николаевич не забывал следить за его успехами. Однажды инспектор побывал на уроке арифметики и разговорился с учениками. Это было огромным событием в жизни класса. Когда он ушел, на втором, русском, уроке Калашников задал тему – написать о «Впечатлении сегодняшнего дня». Зайцев, с усердием выводя каждую букву, написал, как в классе у них был начальник, как он им помогал решать задачи и как удивительно выговаривал слова: «ггивенник» вместо «гривенник»: «Я ученик и то умею сказать „гривенник“, а он, такой большой и ученый человек, говорит „ггивенник“», – писал простосердечно Зайцев, вероятно высовывая от усердия кончик языка.
Через два дня Калашников принес тетрадки ребят в класс и раздал их с разными замечаниями, а тетрадь Зайцева придержал, ради эффекта, несколько дольше, но не утерпел – кинул ее ему в лицо и крикнул мальчику: «Свинья!» И тут-то как раз Илья Николаевич снова пришел на урок. Невозмутимо подойдя к заплакавшему Зайцеву, он развернул его тетрадку, прочел сочинение, увидел яростный красный крест, каким перечеркнул его Калашников, и большой круглый ноль под ним, – и поднял глаза на учителя.
Калашников стоял бледный и трепещущий. Он ждал всего, но не слов, сказанных ему инспектором:
– За что вы, Василий Андреевич, наградили этого мальчика орденом красного креста и огромнейшей картошкой? Сочинение написано грамматически правильно, последовательно, и нет здесь ничего выдуманного искусственного… Читайте заданную вами тему: «Впечатление сегодняшнего дня». Ученик написал именно то, что врезалось в его впечатление во время прошлого урока. Написано искренно, соответствует теме, сочинение отличное! – и, взявши ручку, Илья Николаевич, улыбаясь, поставил под сочинением «отлично» и свою подпись «Ульянов».
Ему пришлось тогда быть резким, но в таких случаях необходимо быть резким. Именно так, как ножом, отрезавши всякую боязнь, всякое подхалимство перед начальством, можно воспитать в народном учителе его безбоязненность и достоинство. И кроткий по мягкому нраву своему, инспектор становился всякий раз резок, приучая учителей к безыскусственности и чувству равенства с собой.
Он вспомнил этот случай сейчас, глядя на семнадцатилетнего Калашникова: все такой же по внешности, красавец, подтянутый, любящий приодеться и руки держать в чистоте, а ногти чистить ножичком, но какая разница в выражении, в этом смелом и веселом взгляде! Вот только грудью впалый и покашливает… А его уже спрашивали со всех сторон:
– Илья Николаевич, объясните! Мы меж собой согласиться не можем, – как же это так. Например, я даю показательный урок, он дает показательный урок. У каждого будет промашка на уроке. Так как же он может, если сам ошибается, мои ошибки после уроков критиковать? В Сызрани главным образом начальство обсуждало.








