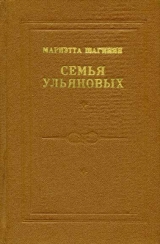
Текст книги "Первая всероссийская"
Автор книги: Мариэтта Шагинян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
– Тьфу, тьфу, прости господи! Язычество будем проповедовать, – сказал Чевкину даже священник церкви Успенья, считавший себя образованным и без предрассудков.
– Цветочки русского колониализма, – вскользь заметил Жорж.
Извозчик подвез Илью Николаевича к цирку как раз вовремя. Огромные афиши извещали о том, что с двенадцати дня до потемненья здесь будет проведен весь, со всем житьем-бытьем, личным и всенародным, «день калмыцкого народа». Расплатившись с извозчиком, Илья Николаевич купил сидячее место в первых рядах и, вдыхая воздух цирка, – смесь пыли, песка, животных испарений, мокрой лошадиной шерсти, – пробрался к нему через тесную толпу. Кто-то, одетый в обычное немецкое платье, уже говорил с арены вступительную речь, едва слышную даже в первых рядах, – что-то вроде «не зрелище показное для забавы, а настоящее, житейское дело, перекочевали под Москву, кочевать им все равно, где и куда, корм для лошадей и верблюдов получили и живут сами по себе, как всегда, как у себя дома, не стесняясь взглядов. Тайн у них нет!..»
– Неважно, что тайн у них нет, – сказал кто-то за спиной у Ильи Николаевича, – it is not decent, это нескромно, неблагопристойно жить на виду, как для спектакля… «Итс нот дизн…», надоедное в привычных домах английское выраженье наверняка принадлежало какой-нибудь гувернантке. Илья Николаевич обернулся посмотреть, – и правда, за ним сидела старая суховатая мисс в крашеных букольках рядом со своим питомцем, прыщеватым и хилым мальчиком лет двенадцати.
Тайн у них нет… бедные, проданные своими же за русские рубли, что же им делать? – с горечью подумал Ульянов, отвернувшись от говорившего на арене и переводя глаза на кибитки. Они стояли по три в ряд, открывая дорогу к центральной – хурулу. Начиналась церемония богослужения, действительно проводимого всерьез. Яркое солнце сияло в небе, с утра безоблачном, и мешало как следует рассмотреть, что происходит на сцене. Изредка ослепительный «зайчик» от гладкого золотого предмета, отполированного до блеска, ударял в глаза и слепил, огненно горели одежды из шелка, красного и желтого. Илья Николаевич нагнулся и прикрыл глаза от солнца.
Один из гелюнов, облаченный поверх одежды в длинный халат пунцового цвета, в плоской пятиугольной шапке двигался к раскрытому настежь хурулу. Внутри хурула виден был яркий, великолепно расписанный бурхан, осененный многоцветными шелковыми хоругвями, а серебряные чашечки перед ним с жертвоприношеньями. Навстречу идущему гелюну из хурула выходит другой, держа в руках просверленную раковину, обвитую тоже разноцветными лентами, – словно ковер ярких горных цветов, перед глазами переливалось и сверкало на солнце это многоцветье шелков и росписи, золота и серебра. Гелюн, вышедший из хурула, поднес раковину к губам и издал свист, сперва слабый, потом сильнее, – оглушительней, крещендо, – и под звуки острой, пронизывающей трели выходит медленно, важно, мелкими шажками по ковру шествие гелюнов по два в ряд. На них китайские короткие юбки, сафьяновые сапожки, высокие головные уборы, начинается обрядовая музыка, – трубы, тромбоны, литавры, барабаны. Острые и отрывистые звуки как бы вызывают и вызывают людей, и вот, по их зову, по три человека в ряд, выходят из кибиток калмыки и склоняются перед хурулом. Казалось, по выходе из хурула первого священника – в нем уже никого нет, кроме раскрашенного бурхана. Но, выступая из глубины палатки, идет новый гелюн, – с лейкой в руках. Он льет из нее воду на протянутые к нему ладонями вверх руки калмыков, и те умывают ею себе лицо и голову.
И опять приходит на ум сравненье с цветами, с растительным миром. Все здесь необычно пестро, узорно по рисунку, ласкает глаза приятным, гармоничным соотношением красок, ярких, как на хвосте у павлина; все подражает природе, раскинувшемуся ковру лугов, заросших цветами. Ничего, ужасающего или пугающего глаз, и вместо кровавых жертв – пшеница, фрукты в серебряных чашечках. И в заключенье – вода…
– Какой симпатичный народ! – опять услышал Илья Николаевич от кого-то по соседству.
Обряд закончен: наступает передышка, – солнце склоняется уже ко второй половине дня. Опять некто в немецком платье, – черным пятном, как диссонансом, врываясь в многоцветье арены, кричит что-то. Первые ряды разбирают; можно выходить в перерыве, осматривать кибитки, кто пожелает – закусывать в ближайшем ресторане или пить калмыцкий чай, – весьма здоровый и полезный напиток; а также рекомендуется кумыс, – кобылье молоко, тут же надоенное. В шесть часов начнутся игры, – выгон табунов, выгон дикого коня, джигитовка, скачки, показ перекочевья, умыкание невесты.
Часть зрителей уехала в город пообедать на Выставке; кое-кто разошелся по домам, удовольствовавшись богослужением. Но Илья Николаевич, повинуясь особому чувству, весь день не покидавшему его, спустился со своего места на арену. Он шел между кибитками, внимательно разглядывая их и вдыхая сухой, войлочный запах. В одном месте был зажжен костер, прикрытый для медленного огня; на тагане стоял котел с молоком, не столько кипевшим, сколько испарявшимся, а внизу, на земле, стоял другой котел, соединенный с первым дугообразной трубой. Пар от нагретого молока шел через трубку в нижний, холодный котел, и в нем, охлаждаясь, превращался в калмыцкую водку, «арка». При перегоне во второй и третий раз арка становилась уже спиртом, «арза». Ему со всех сторон предлагали чарочку, – он, улыбаясь, благодарил и шел дальше, туда, где перед кибиткой стоял низенький стол с чурбачком, а от близкого костра с гудевшим над ним котелком плыл аромат, – любимый его аромат еще с раннего детства; там кипел калмыцкий чай.
Илья Николаевич присел на чурбачок. Старая калмычка, выйдя из кибитки, внимательно поглядела на него и молча поставила перед ним круглую чашку без ручки, похожую на узбекскую пиалу. Подняв котелок с помощью полотенца, она ловко наклонила его над чашкой, и ароматная коричневая жидкость полилась из него в чашку; потом так же молча поставила перед ним солонку, розоватого сливочного масла на блюдце, какое издавна сбивают в Вологде, и на расписной красивой тарелке завертушки из поджаренного ячменя. «Овечий сала нема, кушай русски масла», – четко выговорила она и тут же улыбнулась. Старое лицо ее собралось в уютные, добрые морщинки.
– Спасибо, мать, – сказал Илья Николаевич, посолив знающим опытным движеньем чай и бросив в него кусочек масла. Отпил, еще отпил, – и прибавил: – Хорошо!
Было в самом деле удивительно хорошо сидеть возле кибитки и пить этот настоящий чай, знакомый и любимый с детства, – привыкнув, до конца жизни не перестанешь любить его.
– Как вы можете пить это? – раздалось возле него. К столику подошел тот самый сосед, что сидел рядом с ним в цирке, и сказал: «Какой симпатичный народ». Он был в офицерском мундире, уже в летах и очень тучен.
Илья Николаевич тревожно оглянулся и тихо ответил:
– Не обижайте, тут понимают по-русски, – а потом добавил погромче: – Я сам – астраханец и с детства привык. Этот чай, кто привык к нему, кажется вкусней любого напитка. Он очень полезен. Древние египтяне, вы, может быть, читали об этом, вместо «здравствуйте» употребляли вопрос: «как вы потеете?» Считалось самым существенным для здоровья… Так вот от калмыцкого чая вы пропотеете за милую душу, вся хворь, если есть она в вас, выйдет с ним… – Он медленно, между глотками говорил это, с удовольствием похрустывая жареным ячменем, пока старая калмычка придвигала толстому военному другой чурбачок. Тот сел, но от чая отказался, – и без чая пот градом лил с его жирного, раскрасневшегося лица. Между тем Илья Николаевич, не смущенный критикой соседа, выпил вторую и третью чашку. Калмычка получала с него деньги как будто нехотя. И в ее быстрой фразе на родном языке, сказанной на прощанье Ульянову, послышалось ему слово «сынок».
Между тем время подходило уже к шести, когда начинались зрелища, и пора было занимать места на трибуне, – уже не в цирке, а неподалеку – на бегах. Покуда оба устраивались, найдя сиденья в тени, офицер расспрашивал Илью Николаевича о том, как делается этот полезный коричневый напиток. И Ульянов обстоятельно объяснил все подряд; надо купить особый чай, спрессованный кирпичом – плиткой, – он делается специально для кочевья; кипятить этот чай, потом процедить через ситечко или чистый платочек, долить молоком, – половина на половину, – снова поставить на огонь, а пить непременно с маслом, с солью и либо поджаренной ячменной мукой, либо с сухариками.
– Когда соскучусь дома по нем, я и простой чай долью молоком, посолю, положу масла, – и кажется, будто калмыцкий, – добавил Илья Николаевич.
Выпустили лошадей. Быстрые, как огонь, они стрелой промчались на волю, взмахивая длинными черными хвостами. Калмыцкие юноши ловко догоняли их, закидывали седла, взнуздывали. Началась бешеная джигитовка, какой не то что казачество, даже на Кавказе не знают. Всадники вертелись, стоя во весь рост на скачущих лошадях, скользили вниз головой, неизвестно как держась телом на крупе, ловили на всем скаку подброшенный хлыст, мгновенно поднимали с земли брошенный головной убор и тут же, мягко взлетая, словно по воздуху, опять держались стоя, словно летели над лошадью, не опираясь на седла, пританцовывали, на всем ходу взлетали на круп чужой лошади и через миг опять назад, на свою, – ни один знаменитый циркач-акробат не сделал бы точнее и лучше. Лица у них, как и у зрителей, разгорались, ветер с поднятой мелкопесочной пылью свистел в ушах, попадал в рот.
– Лихо! Лихо! – приговаривал рядом с Ульяновым толстый офицер.
Потом вдруг наступила относительная тишина. Появились по две, по три нарядные, совсем молоденькие, едва ли старше пятнадцати – шестнадцати лет, калмыцкие девушки, – круглые розовые лица, черные родинки на щечках возле рта, словно в преддверии улыбки, быстрые черные глазки, удивительная грация тоненького стана, где длина от талии до кончиков загнутых, как у лунного серпа, красных сапожек ни на миллиметр не превышала длины от талии до верхушки головы, и все это – в шелесте пестрых шелков, в ярких вьющихся лентах, в мельканье красного сафьяна, словно взял кто-то горсть драгоценных камней или развязал букет из редкостных, невиданных цветов, – и разбросал по песку.
– Сейчас вы увидите похищение невесты, девушки из одного становья – парнем из другого становья, – громко сказал все тот же мужчина в черном, вынырнув на арене. – В калмыцком народе это происходит не так, как у других народностей и племен, населяющих нашу империю, – прошу обратить внимание на разницу.
Сидевший с Ульяновым офицер наклонился к нему. Это был, несмотря на тучность свою, человек бывалый, в молодости поездивший по всему свету и даже дравшийся на дуэли. Он хорошо знал женщину, – женщину вообще, как предмет отвлеченной философии.
– Заметьте, – сказал он тоном эксперта, – пропорцию. Какова пропорция! Насмерть бьет всю литературу. В книгах воспевают длинные ноги у женщин, разное там золотое сечение. Англичанки – у тех ноги чуть не вдвое длиннее прочего торса, как, извините, за сравнение, у английских скакунов. Ну, а я терпеть не могу длинноногий тип, равновесия нет, ломкое что-то, ненормальное. Мне подавай, чтоб крепко стояла на двух ножках. Вон те, молоденькие, – классическая пропорция. Эдакие крали!
Илья Николаевич насупился, он даже покраснел немного, – он терпеть не мог таких разговоров. Не дождавшись, ответа, офицер замолчал. Между тем действие на ристалищах развивалось своим чередом. Откуда-то, и тоже по двое, по трое в ряд, появились юноши из чужого становья, – хуруна, в другой, нарядной одежде. Они гуляли мимо девушек, задирали их, перекидывались словечками на родном языке. Вначале казалось, что в действии участвуют все сразу. Но потом заметно выделились двое. Красивый калмык с круглым китайским лицом и такой же красоты девушка-цветок, грациозней всех своих подруг в движеньях. Парень не показывает виду, что отметил ее, одну из всех; она не показывает виду, что поняла это. Игра продолжалась, грациозная, слаженная, несколько минут, видимая каждому зрителю. Но вот юноши из чужого становья ускакали, словно и не было этой игры. Двое статистов выносят на длинной палке вызолоченный серп месяца и водружают палку на ристалище, – это значит, что наступил вечер; табуны загоняются домой, в кибитках готовят ужин, пришло время доить кобылиц.
Красотка-девушка появляется снова с серебряным ведерком в руках. Ведут за узду кобылицу. Ставят под ней скамеечку. Уходят. Девушка одна в золотом сиянье молодого месяца, как должно казаться зрителям. И тут, тихо-тихо, подкрадывается калмык из чужого становья, облюбовавший себе на гулянье красотку. Мгновенье – она у него на руках, он вскакивает с ней на седло, мчится, – но вокруг все ожило, целое становье – старики, женщины, дети, – уже в седлах, и мохнатые кони яростно нахлестываются. Погоня, погоня! Крики, взмахи кнутами. Зрелище стало заражать сидевших на трибуне своей отчаянной выразительностью, словно это уже не игра перед ними, а жизнь. Но вот между похитителем и преследующими расстоянье стало понемногу сокращаться. Он нахлестывает коня. Но другие кони тоже рвутся вперед, вытянув почти горизонтально морды и хвосты. Еще пять минут, минута, – десятки рук хватают лошадь похитителя, поднявшуюся на дыбы. Под ее тонкое ржанье пойманного ведут к родителям девушки.
– Обратите вниманье! – опять раздается голос гида. – Его будут сейчас наказывать. Но не за то, что он похитил девушку, а за то, что дал себя поймать! Это и есть разница!
Похитителя заставляют в наказанье плясать, девушку бьют по ногам нагайками, потом поколачивают и пляшущего, – зачем сдал, зачем позволил отбить? Наконец, наказанье, выполняемое больше символически, прекращается. Жениха поят водкой «арка». Он становится своим, кунаком, и входит в семью невесты.
За умыканьем стали показывать борьбу, потом народное гулянье, песни, танцы. Опять пронзительно зазвучала музыка… А над мнимым позолоченным серпом сгустились небесные краски, потухла синева неба, наступил настоящий вечер, – и трибуны вокруг мало-помалу обезлюдели. Нагулявшись за целый день, люди расходились веселые, приятно усталые, и сосед Ильи Николаевича опять произнес свою прежнюю фразу – «очень симпатичный народ».
Ульянов шел домой пешком, ему захотелось вдруг размять ноги, сделать длинную, многоверстную прогулку, ни о чем не думая, выключившись на время из напряженной работы. Он прошел от скачек до своей гостиницы на удивленье быстро, и дорога совсем не показалась ему длинной.
Тем, кто работал на Выставке всерьез, как Илья Николаевич, такие временные передышки были совершенно необходимы, они освежали утомленный мозг, возвращали к работе с новыми силами. Сейчас хорошенечко заснуть, ни с кем не встретившись, а утром – на лекцию, – думал Илья Николаевич, поднимаясь к себе в номер. Но к удивлению и досаде – его перехватили на площадке. Последние два дня он не успевал прочитать газет, хотя покупал аккуратно и складывал кучкой на подоконнике впрок, до свободной минуты. Между тем народ на площадке, три его вагонных спутника, среди них Семен Иванович Новиков, с очередным номером «Вестника» в руках встретили его криком: «Читали? Читали?»
Отделаться и уйти спать стало невозможным. Стоять на площадке – неудобно. Ульянов пригласил их к себе в номер, зажег лампу, и трое народных учителей, знакомый ему Новиков из Саратова, пензенский Витя Беляев и некто Костерецкий, тоже, кажется, волжанин, расселись на двух стульях, а сам он на кровати. Семен Иванович развернул № 73 «Вестника», стараясь не высказать душившей его гордости. Еще бы! Критическая струя в литературе русской, оказывается, вовсе не пресеклась, можно смело подать свой голос, и тебя напечатают, можно пройтись по господам-хозяевам так, что любо-дорого, почувствуют силу простого человека!
– Наш Семен Иванович литератором заделался! – волнуясь, произнес маленький, синеглазый, похожий на девочку Витя Беляев. В вагоне он больше молчал, слушая других с широко раскрытыми глазами, часто дыша, и показался, откровенно говоря, недалеким, особенно рядом со смекалистым Новиковым. Илья Николаевич впервые заметил, какой у него хороший грудной голос.
Новиков не удержался и счастливо улыбнулся. В «Вестнике» за подписью «Приезжий учитель» было напечатано письмо редактору. Пальцем показав на подпись, Новиков сказал: «Это я буду, Илья Николаевич». Как ни устал Ульянов, как ни просились глаза и мозг его к покою, к немедленному сну, он сделал над собой усилие и внимательно прочитал письмо. Это была грубая критика отдела школьных пособий, выставленного военными учебными заведениями на хорах Манежа, где сам он проводил почти целиком вторую половину дня. Наглядные школьные пособия назывались в ней почему-то «детскими игрушками». В самом начале знающе упоминались фамилии: господин Чернохвостов, господин Каховский. В течение четырех дней, писал «приезжий учитель», никто не мог разгадать целей и сути выставленного и спросить было не у кого, так как Чернохвостов отсутствовал, а Каховский уехал. Никто не заглядывает на хоры, никто ничего не объясняет из выставленного военно-учебными заведениями. «Многие учители, приехавшие на педагогические курсы с разных сторон России, очень желают подробно познакомиться с выставленными в военном отделе Выставки предметами, но, к сожалению, никто не помогает. Поверхностные объяснения, которые теперь делаются, явно недостаточны. Пользы от них нет. Нам, учителям, желательно, чтоб подробно, хоть по частям объясняли, иначе труды по выставленью многих и многих предметов напрасны». И дальше шло уже совсем другим языком, словно автора подменили: «При той системе расстановки предметов, которая принята учебным отделом (если только принятое расположение предметов можно назвать системою) без толкового указателя – изучение выставленного положительно невозможно. Впрочем, все сказанное относится к числу предметов, выставленных на хорах и в Манеже; что касается предметов, расположенных в образцовом училище „павильон № 12“ от Министерства просвещения, всякий любознательный человек может узнать все с мельчайшей подробностью от экспонентов».
Илья Николаевич сложил газету и вернул ее Новикову. Он еще не совсем понял почему, – но у него сложилось во время чтения какое-то странное ощущение фальши, подтасовки, чего-то не совсем реального…
– Вы сами это написали?
Новиков покраснел. Он кивнул утвердительно головой. Но Витя Беляев повернулся к нему: «А как же ты говорил?». Было ясно, что тут есть еще нечто неразъясненное. Усталость мало-помалу перешла в Ульянове в знакомое чувство, всегда вспыхивавшее в нем при пробуждении мыслей: доискаться правды, изложить ее, убедить в ней других. Таким правдолюбием отмечен был, в сущности, весь путь его, как борца в Нижнем.
– Когда вы побывали на хорах, Семен Иванович? Дело в том, что я там ежедневно, с одиннадцати, как откроют – бываю, сразу по окончании лекций, и вас там ни разу не встретил.
Витя Беляев опять повернулся к безмолвному Новикову и громким шепотом проговорил:
– А как же, Сема, ты нам сказал про господ, которые сами тебе предложили и даже писать помогли, помнишь?
Двое каких-то газетчиков, а может быть, служащих в министерстве, подхватили где-то в столовой Новикова как представителя школы народной, «главное лицо, для которого Выставка устроена», и наперерыв расспрашивали его о впечатленьях, сопровождая свои вопросы замечаньями от себя. Замечанья эти так смешались постепенно с вопросами, а потом и с ответами Новикова, что получилось как бы единое впечатленье всех их троих вместе. И там были «игрушки, разложенные военными заведеньями»; там были шпильки в адрес неведомых Новикову Чернохвостова и Каховского; там было брошенное вскользь ироническое «если это можно назвать системой» и там были, – будто бы чтоб не охаять все сразу, а выделить достойное, – ловко просунутые фразы насчет образцовых коллекций Министерства просвещения, выставленных в павильоне № 12. Полнота собственных сведений поразила и в восторг привела Семена Ивановича. Вот бы черкнуть в газету, восхищенно пробормотал он, сам себе не веря. И вдруг чудо свершилось, на столе появился лист бумаги, кто-то подложил ему карандаш, кто-то настойчиво советовал не терять зря такие мысли, помочь Комитету исправить ошибки, возвысить голос от народа, от русской земли, показать, как вырос народ. И когда Новикову показалось, что он ни за что, ни в жизнь не справится с такой задачей, – она, эта задача, само собой справилась руками Новикова, руками двух его новых товарищей! А самое удивительное – через каких-нибудь два дня все появилось в печати, и как здорово выглядело оно, какой серьезной казалась критика, – совсем вроде «Отечественных записок».
– Не совсем вроде, – сухо сказал Илья Николаевич. – В «Отечественных записках» критикуют, что сами видели, а не с чужих слов. Что вы называете «игрушками», Семен Иванович? Игрушек я не видел, а видел наглядные пособия. И, например, в павильоне номер двенадцать я тоже повстречался с представителем прессы, с сотрудником журнала «Народная школа», – получил от него в подарок последнюю книжку.
Он встал, вынул из ящика стола книжку и положил ее на стол:
– Глядите, «Народная школа», педагогический журнал, год четвертый, июль, номер семь, тысяча восемьсот семьдесят два. Тут о павильоне номер двенадцать тоже есть, но далеко не с похвалой.
Он поднял книжку повыше к лампе и стал читать:
– «Сравниваешь свое с чужим, и нехорошо как-то становится на душе от тех выводов, кои получаются от такого сравнения;…нехорошо потому, что иностранцы гораздо серьезней отнеслись к Выставке, лучше поняли ее цель… показали не только разных сортов мебель, карты, картины, музыкальные инструменты и т. д., но и стальные перья, ручки, ножички, карандаши. Они не забыли, а мы не имеем некоторых отделов школьной жизни, мы на школьных столах не только забыли чернильницы, но и не показали, где и как они должны стоять…»
– Подумайте, в образцовой народной школе забыли чернильницы на партах! Дальше он пишет, что в этой образцовой школе в сенях нет вешалок, нет кадки с водой для питья, нет и умывальника. Насчет наглядных пособий вот что сказано: «Разве сельский учитель не сработал бы, не изобрел бы сам хороших пособий? Но всем этим награждает столица, пересылает по почте за сотни и тысячи верст, берет втрое и вчетверо дороже („это при нашем-то убогом бюджете“, – от себя вставил Илья Николаевич), – убивая в то же время всякую мысль, всякое стремление к изобретательности в сельском учителе». Страница двадцать третья. Правильно, пг'авильно сказано! Вот это называется критикой, идущей на пользу дела. А перечитайте, Семен Иванович, как у вас? Ведь вы с чужих слов на военное министерство обрушились, – для того, чтобы засыпать хвалой Министерство просвещения. Выходит – не критическая у вас статья, а возносительная, хвалебная!
– А что я тебе говорил? – воскликнул Беляев. – Что говорил я тебе, Сема? Незнамо с кем покумился там, они ж и подвели!
Новиков не знал, что ответить. Радость на лице его угасла. Он забрал «Вестник», свернул трубкой и сунул в карман штанов.
– Утро вечера мудренее, друзья, – ласково заговорил Ульянов. – Завтра пойдем все вместе на хоры и проверим своими глазами, так ли уж верно судит «приезжий учитель». Мы с вами, Семен Иванович, не знаем, кто этот «приезжий», вы ведь не один писали, – за вас писали. Вот и проверим!
До одиннадцати, как всегда, на педагогических курсах шли лекции. Слушатели уже свыклись с манерами Бунакова и Евтушевского, с голосом и дикцией каждого, и стали разбираться получше. Начинал первым Бунаков, и ему отдавали свежее, отдохнувшее внимание. В этот день, одиннадцатого июля, Бунаков показал, почему на нем, воронежце, а не на москвиче или петербуржце, остановило свой выбор военное министерство. Лекция его сделана была с таким оригинальным, собственным, творческим разумением, что проводили ее слушатели чуть ли не овацией. Он начал не с рассказа, а с показа, как важно начинать обучение ребенка письму и чтению одновременно, больше того – сразу же, с первого урока научить его, узнав и запомнив звук, тут же и нарисовать этот звук. Бунаков так и сказал, чтоб поначалу не отпугивать детей словом «писать» букву, а просить их «нарисовать» ее. Ребенок связывает письмо – с занятием и учением; а рисованье – с отдыхом и удовольствием. И, в сущности, первые уроки написания букв – это и есть уроки их нарисования, элемент механический тут еще отсутствует, дети подходят к делу творчески, вкладывают все сознанье свое в рисунок. «У меня была в детстве удивительная учительница французского языка, мадемуазель Лина, – рассказывал классу Бунаков. – Я ни за что не хотел учиться писать по-французски. Вдруг она говорит на первом же уроке: мальчик, если ты сегодня будешь хорошо отвечать, я тебе позволю нарисовать в награду одну французскую букву!.. И представьте, господа, она меня соблазнила. Нарисовать…значит не писать! Я стал так стараться, что награжден был в течение нескольких дней целым алфавитом, – пыхтел, рисовал, наслаждался – и выучился писать по-французски. Так надо умеючи подходить к ребенку!»
Пример понравился своей оригинальностью, и слушатели, почти все без исключения, вписали в свои блокнотики «нарисовать букву». Понравился он и Ульянову, хотя, повернувшись к сидевшим с ним рядом Беляеву и Новикову, он шепнул, что Бунаков имеет в виду городских детей: для крестьянских ребятишек, не имеющих с детства мелок или уголек в руках и не знающих, что такое рисованье, вряд ли это сложное, уже вполне умственное противопоставленье даст сразу же свой результат… А Бунаков между тем развивал свою лекцию дальше, и на том же высоком уровне. Он был в ударе сегодня. Почти вдохновенно объяснил разницу между чтением механическим и сознательным, роль чтения вслух для того, чтобы не читать механически, наконец – роль выразительного чтения, когда понимаешь прочитанное и пытаешься правильной интонацией, повышением и понижением голоса, вопросительностью, убедительностью, одобрением, возмущением, лаской, горечью в голосе передать понимание смысла того, что читаешь.
– Вот почему и ученье наизусть стихов или басен помогает развитию сознательности в ребенке, – сказал он. Затем перешел к роли учителя в объяснительном чтении. И опять очень свежо, не по шаблону, принятому в школах, указывая на блокнотики в руках учителей, закончил свою лекцию: – Вы как раз совмещаете чтение с письмом, только вместо чтения глазами – слушаете его ушами. И главное, что хотите запомнить, заносите себе в тетради в двух-трех наиболее важных для вас словах, – так ведь?
Кое-кто засмеялся: почти у всех стояло «нарисовать букву». А Бунаков, складывая лежавший перед ним конспектик и пряча его в нагрудный карман, добавил: вот именно так – возьмите, да и заставьте на уроке записать главное слово, которое понравилось ученику в книжке… Пусть каждый запишет, а потом посмотрите и сравните, думалось ли ученику при чтении, было ли чтение творческим.
На пятиминутной перемене в аудитории стоял шум – обсуждали прослушанную лекцию. Всеми она признана была удачной и полезной, хотя немного чересчур «умственной».
Евтушевский поддержал честь этого дня, – он тоже говорил интересно и близко к делу. Как всегда, повторил то, что осталось непонятным в предыдущей лекции, – разницу между учебным и научным решением задачи, потом объяснил приемы разложения сложных формул при отыскании неизвестного, усвоение учениками знаков сложенья, вычитанья, деленья и умноженья, табличку кратных и некратных, – все это практически, на доске, со многими повторениями.
Выходя с лекций в одиннадцать часов дня, слушатели обменивались живыми репликами, – у всех было хорошо на душе, все что-то полезное уносили с собой. Кто тут же, на ходу останавливался, чтоб договорить начатый с товарищем разговор, кто бежал, расталкивая идущих, чтоб поскорей зажечь сунутую в рот самокрутку, а кто не спеша двинулся к лестнице на хоры. Двинулся туда со своими двумя спутниками и Ульянов. Стоявшие возле витрин трое представителей военных учебных заведений сразу его увидели и вышли ему навстречу. Один из них держал в руках «Вестник», – тот самый «Вестник» № 73, которым хотел похвастаться вчера Семен Иванович Новиков. Это и было событием, о котором они хотели поговорить с Ульяновым.
– Илья Николаевич, а мы вас еще вчера ждали, – сказал один из них. – Вы постоянный наш посетитель, в вашей инспекции десятки, если не сотни народных школ, вы знаете столько же народных учителей и учительниц, их уровень, потребности… Скажите, действительно ли у нас такой хаос, что понять ничего нельзя? – Он развернул, говоря это, «Вестник» на письме «приезжего учителя».
– Знаю, знаю, господа, и уже читал. Считаю письмо недоразумением. Вот познакомьтесь, – Виктор Ануфриевич Беляев, Семен Иванович Новиков, – тоже приезжие учителя народных школ. Привел показать ваше устройство на хорах и проверить собственное свое впечатленье.
– Рады вам, прошу, – глядите сами. Надо проверить, насколько вот так, без объяснения, доступны наши пособия для самостоятельного с ними знакомства, – и старший из них, с густой седой шевелюрой, скрестил руки на груди и отошел от них на некоторое расстояние. Сильно покрасневший Семен Иванович и смутившийся за него Витя Беляев принялись разглядывать пособия, начиная с витрины, осененной большой римской цифрой один.
– Одно я могу, как свидетель, опровергнуть тотчас же, – улыбаясь, сказал Илья Николаевич, – сколько я тут ни был, всякий раз встречал кого-либо из вас, охотно бравшегося объяснить, показать, даже вынуть из-под стекла… Да могу и второе также опровергнуть, но пусть мои друзья посмотрят.
Семен Иванович глядел и ничего не видел, глаза его налились кровью. Он боялся, что инспектор выдаст его и тогда – что же будет! Ведь почти и не был он на хорах, по правде, и не видел того, что наставлено тут. Хоть бы разглядеть, увидеть промашку какую-нибудь, а мысли разбегаются. Действительно, стыд получился.
Витя Беляев обнаружил неожиданную любознательность и толково разглядывал пособия. Они были расположены сперва – в порядке общего размещенья на стенах и в шкафах двухклассного народного училища: картины, карты, плоские рамки под стеклом с коллекциями бабочек, насекомых, образчиков почв в стеклянных трубках, микроскопические препараты растений; тетради гербариев, чучела птиц и зверей, глобусы. Дальше опять шли те же самые предметы, и Витя невольно воскликнул: «Что ж они повторяются-то?» Но Илья Николаевич, подойдя к нему, слегка приподнял за подбородок его голову, так, чтоб он посмотрел на надписи. Дальше размещение пособий было обозначено уже не в порядке их места в классах, а по каждому предмету: грамота и письмо; арифметика; начатки географии; знакомство с родной землей, ее растительным и животным миром; знакомство с минералами… Повторный показ, но под новой рубрикой, приблизил пособия к их использованию в классе, заложил их крепче в памяти.








