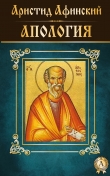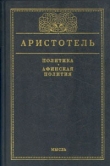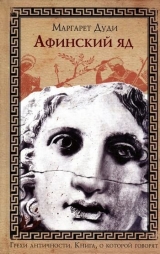
Текст книги "Афинский яд"
Автор книги: Маргарет Дуди
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
X
Дом Ортобула
Мы с Феофрастом вместе отправились к Аристотелю, чтобы рассказать о результатах нашей экспедиции: не было оснований беспокоиться, что яд мог пропасть из тюрьмы.
– Лично мне комендант показался умным, трезвомыслящим человеком, – сказал Феофраст. – Его помощник состарился на службе. Оба сказали примерно одно и то же. Для казни Гермии они смешают новую порцию яда с добавлением мака.
– Допусти они пропажу яда, – проговорил Аристотель, – такая небрежность стоила бы им по меньшей мере работы. Раба постигла бы серьезная кара, возможно, смерть. А коменданта тюрьмы присудили бы к штрафу, на уплату которого могло бы уйти все его имущество. Конечно, они не пожелали бы признаться в таком проступке.
– Не странно ли, – спросил я, – что у них нет противоядия, о котором ты нам рассказывал, Феофраст? Кажется, индийский перец, да? В случае, если что-то пойдет не так или если яд дадут невиновному, жертву можно было бы исцелить, пока последствия еще обратимы.
– Не думаю, что палачи любят противоядия, – сухо заметил Феофраст.
– А из чего еще можно добыть яд?
Феофраст усмехнулся:
– Вы все считаете, что яд – это нечто особенное, существующее само по себе. Но на самом деле мы буквально окружены ядами! Многие растения опасны для человека. А некоторые могут быть как полезны, так и вредны. Если только слово «вредный» уместно в разговоре о творениях природы, в чем я сильно сомневаюсь. Черемица в малых количествах снимает подавленность и уныние, но малейшее превышение дозы может стать роковым. Прекрасный олеандр, растворенный в вине, поднимает настроение, но способен убить животное и даже человека. Регулярно принимая растительные яды малыми дозами, можно снизить свою чувствительность к ним. Так, Фрасий добился, что на него перестала действовать черемица. Большинство животных избегают аконита, который для них смертелен. Можно выпить смешанного с водой или вином аконита и ничего не почувствовать, а несколько месяцев спустя умереть.
– Это существенный недостаток ядов, – заметил я. – Жертва корчится в предсмертных муках, а отравителя уже и след простыл.
– Совершенно верно. Не все яды действуют так быстро, как цикута. Да и цикута, если ты вспомнишь слова тюремщика, не убивает мгновенно. Выпив яд, осужденному какое-то время приходится ждать. Но не очень долго. Сравните цикуту с шафраном луговым – безобидным однолетним растением. Милый цветочек, жизнь которого так коротка, может стать причиной долгой и неторопливой смерти. Рабы часто выбирают этот дешевый способ самоубийства. Но иногда яд очень долго не действует: за это время человек, принявший его так охотно, может расхотеть умирать.
– Какой ужас! – содрогнулся я. – Ты описываешь мрачный мир, полный смертельно опасных растений. Послушать тебя, так кажется, что в царство Деметры вторгается Персефона.
– Они, в конце концов, мать и дочь. Но я делаю упор на целебные свойства растений, без которых человек просто не выжил бы. Хвала Деметре! Неисчислимую пользу приносят нам растения, покрывающие землю в изобилии и разнообразии. Возможно, безболезненная смерть – одно из подобных благ. И вообще, растения – прекрасные и удивительные создания.
Я согласился, не желая сердить Феофраста.
– Мы отвлеклись. – Аристотель, который слушал коллегу, откинувшись на спинку кресла, снова наклонился вперед. – По крайней мере, от того, что интересует меня.Похоже, в настоящее время мы не можем ответить на вопрос, откуда взялся яд, убивший Ортобула. Однако умельцу хватило бы и одного-единственного корешка цикуты. И все же мы должны продолжать поиски. Признаться, я очень хотел бы положить конец этому судебному разбирательству.
– Странно слышать подобные речи от человека, который пишет книгу о конституции Афин и восхваляет их судебную систему, – заметил я.
– Я никогда не говорил, что все наши суды праведны, а приговоры – справедливы. Вспомнить хотя бы дело Сократа.
– После разговоров с твоими учеными, Аристотель, меня каждый раз одолевают грустные, тревожные мысли. Возможно, наша демократия работает неправильно. Преимущество Афин в том, что к власти не может прийти ни монарх, ни тиран. Городом должен управлять не один человек, а все граждане. Но посмотрите на Ликурга. Его выбрали на один срок. Поскольку закон не позволяет ему выставить свою кандидатуру еще раз, он внес в списки имя своего друга и сделал так, чтобы народ проголосовал за него. Но нам отлично известно, что на самом деле всю работу делает Ликург. Он распоряжается казной, собирает налоги, строит стадионы и так далее. Это правильно?
Аристотель вздохнул:
– Меня это тоже тревожит, Стефан. Сам по себе Ликург достоин всяческого восхищения, он знатен и при этом относительно непредвзят. Все помыслы этого неподкупного мужа направлены на благо Афин. Говорят, он знает цену деньгам и умеет ими распорядиться. Однако нельзя отрицать, что город закрыл глаза на нарушение своих собственных законов и теперь благополучно существует под управлением одного человека.
– Я назову вам причину этого зла, – заявил Феофраст. – Демократы слишком озабочены тем, чтобы должностные лица обязательно сменялись ежегодно и избирались по жребию.
– Вот именно. Защищая город от олигархии, они не дают людям занимать посты по способностям. Вот почему никто не препятствует возвышению Ликурга, таланты которого нынче особенно нужны. Это опасно.
– Не стоит опасаться опрометчивых поступков со стороны Ликурга, – заметил Феофраст. – Он подходит таким, как мы, поскольку благоволит чужеземцам и, к счастью, не придает особой важности происхождению. Это уравновешенный и трезвомыслящий муж.
– Меня волнует вовсе не поведение Ликурга, – возразил Аристотель, – а Афины,которые потеряли почву под ногами. Теперь, когда трения между сторонниками и противниками Македонии так обострились, город в любой момент может рухнуть в пучину беспорядков и даже насилия.
– Если город – это искусственное существо, нечто вроде марионетки, – вставил я, – его можно сломать.
– Марионетка не сломается, если слишком сильно не дергать пружину. Живое существо из плоти и крови может оправиться от полученной раны, но нет ничего более хрупкого, чем искусственность государства. Оно может поломаться так серьезно, что потеряет, словно брошенная на камни ваза, всякую надежду на починку. Судебный процесс против Фрины опасен, ибо затрагивает не только политические, но и религиозные настроения. Несчастная гетера! Я сочувствую этой женщине, хоть и не одобряю ее. Обвинение в святотатстве так сложно опровергнуть!
– И она ведь…
Я вовремя спохватился. Ни один человек – ни один– не должен узнать, что я был участником кощунственного веселья у Трифены. Пока остается хотя бы малейшая надежда, что это не всплывет.
– Если Фрина и правда совершила то, в чем ее обвиняют, дело плохо, – продолжал Аристотель, не обратив внимания на мою оплошность. – К несчастью, бросаться высокопарными обвинениями в святотатстве и осквернении города рано или поздно входит в привычку, и тогда одной жертвой уже не обойтись. Даже самое лучшее государство всегда балансирует на краю бездны, и боюсь, что Афины уже начинают шататься на этом краю. Вот почему я так не хочу, чтобы делу Гермии дали ход.
– Заинтересованные семьи очень высокопоставленны, – проговорил Феофраст. – Этот суд все сильнее разжигает страсти, и в конце концов ни один афинянин не останется в стороне. Ты этого опасаешься?
– Да. Дело Гермии предоставляет благоприятные возможности людям самых разных убеждений: от ярых демократов до приверженцев абсолютной автократии.
– Теперь, когда Гермия появилась на Агоре и осквернила город, – заметил я, – люди настроены к ней гораздо враждебнее. По крайней мере, те, которых ты именуешь сторонниками олигархии. Семейству Гермии пришлось принести дорогие искупительные жертвы и выслушать множество нелестных слов в свой адрес. Теперь вдову Ортобула тоже обвиняют в святотатстве, за осквернение Агоры.
– Любопытный, хотя и неутешительный факт.
– Конечно, если доказать, что она не совершала убийства, обвинение в святотатстве тоже снимут, – стал рассуждать я. – Ты, о Аристотель, кажется, мечтал остановить это судебное разбирательство. Честно говоря, я бы сам охотно это сделал. Тогда мне не пришлось бы выступать свидетелем, и у Смиркена не нашлось бы причин откладывать свадьбу. Можете себе представить? Он не отдаст мне Филомелу, пока не закончится суд над Гермией, – а тогда, надо думать, еще поглядит, не слишком ли я запятнал свою честь.
– Тем больше у тебя причин желать, чтобы суд над Гермией не состоялся, – заметил довольный Феофраст. – Хотя многие мужья скажут, что теперь у тебя есть прекрасная возможность пойти на попятный.
– Но в конце-то концов, – обратился я к Аристотелю, пропуская мимо ушей эту неуместную шутку, – Ортобула на самом деле нашли зверски убитым. Чтобы остановить судебное разбирательство по делу Гермии, нужно найти истинного убийцу. Если, конечно, это не она. Если Гермия невиновна, кто тогда спланировал и осуществил преступление?
– Золотые слова. – Аристотель встал и принялся ходить по комнате. – Сейчас у нас так мало данных, что даже размышлять невозможно. Недостает слишком многих фактов. К примеру, нам неизвестно, где Ортобул провел свой последний день и вечер. Куда он пошел, ходил ли вообще? И правы ли Эргокл с Критоном, обвиняя Филина в причастности к этому делу?
– Очень похоже, что все это – плод воображения Критона, распаленного злобными намеками Эргокла, – ответил я. – Зачем бы Филину настраивать против себя беднягу Ортобула, красть у него жену или любовницу? Филин рано овдовел и до сих пор не женился. Но у него много женщин, причем недешевых. Я знаю… то есть слышал, что Филин состоял в любовной связи с Фриной. Мы могли бы поговорить с другими его подругами.
– Я рад слышать это «мы», Стефан, ибо мне нужна твоя помощь. Но мыдолжны быть предельно осторожны. Как свидетель по делу Гермии ты будешь привлекать всеобщее внимание. «Тише едешь, дальше будешь» – вот что должно стать нашим девизом. Но гдена самом деле умер Ортобул? И где он был, когда принял яд? Не исключено, что это два разных места.
– Одним из которых мог быть бордель… то есть дом по соседству, – неуверенно предположил я. – Возможно, Ортобул выпил яд и умер прямо там.
– Едва ли, Стефан, если вспомнить, как выглядел труп, когда ты его обнаружил. Я думал об этом. К его голове прилила кровь, а тело было изогнуто дугой. Это указывает на то, что Ортобула перевозили, возможно, вверх ногами, либо незадолго до смерти, либо сразу после. По дороге тело пришлось согнуть, вот оно и осталось в этом дугообразном положении. Если его перевозили в бордель, то кто и откуда? И когда?Итак, мы снова возвращаемся к вопросу о времени. Очевидно, до позднего вечера Ортобул оставался дома. Его младший сын считает, что с ним все было нормально.
– Но, – возразил Феофраст, – сразу после обнаружения тела жилище Ортобула осмотрели и не нашли никаких следов яда. Рабы показали – один под пыткой, – что не заметили в доме ничего необычного.
– Они могли лгать. Или действительно ничего не знать, – вставил я.
– Да, пожалуй. – Согласие Аристотеля, как всегда, льстило моему самолюбию. – Думаю, нужно под каким-нибудь предлогом осмотреть андронбедняги Ортобула. Младший сын убитого утверждает, что его отец дремал там, но был совершенно здоров. Была ли эта дрема предсмертным забытьем? Начался ли паралич? Посмотрим, что можно выяснить.
На следующий день мы – Аристотель, Феофраст и я – отправились на разведку в дом Ортобула. Мы вышли ближе к вечеру: Аристотель хотел осмотреть комнату приблизительно в то же время, когда Клеофон в последний раз говорил с отцом, а потому следовало дождаться сумерек. В полдень, прежде чем выйти из городских ворот навстречу Аристотелю и Феофрасту и вернуться с ними в город, я оказался на Агоре. Там я имел счастье вновь увидеть Аристогейтона, который, щеголяя алым плащом, громогласно обличал творимые в Афинах беззакония, упирая на злодейство Гермии и святотатство Фрины. Он с удовольствием сообщил, что Фрина находится под стражей и, если справедливость восторжествует, окончит свои дни на перекладине. Не пощадил Аристогейтон и Гиперида, назвав его неженкой и жалким трусом, который якобы предпочитал проводить время в обществе шлюх и рабов, а не воинов, равных ему по знатности рода.
– Аристогейтон всегда так зол, – проговорил Аристотель, когда по дороге к воротам я пересказал ему последнюю тираду нашего моралиста. – Хотя, пожалуй, это не злость, а гордыня. Громогласно восхищаясь спартанскими добродетелями, он пытается доказать, что не похож на других. Вот чем объясняются его мстительные нападки на Гиперида. Не все афиняне считают, что Гиперид был так уж неправ, предлагая освободить и вооружить рабов. Ведь в то время он опасался прямого нападения Македонии на Афины.
– Поэтому он и предложил укрыть женщин и детей в Пирее, – добавил Феофраст.
– Именно. Гиперида нельзя обвинить в безразличии к судьбе Афин. Но предложение даровать рабам и чужакам гражданство ужаснуло сторонников Аристогейтона, которые решили, что человек, который придумал такое, заслуживает самой жестокой кары. По их мнению, столь радикальные перемены лишь приведут к смешению крови, а Афины не защитят. Конечно, неизбежно возникли бы гигантские трудности с распределением собственности и правами на землю.
– Но тебе, метеку,было бы выгодно…
– Едва ли, Стефан, поскольку я мгновенно сделался бы врагом в глазах коренных афинян. И все же, несмотря на то что прошлым летом Гиперид ужасно со мной обошелся, я испытываю некоторое сочувствие к его настоящему положению, столь шаткому по сравнению с непрошибаемой уверенностью наших патриотов.
– Которые, кажется, всерьез намерены очистить Афины от скверны, – сказал Феофраст.
– Это меня и тревожит. Охваченный столь бурными чувствами, Аристогейтон может совершить любую жестокость во имя того, во что верит. Искоренение зла тоже сопряжено с опасностями. Мне приходят на ум «Вакханки» Еврипида. Вы помните эту драму: добродетельный Пенфей, фиванский царь, собирается положить конец празднествам в честь Диониса и излишествам, которым, по его мнению, предаются женщины-менады, славя бога вина. – Аристотель откинул голову и продекламировал:
Пожилой философ, который, стоя среди улицы, высоким голосом произносил дышащие страстью слова драмы, являл собой довольно странное зрелище.
– Этот фиванский царь, – Аристотель вернулся к своему обычному тону, – хочет силой разделаться с безумием, противоречащим всем законам здравого смысла. А вместо этого лишь усугубляет его и в итоге сам становится жертвой.
– Воли небесной различны явленья,
Многое боги нежданно дают.
…Ах, я уже забыл последние строки. Помню только, что они начинаются со слов «воли небесной».
Выяснив, что я не помню последние слова «Вакханок», хотя был уверен в обратном, я покраснел. А старый философ при желании мог прекрасно декламировать целые стихотворные отрывки.
– Мы всегда цитировали в кружке Платона, – ответил польщенный Аристотель, когда я выразил ему свое восхищение. – И Александр тоже, он тогда был еще мальчиком. Если ему нравилось стихотворение, он учил его наизусть. Его любимой драмой Еврипида была «Андромеда», он знал на память огромные куски и, если его не остановить, мог декламировать до бесконечности. Думаю, его зачаровывало несчастье персидской принцессы и храбрость ее спасителя. Александр всегда воображал себя Персеем. Быть может, он смотрит на Азию, как на убитую горем принцессу, которую нужно освободить от чудовища. Правда, я не уверен, что царевич всегда цитировал правильно, но, в конце концов, существует много вариантов.
– Только не теперь, – заметил Феофраст, – когда Ликург скрупулезно записал все работы трех величайших драматургов: Эсхила, Софокла и Еврипида. Говорят, он собирается сделать то же самое со стихами Гомера. Чтобы мы всегда знали правильный вариант. Полагаю, читать по-другому станет преступлением.
– Странная идея, – вслух подумал я, – ибо многие чтецы, даже профессиональные, декламируя, часто вставляют в текст собственные слова. Особенно в стихи Гомера. Зачастую это неплохие отрывки, кто знает, может, они также принадлежат стилу Гомера? Чтец тоже принимает участие в создании произведения: он флейтист, а не флейта.
– Удовольствие, о котором ты говоришь, – ответил Аристотель, – исчезнет с появлением таких серьезных и достоверных источников. Вопрос в том, кому решать. А если кто-нибудь вдруг заявит, что он слышал, как сам Еврипид читал некий отрывок иначе? Не поставит ли это под сомнение надежность сделанной Ликургом копии?
– Придется сказать, что его дед слышал Еврипида собственными ушами, – предположил я.
С нашей стороны было разумнее громко обсуждать могущество Еврипида, давно усопшего драматурга, чем реальное или потенциальное могущество Аристогейтона, живого, очень опасного и не имеющего недостатка в друзьях, которые вполне могли на нас донести. Приближаясь к дому Ортобула, мы замолчали.
Собственно говоря, это был особняк. В те годы горожане редко строили большие, высокие дома, вошедшие в моду несколько позже. Но представители старинных богатых родов даже в городе издавна владели большими участками земли, а потому их жилища были просторнее многих более поздних построек. Дом Ортобула, довольно старый и расположенный в богатом деме,сразу бросался в глаза. В нем явно было множество комнат и просторные женские помещения на верхнем этаже.
Калитка в стене, окружавшей дом, была приоткрыта, и, толкнув ее, мы оказались в маленьком внутреннем дворике с небольшим деревом, дающим слабую тень. Под деревом на ступенчатом пьедестале стояла статуя – не просто герма,а настоящая фигура Гермеса в полный рост. На нижней ступеньке устроилась маленькая девочка лет пяти с куклой в руках. Опрятная туника, ухоженная и с игрушкой – хозяйский ребенок, не иначе. Странно только, что девочка сидит на улице одна. Из-под темной челки на нас воззрились огромные, круглые карие глаза.
– Привет тебе, дитя, – учтиво поздоровался Феофраст.
– Я Харита, дочь Эпихара, – объявила она. – А вы кто?
Вступать в разговор с чужим ребенком, и даже подходить к нему, было не слишком уместно, поэтому мы предпочли промолчать и направились к дому. В ответ на наш стук раб – старший слуга или привратник – подозрительно приоткрыл входную дверь. Он выглядел очень чопорным и воспитанным.
– Хозяина нет, – сообщил он. – Очень сожалею.
И начал закрывать дверь. Как странно, подумал я, этот человек говорит, что хозяина нет дома, когда все знают, что он умер, но тут же опомнился. Разумеется, теперь хозяином был Критон, хотя мы по старой памяти продолжали говорить «дом Ортобула».
– Думаю, – непринужденно и добродушно сказал Аристотель, – что малышке безопаснее находиться внутри. Видишь, калитка приотворена, девочка может убежать на улицу. А то еще придет кто-нибудь и украдет ее.
– Клянусь Гераклом! – побледнев от ужаса, вскричал привратник. – Ты прав, – он повернулся и крикнул: – Позовите кормилицу, пусть скорее заберет маленькую. Она во дворе.
– Но я хочу остаться здесь, – возразила малышка. – Я жду маму. Она обещала прийти, а я сказала, что буду ждать и, как только увижу ее у калитки, побегу навстречу.
Девочка подошла к нам, осторожно держа терракотовую куклу с движущимися руками и ногами. У куклы было безмятежное лицо и длинные волнистые волосы, разделенные на прямой пробор, что делало ее немного похожей на Фрину. Сама Харита была темноволосой и серьезной.
– Ты не знаешь, мама придет? – Она в упор посмотрела на Аристотеля.
– Я уверен, что она очень этого хочет, – ответил философ. – Она придет, как только сможет.
Лицо старого привратника помрачнело, и я понял, что, хоть он и был рабом, его печалила эта ситуация. Ну конечно! Он принадлежал Гермии, которая заменила слуг Ортобула своими, и теперь переживал за отсутствующую хозяйку.
Должно быть, Аристотель тоже это понял, поскольку сказал привратнику:
– Ты окажешь услугу своей госпоже, если позволишь нам войти. Ибо она сможет опровергнуть предъявленное ей обвинение, лишь представив как можно больше доказательств своей невиновности. Уверяю тебя, мы не желаем зла Гермии, а скорее сочувствуем ей, и не откажемся от твоей помощи. Мы не потревожим слуг.
– Ну что ж, – неохотно сказал привратник, – не знаю, что скажет молодой господин, но его здесь нет, а вас, если не лжете, знает госпожа. Ничего не случится, если я ненадолго впущу вас. Но что вам нужно?
– Всего лишь осмотреть помещения, упомянутые на продикасии, – ответил Аристотель. – Коридор и андрон,где Ортобул лежал на кушетке.
– Ничего не случится, – продолжал размышлять привратник, – если я все время буду смотреть за вами. Хотя следить за тремя сразу – задача не из легких. А потому прошу вас держаться вместе.
И он медленно и важно повел нас через прихожую. Я восхитился его манерами – столь непохожими на бестолковую суету моего раба, когда тот был вынужден открывать дверь и впускать посетителей. Мы шли за привратником, Аристотель – слегка впереди. Четвертым членом нашей маленькой компании была Харита, которая увязалась следом, так и не выпустив из рук куклу. Мы миновали прихожую, потом свернули направо, в широкий коридор, и, наконец, остановились возле двери в комнату.
– Вот андрон, – сказал слуга, – а кушетка, – тут он быстро вошел внутрь и передвинул кое-какую мебель, – на которой отдыхал господин, была вот тут.
– Лампы не горели?
– Нет, в тот вечер не горели. Но я могу принести лампу, чтобы вам было хорошо видно.
Мы вошли в комнату, которая казалась просторной, хотя нас было пятеро. Прекрасный андрон,гораздо красивее моего. Мебель из светлого полированного дерева элегантно смотрелась на фоне красных стен.
– Здесь стояла кушетка, на которой он лежал, – пояснил слуга.
– Я хочу найти Артимма, – сказала малышка. – Артимм всегда здесь, но я не знаю, где он сейчас.
Очевидно, она имела в виду игрушку или кого-то из своих друзей. Мы подумали, что лучше не обращать на нее внимания. Посторонним людям не положено обращаться к девочке в доме гражданина, даже к такой крохе. Харита стала играть с куклой, что-то ей нашептывая и держа так, чтобы та тоже могла нас видеть.
– Насколько я понимаю, – продолжал привратник, – старый хозяин, Ортобул, любил прилечь вечерком, прежде чем уйти.
Кушетка, на которой он обычно лежал, всегда стояла там, где вы ее сейчас видите.
– Ясно, – сказал Аристотель. – Не возле окна, а с другой стороны. Но ее видно из коридора.
Мы подошли к вышеупомянутому предмету мебели, выглядевшему довольно скромно, хоть и сделанному из первосортного дерева; на такой кушетке можно лежать во время пира или отдыхать днем.
– На ней всегда была подушка… тюфяк… как на кровати, – добавил слуга. – Вот, это он и есть.
Это был добротный тюфяк, обтянутый тканью с черным рисунком. Мы тщательно его осмотрели, а Аристотель даже понюхал. Я последовал его примеру, но не почувствовал ничего особенного, лишь запах соломенной набивки. Тогда я осторожно вдохнул поглубже, пытаясь понять, чем пахнет в андроне.Мало где пахло так хорошо, как здесь. Я внимательно посмотрел по сторонам, стремясь хоть что-нибудь разглядеть в сгущающемся полумраке, но здесь тщательно убрались прекрасно вышколенные слуги: вокруг не было ни пылинки, на стенах – ни пятнышка. Повинуясь внезапному порыву, я опустился на четвереньки, осмотрел пол под кроватью и обнюхал угол комнаты. В нос попала случайная пылинка, и я чихнул. Потом еще раз глубоко вдохнул. Отлично помня запах цикуты, я, конечно, уловил бы его, останься в воздухе хоть намек на яд.
Девочка рассмеялась.
– Ты как собачка! – воскликнула она. – Наша старая собачка тоже так нюхала.
Я решил, что разумнее промолчать.
– Осторожно с этой статуей, – предупредил Аристотель, когда я чуть не влетел в нишу, где стояла большая мраморная статуя женщины. Нет, двух женщин. Похоже, это были нимфы. Краски постамента были словно изъедены землей или смыты водой – наверное, раньше скульптура стояла на улице. Она гораздо лучше смотрелась бы на алтаре Пану и нимфам возле дома Смиркена, но в интерьер этой комнаты явно не вписывалась. Ниша была слишком мала для массивных, хоть и полных жизни фигур юных дев в пышных одеяниях. Одна из нимф почти задевала головой потолок и, казалось, хотела наклониться.
– Здесь была еще одна скульптура, – послышался тоненький голосок Хариты. – В другом месте. А эта папочкина.
Если я правильно понял, мраморные нимфы принадлежали Эпихару и лишь недавно появились в этой комнате, которую первоначально обставлял Ортобул.
Феофраст неодобрительно оглядел статую, но потом обнаружил возле нее полку со свитками. Довольно крякнув, он взял их и стал изучать, поднося к самому лицу. Потом уселся в кресло, присвоил одну из ламп, внесенных слугой, и погрузился в чтение.
– Так, Стефан, ты ложись на кушетку, – скомандовал Аристотель, – а я выйду в коридор и буду Клеофоном.
Он скрылся во мраке коридора, затем неуверенно заглянул в комнату и прошептал:
– Отец?
– Я отлично тебя слышу, – смеясь, ответил я.
– А я отлично слышу тебя, – сказал он, – хотя не вижу. Нет, все неправильно. О чем я только думаю? Конечно, ты со своими молодыми зоркими глазами должен быть Клеофоном, а я – беднягой Ортобулом.
С этими словами Аристотель улегся на кушетку, а Феофраст время от времени поднимал взгляд от свитков и с любопытством на нас посматривал. Я тоже взял лампу и вышел с ней в коридор. За мной увязалась маленькая Харита. Даже в этом темном проходе были видны ее огромные глаза, явно не упускавшие ни одной детали.
– Вам нужна папина дочь, – с надеждой сказала она. – Дочка. Любимая.
– Иди, маленькая, и не мешай нам, – сказал я настолько строго, насколько позволяло мое странное положение.
– Пусть все будет достоверно, – сказал Аристотель, – задуй лампу, и ты тоже, Феофраст, нам не нужен лишний свет.
Я повиновался. Комната погрузилась во мрак.
– Отец? – прошептал я.
– Иди, мальчик, дай мне подремать, – невнятно проговорил Аристотель. Именно так, если верить Клеофону, поступил Ортобул.
– Я слышу тебя, – сказал я, – но, честно говоря, почти не вижу. Только темный силуэт и белое пятно вместо лица.
Аристотель сел.
– Ну, это уже что-то, – произнес он, потирая ногу. – Не самая удобная кушетка, но с другой стороны, кости Ортобула были помоложе моих.
Слова Аристотеля повисли в тишине, напомнив нам, что костям Ортобула уже не суждено состариться.
– Тюфяк другой, – сказала девочка.
– Другой? – переспросил я.
– Не такой, как раньше, – объяснила Харита. – У него другая ткань и новая солома.
Привратник отличался острым слухом.
– Что ты там болтаешь, детка? – Он бросился к нам. – Малышка ничего об этом не знает, господа. Она ничего не смыслит в хозяйственных делах. Ортобул лежал на этом тюфяке. Его-то вы и желали видеть, да? Куда ж запропастилась эта кормилица?
В коридоре послышались проворные шаги кормилицы, которая по дороге в комнату отчитывала кого-то из слуг.
– Чем ты только думал, когда выпускал этого драгоценного ягненка во двор? Шерсть у тебя в голове, что ли?
Очевидно, тирада предназначалась для ушей старшего слуги. Все еще продолжая ворчать, в комнату вошла низенькая женщина с морщинистым лицом старухи и проворная, как юная девушка.
– Вот ты где, Харита, сокровище мое! Как это тебе позволили говорить с чужаками, словно мы какие-то нищие! – Кормилица окинула нас враждебным взглядом.
– С девочкой все хорошо, Кирена, – виновато проговорил привратник. – Я глаз с нее не спускал.
– Да, это, конечно, большое утешение. – В голосе Кирены послышалась утонченно-ядовитая насмешка.
– Со мной ничего не случилось, – заявила малышка Харита. – Все хорошо, няня. Но я не могу найти Артимма. Я хотела, чтобы он кое-что для меня смастерил. Я ждала мамочку, а потом пришли эти люди. Они хотят посмотреть, где лежал папа. В ту ночь, когда умер.
– Забивать голову ребенка таким вздором! – негодующе вскричала кормилица. – Кто вы? Чьи наемники? Зачем явились? Ходят тут всякие, мучают госпожу, мучают, – почти простонала она. Харита, казалось, готова была расплакаться.
– Уверяю вас, – сказал Аристотель, – нас не нанимал Критон, и вдове Ортобула мы не враги.
– Тем лучше, – фыркнула женщина, – а то боги поразят вас молнией. Маленькая, – повернулась она к своей подопечной, – пойдем на женскую половину, попьем молока с водичкой и приляжем, да?
Харита опустила глаза – очевидно, ее это предложение не прельщало – и задвигала ручкой куклы.
– Харита не хочет идти, – запищала игрушка, а ее ручка яростно вращалась, словно отмахиваясь от кормилицы.
– Здесь оставаться нельзя. А то какой-нибудь непрошеный гость тебя сцапает. Вон опять кого-то принесло, – зло сказала кормилица. И точно, раздался громкий стук. – Маленькая госпожа и ее кукла отправляются наверх, нравится им это или нет.
Кирена направилась к двери, потянув за собой ребенка. Харита пошла следом, зажав под мышкой куклу, ноги которой стучали по полу. Вскоре все трое скрылись из виду.