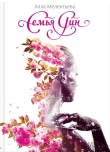Текст книги "Избранное"
Автор книги: Магда Сабо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц)
Через распахнутое кухонное окно Янка позвала дочь, пора было переодеваться в траурное платье. Сусу послушно собрала свои учебники и тетрадки. Янка с жалостью смотрела, как тонет худенькое тельце в черной ткани. На редкость хороший, спокойный ребенок ее дочь! И глаза у нее ясные и невинные, открытые детские глаза, не ведающие ни тайн, ни забот. У Аннушки взгляд менялся поминутно, под наплывом впечатлений, а у Жужанны он всегда одинаково чист и спокоен. Сусу в ее годы – чистое дитя, жизни совсем не знает. Об окружающем мире и о взаимоотношениях взрослых ей известно ровно столько, сколько она, мать, сочла возможным рассказать ей. Сусу кроткая и послушная девочка, Янка любит ее так же горячо, как когда-то Аннушку, но с Жужанной спокойнее, о Жужанне никак не скажешь, что она капризна, и не станет она задумываться над странными поступками взрослых: не детского ума это дело. Сусу – истинный ребенок и единственное существо на всем белом свете, которое ей, Янке, и близко и понятно, которое она знает как самое себя.
«Мамуся!» – с нежностью думала Сусу. Она уткнулась головой в руки матери. От рук исходил тот же запах, что и от траурного платья: чуть кисловатый запах красителя. Бабушка сейчас лежит в гробу, и никто ее не оплакивает, даже Дедушка. Как она заметила, Дедушка опять прихватил с собой ключ от погреба. Говорят, алкоголь вреден для здоровья. И ключ от виноградника тоже кто-то забрал, не видно его на обычном месте, где висят ключи. Хорошо бы сейчас поесть винограду! Господь милостив даже к грешнице. Папа тогда солгал. Дядя Арпад крадет. А Мамусю никто не любит, кроме нее, Сусу. Столицей нашей родины является Будапешт. Улица Келтэ, 97. Папа совершенно точно знал, где живет Аннушка; почему же, когда его спрашивали, он сказал, что не знает?
7
Окно было распахнуто настежь, из сада долетала болтовня Жужанны и сверлил уши тонкий, препротивный дискант тещи. В доме его отца, приходского священника, окна точно так же, как и тут, выходили в сад, только родительский дом был весь насыщен ароматом цветов, каждая комната, куда ни зайди, встречала своими запахами цветов и трав. Зимой, стоило только открыть дверцу шкафа, и вас захлестывал запах лаванды или мяты: засушенные травы в тюлевых мешочках мать хранила на полках среди белья. В их саду тоже высаживались только сильно пахнущие цветы, даже католики приходили к ним попросить черенков. У матери были удивительные руки: сухие прутья – и те расцветали, стоило только матери прикоснуться к ним. Если же он заходил в кабинет отца, то и там его преследовали запахи: стойкие запахи цветочного мыла и фиалок. Он до сих пор помнит, как это его раздражало. Цветы, цветы и цветы, будто на каком-то нескончаемом свадебном пиру. Пряные запахи кухни. Мать и Францишка поливают каплуна растительным маслом, отец раскатисто смеется и похлопывает по плечу куратора, Янош – младший брат – уплетает, за обе щеки уписывает грудинку. Братец всегда ел сколько влезет, и все же к тридцати годам чахотка скрутила его. Нет, в родительском доме слишком любили земные блага.
Янка, что ни день, заново прибирает здесь, перетряхивает, проветривает. Без малого до сорока лет дожила и никак не может усвоить куцым умом своим, что ему нравится запах пыли, скопившейся среди книг и бумаг. Этот запах напоминает ему студенческие годы, долгие сидения в библиотеках, когда от чтения начинали болеть глаза. Раньше, когда Анжу был в доме, священника особенно раздражал каким-то греховным своим буйством непотребно разросшийся сад, который Анжу умудрился развести на здешних песках. Розы, гвоздики и тюльпаны с темными, широко раскрытыми чашечками. По счастью, у старой Кати не та рука, ее небрежение постепенно истребило все цветы. Кати ленива и, даром что отец ее был садовником, сама она так и не пристрастилась к цветоводству.
Девчонка болтает без умолку! Ее мать – та без нужды лишнего слова не скажет. Обычно и девчонка тоже не мелет попусту, виновата старуха, это она развязала ей язык. Сколько он помнит себя, его всегда раздражало людское суесловие; и Францишку поминутно приходилось одергивать, когда он еще подростком учил уроки. Языком работать Францишка горазда, это она всегда умела. Усядется бывало, на стульчике и, разводя кукле руки в стороны, знай болтает, даже когда ее слушать некому, рассказывает что-то сама себе, громко, вслух, звенит, не умолкая, и не было для нее игры лучше этой. Приходский храм, где исполнял службы его отец, стоял на склоне горы, почти на окраине села, взберешься на колокольню, а вокруг – шири и дали балатонские. Но даже туда, на колокольню, долетала болтовня Францишки.
В Секешфехерваре в пору ученичества ему жилось гораздо спокойнее: правда, его сосед по комнате, Марци, любил поболтать, но стоило его одернуть, и он тут же замолкал, только посапывал обиженно. А светлые годы студенчества! Каким счастьем было подолгу сидеть в университетской библиотеке! Женева жила размеренной, тихой жизнью, к десяти вечера весь город спал. И если где-то светилось окошко, это означало, что в доме больной или корпит над книгой ученый. В окне у Шобара нередко до самой зари не гас свет. Священник раскрыл лежавшую перед ним книгу. Книга перешла к нему из отцовской библиотеки, на чистом листе лиловыми чернилами было вписано имя отца: «Johannes Mathe, stud.div.» [6] . Он вычеркнул старый экслибрис и вписал свое имя: «Dr.Mathe Istvan. Doctor Divinitatis» [7] . Если бы ему удалось тогда стать епископом…
Арпад сказал, что венок будет из дорогих гладиолусов. Пустопорожние и суетные траты, он выложил все деньги, что удалось прикопить бережливостью и лишениями. Триста форинтов взял у него Арпад. Янка утверждает, что видела очень красивый венок и всего за сто пятьдесят форинтов, но ее нечего слушать, Янка крайне бестолкова и всегда все путает. Похороны встанут им тысячи в две. Ну что ж, У Ласло Куна денежки водятся, пусть он и выкладывает,
Священник отхлебнул глоток вина. Вино со своего виноградника: за ним сохранился крохотный участок на склоне Кунхалома. Он очень любил домашнее вино; мог бы пить и пить стакан за стаканом, мог бы целый колодец осушить, будь там вино вместо воды. Наедине с самим собой он может признаться: вино во все времена сулило ему блаженство, но долгие годы строгое воздержание было его правилом, только в тех случаях, когда нельзя было уклониться от угощения, он разрешал себе пригубить вина. Однако даже муки обуздания плотских соблазнов были тогда приятны; вечером лечь в постель и до последнего мига, пока не сморит сон, остро жаждать отведать терпкого, молодого вина и оборевать искушение. Боже, как он был молод тогда!
Круг чтения его в основном замыкался книгами собственного сочинения; чаще других он любил перечитывать сборник своих лучших проповедей, благочестивое исследование, посвященное догмату троицы, а также историю церкви, но ближе всего ему был главный труд его жизни – пространное жизнеописание Кальвина, книга, переведенная на многие языки. Больше всего его поражали собственные проповеди: он дивился их пафосу, полету мысли, изысканному богатству языка. И поныне с наступлением пятницы он испытывает некое возбуждение: с годами у него вошло в привычку по пятницам сочинять свои воскресные проповеди. Пора бы уже и отринуть старый обычай, коль скоро своды тарбайского храма оглашают проповеди Ласло Куна. Червь недостойный! Интересно, какую мзду он взимает с властей предержащих за эти проповеди? Когда настанет день суда – не господнего суда, но земного, то он, если доживет, не осквернит уста свои заступничеством за фарисея. То, что Ласло Кун сейчас дает ему кров и пищу, – это не милость, но долг его. Долг священника и обязанность человека. Вспомнить только, кем он был, этот Ласло Кун, когда он приметил его: голодный подросток – ни гроша за душой, начинающий капеллан, неловок и косноязычен, двух слов связать не мог. Долгие годы, не щадя труда и терпения, воспитывал, отесывал он неуча. Все, в чем умудрен Ласло Кун, он перенял от него, даже осанку и жесты – плавный и в то же время энергичный жест, каким он приподнимает облачение или раскрывает Библию; фарисей он и коммунист. Сожаления достойно, что Арпад не возжелал стать священником. Со спокойною душою оставил бы он приход Арпаду.
Он поднял взгляд на портреты. Оба портрета когда-то принадлежали его отцу: Кальвин в мантии с меховой оторочкой и знакомая тощая фигура Цвингли. Карта – это его личное приобретение: выполненная в розовых тонах слегка помятая карта под стеклом, в узкой черной рамке. Порою, когда взгляд его блуждает по этой карте, он мысленно совершает прогулки. Идет вдоль берега Роны, через мост Мон-Блан попадает на остров или же сворачивает в одну из улочек Cite. Остров с памятником Руссо неизменно вызывал в нем гнев. Памятник недостойному безумцу! Вся душа его возмущалась при виде родительского дома Руссо, тем паче что сам он, священник, жил чуть ли не напротив этого дома. Уму непостижимо, чтобы неискушенный юноша – ему исполнилось тогда двадцать – по сути был человеком совершенно сложившихся, зрелых суждений. Уже тогда разум его постиг, какие опасные теории проповедовал этот одержимый. Женева. Хоть бы единожды еще пройтись по городу вечером, когда в узкие улочки едва пробивается лунный свет, и лунные блики ложатся на башенки и крутые, сводчатые крыши домов. Как встарь, взбежать бы по университетской лестнице и постучаться у дверей семинарии. Профессор Шобар, как всегда, в трудах, его в любое время можно застать в стенах семинарии, даже в ночные часы. Сморщенное лицо профессора светится приветливостью, когда он выслушивает излияния своего ученика. «Lacus Balaton» [8] , – говорит он профессору по-латыни, но произносит «lakusz», – так выговаривает это слово Шобар. «Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего…» Шобар умер в тот год, когда его самого посвятили в доктора богословия. Той ночью он плакал, припав к плечу Бонифация Жимеля подле памятника Реформации. Шобара оплакивали и ректор, и члены университетского совета. «Вот когда я стану епископом!… – говорил он Бонифацию. – Знаешь, когда я стану епископом…» Тогда он был так уверен, что станет епископом!
Девчонке в саду, как видно, надоело болтать, потому что вдруг воцарилась тишина. Он выглянул из окна. Увидел Сусу, чертившую что-то на песке, заметил, что теща дремала. И снова потянулся к стакану. Благодатный покой, не слышно болтовни этой Дечи. Спит, а физиономия размалевана! И платье коротко, не по возрасту! Старческую дряхлую кожу не скрывают даже чулки. На его средства она наряжается, на его кровные денежки покупает сурьму и румяна. А ведь, как ни прикидывай, ей под восемьдесят. Страхолюдина обликом, а также и нравом противна!
Удивления достойно, что он всегда сторонился ее, и чувства его противились; еще дома, в селе, он радовался, если глаз не видал ее в стенах церкви, если он не встречал ее на улице и не надо было принуждать себя к разговору с ней. Лжива и вероломна. Как он мог не заметить поначалу, что она лжива до мозга костей! Однажды он увидел у нее в руках какую-то французскую книгу в желтом переплете, писанину заведомо безнравственного содержания. Когда же он поинтересовался, что именно она читает, Дечи чуть ли не на глазах у него под столом подменила книгу. Та, другая, тоже была в желтой обложке – роман Йокаи, в мягком переплете, дешевого издания. Как удалось ей такое? Крайне доверчив был он с этой особой, и как зло отплатила она ему за его доверчивость! Двести форинтов посылает он ей ежемесячно. Нечего сказать, достойно же она распоряжается его средствами! И болтает без умолку, нижет слова, точно бисер. Эдит была молчаливой. За то он и полюбил Эдит, что праздное слово редко слетало с уст ее.
В захолустном селе – не в том, где был его родительский кров, а там, где он начинал служить церкви и где он встретил Эдит, – холм над озером порос виноградными лозами. И меж виноградных лоз по рыхлому песку в ржаво-красных отливах порхала восемнадцатилетняя Эдит. Никогда прежде не доводилось ему видеть девушку, столь немногословную и сдержанную, нежели Эдит. И это ее неизменное белое платье, и белою лентой перевитые золотистые пряди. Никто не умел слушать внимательнее, чем она. Разве что Бонифаций, но тот был далеко.
Когда он сделал Эдит предложение, она убежала от него; вскинула голову и побежала, еще мгновение – и она стремглав бросилась вниз по холму, прочь от церкви, где они беседовали. Длинные, золотистые волосы ее на бегу рассыпались по плечам, она напоминала бегущую фею. Эдит открыто сказала, что не любит его, но священник не придал веса ее словам. Точно так же сестра его Францишка на все вопросы о женихе пожимала плечами и уверяла что не любит; когда Дюри, его бывший зять, сделал ей предложение, Францишка залилась слезами, спряталась на чердак и кричала, чтобы Дюри убирался подобру-поздорову, что не любит она его и что она вообще не пойдет замуж, хоть режьте. Потом она, конечно, вышла за него, не минуло и трех месяцев, как они поженились, и тошно было смотреть, как они поминутно целовались в саду, ему даже приходилось одергивать молодоженов. Но эта старуха, она обманула его; Эдит молода еще, твердила она тогда, девушка не знает жизни, ей ли судить о мужчинах. «Я ищу в ней друга жизни», – сказал он тогда старухе. Он против воли разговаривал с Дечи, потому что не любил ее, терпеть не мог и ее дом, где всегда царил беспорядок, повсюду были разбросаны французские романы, на стене висела палитра, и на каждом шагу можно было наткнуться на какие-то безобразные картины; у картин даже не было рам, как положено в приличных домах, холсты прямо так и стояли прислоненные к стене или на мольбертах.
Эдит повернулась к нему спиной; его сбивала с толку невежливость девушки, а она стояла лицом к окну и не отрываясь смотрела на Балатон. Дечи болтала без умолку разные глупости, что дочь, мол, крайне стеснительна, она-де еще сущее дитя: Эдит упорно молчала. Священнику очень нравились молчаливые люди. Он разглядывал спину Эдит в облегающей фигуру белой блузке и мечтал, как славно будет сидеть в кабинете и писать, а Эдит тоже пристроится рядом, займется каким-нибудь своим делом – рукоделием, к примеру, – и время от времени будет вскидывать на него взгляд, а вечерами они, рука об руку, возблагодарят Господа за дарованный им день. Старуха вышла на кухню приготовить чай, тогда Эдит обернулась к нему, и он увидел, что лицо ее залито слезами. Францишка тоже всегда плакала по малейшему поводу, заливалась в три ручья и в тот раз, когда Дюри попросил ее руки. Он поцеловал Эдит. Как живо помнит он и по сей день тот поцелуй: губы ждали, что щеки ее будут пылать. Лицо Эдит оказалось холодным, как мрамор, и слезы ее тоже были холодны. Он женился на Эдит.
Интересно, какую проповедь произнесет сегодня у могилы Такаро Надь? По совести говоря, Такаро Надю следовало бы зайти к нему, посоветоваться с ним, но, похоже, Ласло Кун и это уладил через его голову, в его собственном доме с ним теперь совсем не считаются. Эдит полагалось бы выносить на кладбище не из часовни, а отсюда, из тарбайской церкви, но Ласло Куну этих тонкостей не понять, для него похоронный обряд – не более, чем пропаганда, пышная церемония, цель которой показать, что у нас никто не вмешивается в дела священнослужителей. Господи, да минует меня чаша сия! Господи, не попусти дурным страстям возобладать в сердце моем! Кем мог быть этот Кальман, что во время их венчания стоял рядом с Дечи? Пренеприятнейший тип в охотничьей шляпе, и перстень с печаткой на руке. Очевидно, этому Кальману было известно многое о странностях Эдит, которые сокрыли от него, жениха. Не будь сама мысль греховной, он утвердился бы во мнении, что Кальман – любовник тещи. Старик отогнал от себя подозрение. «Не судите, да не судимы будете». К тому же доказательств у него нет никаких.
Такаро Надь куда как слабый ритор – не в пример ему. А задача преинтереснейшая – оплакать лишенную разума. Рука его самопроизвольно потянулась к перу, но тотчас же он устыдился своего порыва, «Будь в сердце своем смиренна», – написал он Эдит в молитвенник, Эдит только взглянула на него и ничего не ответила. Теперь-то она воистину смиренна, а ведь как умела буйствовать! Когда священник приехал сюда, в этот город, Кати стояла у ворот и глазела, как молодая жена выходит из коляски: «Господи Иисусе, до чего ж она молоденькая да слабенькая! И кротка, будто агнец божий!» А была она что тигрица лютая. И плоть ее была греховною плотью хищницы. Единожды в жизни он зрел ее обнаженной – в тот день, когда пришлось навсегда удалить ее из дома. В тот миг, когда он увидел ее обнаженной, у него дух захватило от стыда и срама. Но как же прекрасна она была, эта грешница! Доколе не отпускают человека мысли о блуде? Конечно, зреющую душу ее смутили бесчисленные картины с изображениями нагих людей, все эти порочные полотна в доме ее матери. А как светла была его радость, когда женился он на Эдит, когда ввел ее в дом свой и впервые затворил дверь спальни; он полагал в слепоте своей, что отныне ему не придется смирять плоть, что отныне с божьей милостью… Он снова отхлебнул из стакана. Эдит оказалась строптивой, еженощно ему приходилось воевать с нею, всякий раз приходилось одолевать ее, и наутро все плечи его были сплошь в ссадинах и кровоподтеках. Как видно, Господь ниспослал испытание рабу своему.
«Сыну человеческому должно много пострадать. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». Так что же, по слову божьему старухе этой, что в саду, отпустятся ее прегрешения? Получит отпущение грехов коварная Дечи, которая сплавила ему в жены умалишенную? А Эдит? И ее также осенит милость божия? Если бы Шобар был жив… Некогда он писал благочестивый труд о предопределении человеческом.
Янка уверяла, будто самый пышный венок стоит не дороже ста пятидесяти форинтов. Какую же роскошь закажет Арпад: венок за триста форинтов? Он хотел было купить к зиме ботинки, полгода откладывал деньги на покупку. Не будет у него новых башмаков, проносит старые, в крайнем случае можно не выходить, как выпадет снег. Просто диву даешься, какие заносы бывают тут, на Алфельде! В прошлом году он за целую зиму ни разу не был у Эдит, потому что башмаки у него прохудились, а просить у Ласло Куна на починку не хотелось. Впрочем, неправда, так утверждать – значит кривить душою. Он избегал навещать Эдит, лицезреть ее было свыше его сил. Арпад навещал Эдит вместо него. Наведывался к ней каждые две недели. Но до чего невнимательны эти теперешние врачи! Керекеш, лечащий врач Эдит, посмел заявить вчера, будто бы за последние два года дай бог если раза четыре видел Арпада в больнице. Врачи, называется, а сами столь непамятливы и ненаблюдательны. Да ведь такого высоченного парня нельзя не заметить! Впрочем, можно ли от них ждать добра? Теперь все врачи – атеисты.
Чем там занимается этот ребенок на скамейке? Учится. Учится по коммунистическим учебникам. Безгранично терпение твое, Господи, и медленны твои жернова! Будь он епископом, он бы отстаивал дело церкви до последнего. И в темницу заключен, пел бы, как галерные невольники. «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Этот же Ласло Кун – богохульник, святотатец! Он догадывался об этом, еще когда отдавал за него Янку, но подавил в себе протест, радуясь, что хоть кто-то позарился на эту девицу. Как же, нужна была ему Янка: приход – вот чего добивался Ласло Кун. Тогда еще он был священником в Тарбе, и, проникнув в его дом, Ласло Кун с легкостью лишил его места. Верх безбожия – эта его проповедь в защиту мира! Как низверглись Содом и Гоморра, так пусть истребит Господь и этот город: пусть серное пламя поглотит его, ибо среди множества людского здесь нет ни единого праведника, кроме него! Если бы вместо Янки родился мальчик… А Янка умом не сильна и малосведуща. Безлика, что тень. Где закон, запрещающий человеку принять епископский сан, если жена его – душевнобольная? Теща, как видно, всегда вела предосудительный образ жизни, даже на похороны старуха приехала в тонких чулках, и брови у нее подведены, волосы завиты. Неспроста она десятки лет не решалась показаться ему на глаза. Неведомо, каким порокам она подвержена, какому греху предавалась, живя в Фехерваре или у себя в селе. Янка во всем подлаживается к мужу, Жужанна глупа. По сути, все женщины глупы. А Янку он никогда не любил.
Если сегодня на похоронах не будет пресвитеров, это вина Ласло Куна. Его, старого священника, все жалеют, и всяк разговаривает с ним участливо. Стоит ему шаг ступить за ворота, как сам куратор радушно раскрывает объятия: «Да, иные времена были прежде, ваше преподобие!» Даже Эдит – и ту жалеют; добрый народ в этих краях, легко забывает содеянное. Если бы Эдит не была ущербна духом. Если бы жена стала ему опорой… Если бы хоть одна живая душа протянула ему руку помощи… Но ему никто никогда не помогал, кроме Шобара – четыре года подряд ему было обеспечено бесплатное место в женевском интернате… А все-таки кем мог быть этот Кальман, которого он столь часто видел в доме будущей тещи?
Профессор не желал отпускать его домой. «Я возвещу слово Господне народу своему!» – возразил он тогда Шобару. Остаться бы ему тогда в Женеве… Опять эта Жужанна роется в пыли! Сотни раз внушал он девчонке, что подобные шалости пагубны для здоровья.
Положа руку на сердце можно сказать, что у него как бы и не было жены. Всю свою жизнь он прожил соломенным вдовцом. А рукоприкладство он перенял от Эдит, Францишка тому свидетель: он сроду пальцем не тронул ни ее, ни брата своего Яноша, хотя Янош часто гневил его: он был не прилежен в учении и приносил плохие отметки. Бедный Янош, прилипчивая хворь годами не отпускала его. Он рад, что не усугубил страданий ближнего: не неволил брата учиться в университете. Надо бы съездить в Эмече, он не был на родной могиле с тех пор, как привез Арпада после смерти невестки. Тоже хороша была мать семейства: грудь вздымают греховные желания, уста плотоядны. Тьфу, непотребство!
Да, Эдит приучила его драться. Эдит панически боялась его, и стоило ему приблизиться к ней, как она пускала в ход кулаки. Не боялась Эдит только Михая Йоо, хотя тот сущий разбойник. Видел он как-то недавно этого Михая; судя по облику, скудно живет, в нужде. Бродяга неимущий. Дождется зимы, вот тогда удастся ему подзаработать немного на рождественских игрушках, если, конечно, будет на них спрос при теперешней безбожной жизни.
Рождество. Перед глазами видения прошлого. Он ясно видел маленькую Аннушку: она, стоя на четвереньках и набрав полные щеки воздуха, раздувает свечу, прикрепленную к игрушечным яселькам. Он никогда не разрешал ставить елку и не покупал рождественских подарков детям. Францишка никак не могла уразуметь причины, но, как известно, Францишку бог обделил умом. Сколько неприятностей, сколько ненужных волнений причинила она своими глупыми подарками! Чего стоило одно золотое колечко, подаренное ею крестнице Аннушке! А серебряная ложка! Зачем понадобилось приносить на крестины серебряную ложку? Все сие – мирская, суетная, бессмысленная роскошь. Доведись ему начать жизнь сначала, он и теперь не отошел бы от своего твердого принципа: не покупать никаких подарков. Жужанне ставят елку, Ласло Кун, видите ли, так желает; но лично он, священник, не выходит из своего затворничества в тот момент, когда зажигают елку, нет у него сил лицезреть богохульные кривляния. Откуда знать ничтожному Ласло Куну, каким было истинное рождество в Женеве, откуда ему проникнуться подлинной кальвинистской верой! Свечи, елочные леденцы, игрушки… Суета сует. Рождество – это праздник святого духа, а вовсе не карнавал.
Маленькая Аннушка, стоя на четвереньках, дула на свечку, черные волосы свесились ей на глаза, пламя свечи колыхалось, и в такт ему колыхались черные пряди; а Михай Йоо стоял позади нее на коленях и поправлял игрушечные фигурки девы Марии, Иосифа и младенца на руках у Марии. Священник тогда побросал в огонь все фигурки, застав Михая и Аннушку подле рождественской елки в сарае. Михай Йоо даже елку нарядил для Аннушки и украсил бумажными гирляндами. Аннушка пыталась выхватить из огня игрушки и обожгла себе руки; надолго должно ей запомниться то рождество.
В конечном счете и Михая Йоо ему пришлось терпеть в доме тоже из-за Дечи. Не будь Эдит, не было бы ни Янки, ни Аннушки. Аннушка никого не желала слушаться, только Михая Йоо. Господь испытуя карает того, кого возлюбил. Его, священника, должно быть, Господь любил более прочих смертных.
Как жарко сегодня, не упомнить такой жары в сентябре. Ныне сидит он, аки Иов на гноище, а окрест него – разорен очаг и рассеяна его семья. Эдит в гробу, одно дитя свое он утратил безвозвратно, другая дочь при нем, но так, словно бы ее и нету, а зять, тот продал бога коммунистам. Только Арпад у него и остался, но Арпада он так редко видит в последнее время.
У профессора Шобара не было близкой родни, он не был женат. Хоть раз перенестись бы в Женеву… Но ему больше так и не представилось случая побывать там. Минуло двадцать девять лет, как он возле памятника Реформации вскрыл телеграмму и прочитал: «Родилась девочка». Снова девочка, сиречь «утлый ковчег». Теперь, когда Эдит умерла, он не обязан посылать деньги теще. Родственные связи между ними оборваны. Чего ради он должен отказывать себе в необходимом? Чтобы старуха могла покупать белила да румяна? Как спокойно спала крохотная Аннушка, когда он вернулся домой. Откуда берется то зло, что приносится в мир земной невинным младенцем? Первородный грех. Вовек не избыть его, и одно упование для человека – на милость Господню.
Епископ всего на семь лет моложе него, и видом недужен, поговаривают, будто он страдает печенью. Если болезнь, не приведи Господь, унесет епископа, ужели дорога к сану будет открыта лишь столь недостойным, как зять его? Если обстановка изменится, Ласло Куну лучше убираться на все четыре стороны, уж он лично позаботится о том, чтобы для богоотступника не нашлось места во всей епархии. У него, Иштвана Матэ, двадцать семь печатных трудов, и, коли пожелает, он мог бы снова взяться за перо.
Нет, не станет он впредь слать деньги Дечи. Эдит нет в живых; священники старшего поколения чураются движения за мир. Если бы им удалось собраться всем купно…
У епископа больная печень, плоть его все немощнее день ото дня… А вот он, Иштван Матэ, полон сил. Сегодня ему предназначено испить до дна чашу унижения, но завтра… Сегодняшний день будет тяжек. Что, бишь, говорила эта старая мошенница Дечи? Как будто обещала уехать вечерним скорым. Такаро Надь всегда был косноязычен. Если бы спросили его совета, он указал бы на Антала Гала – хотя бы потому, что человек тот по нраву добрый и кроткий и начинал свое духовное поприще под его присмотром, по сей день в воскресных проповедях пользуется его конспектами.
Если бы вместо Аннушки Господь дал ему сына… Интересно, много ли правды в том, что Францишка рассказывала об Аннушке? Францишке всегда доставляло удовольствие возводить хулу на людей, а с тех пор как она овдовела, язык у нее стал что ядовитое жало. Впрочем, что еще можно сказать об Аннушке, кроме дурного. Удалось ли ей хоть раз за свою жизнь совершить нечто, подобающее человеку, как того требуют приличия? Даже благие ее намерения и те оборачивались во зло. Ему вспомнился давний случай: он вернулся с виноградника, а Янка в слезах встретила его у ворот. Как выяснилось, Аннушка в тот день побывала в Смоковой роще и привела домой к обеду три семейства бедняков. Михай Йоо затворился у себя в дровяном сарае и громогласно потешался там, Янка плакала и ломала руки. У подворотни околачивались какие-то оборванцы – ликом лукавы и неприветливы, – а среди этого сброда суетилась Аннушка в переднике: нарезала ломти хлеба и намазывала их жиром. Хорошо хоть, что проходимцы убрались по первому окрику, не пришлось пускать в ход палку. «Ты же сам говорил! – рыдала Аннушка. – Ведь ты же сам говорил: если брат твой голоден, накорми его!» Священник побил ее, а она повернула против него слово Господне и его же собственную проповедь. «Если брат твой голоден, накорми его…» Правда, текст проповеди был составлен в этом духе. Но чтобы созывать в дом голодранцев из Смоковой рощи… И тут его охватило какое-то гнетущее чувство, которое он и сам не мог бы точно определить. Снова рядом с ним была Аннушка, о которой он старался вспоминать так же редко, как об Эдит. Аннушка с вечно взлохмаченными черными космами. Так и не отыскались те серебряные подсвечники, которые она, возвратясь после занятий в воскресной школе, подала нищему. Он сердился не потому, что подсвечники были серебряные: что есть серебро – бессмысленное роскошество! – однако же… Эдит была сумасшедшая, но поступки Аннушки тоже в неменьшей степени сумасбродны.
Могло ли быть для него большее унижение перед Господом, нежели то, что он пригласил на похороны Аннушку и тещу! «Потаскуха», – едва не вырвалось у него вслух, и он содрогнулся: бранное слово пришло так естественно. Дечи была потаскухой, да и Аннушка, как видно, не лучше. Францишка видела ее в ресторанчике с каким-то мужчиной, оба ели из одной тарелки. До двадцати лет приходилось кулаками учить ее уму-разуму. И в благодарность она не придумала ничего лучше, как сбежать из отцовского дома. И с того дня за целые годы не написать ни строчки, ни слова раскаяния, ни мольбы о прощении, вроде: «Отец, я согрешила перед тобой и перед Богом, прости меня», – так нет же! Замкнулась в молчании, словно бы тем хотела доказать, что она прекрасно обходится без него и отец ей не нужен. Чего доброго, и в церковь не ходит. Наверное, малюет и малюет целыми днями; сколько он помнит – это было единственное занятие, на которое у нес хватало любви и терпения. Коринна. Как могла измыслить Эдит столь несуразное имя?
Если Аннушка приехала, то, должно быть, она прямиком направилась в Смоковую рощу – куда же иначе? Он и сам удивился силе своей неприязни: неужели он так остро ненавидит Михая Йоо? Стоило ему представить, что Аннушка обретается сейчас на улице Гонвед, что именно туда она поспешила прямо с поезда и сейчас говорит, рассказывает о себе, поминутно встряхивая черными космами, хлопочет по двору, моет посуду – и любимое вино показалось ему горьким. Когда у него был перелом бедра и ему несколько месяцев пришлось лежать в гипсе, а Янка обихаживала его, он помнит, малейшее прикосновение Янки отдавалось болью. Арпадик с ним ласков и обходителен, вот уж поистине прекрасной души человек, но как-то так получилось, что бедняге в ту пору очень много пришлось заниматься и редко удавалось навестить страдальца, разве что забежит, бывало, на минутку-другую. Аннушка – та докучала ему постоянно, днем и ночью. Скрипнет, бывало, половица, чуть слышно, будто мышь пробежала, и глядишь: Аннушка уже тут как тут, стоит возле него – босая и в ночной рубашке; перебегая через темный двор в канцелярию, она никогда не брала с собой свечу, в детстве она ничего не боялась, но зато и платья обычно не надевала, так и расхаживала полураздетая, а ему даже лежа в постели приходилось наставлять ее битьем, – а уж как мешала ему при этом больная нога! Но Аннушка все равно приходила каждый вечер запоздно – босая и по-прежнему в одной рубашонке, – осторожно приоткрывала дверь, проскальзывала в комнату, наклонялась к нему и спрашивала: «Тебе не страшно, папа?» Срамница! Однажды он, сам не зная почему, ответил ей, что ему не страшно, ведь Господь бог хранит его. «Вот хорошо, – тотчас встрепенулась она, – тогда я больше не стану приходить». И босые ножонки ее прошлепали к двери.