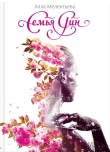Текст книги "Избранное"
Автор книги: Магда Сабо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)
Бедняжка Ангела, с ее маленькими ручками, маленькой медицинской сумочкой, трогательной походкой – какие прелестные, должно быть, делала она повязочки из белоснежного бинта и лейкопластыря… С Ангелой все и всегда были вежливы и милы; наверняка даже умирающие испускали дух от какого-нибудь внутреннего кровоизлияния, чтобы она, не дай бог, не испачкала пальчики. Я как раз была в университете, когда и у нас наконец-то случился налет. В то утро погибло почти четыреста человек. Дома, у матушки, все было спокойно. Дядя Больвари, служитель у нас на факультете, отправился в город узнать, что и как, еще до конца воздушной тревоги. Это был скучный, сморщенный бобыль, из которого, бывало, слова клещами не вытянешь; он вышел на улицу через неохраняемые двери подвала – патруль ПВО стоял у главного входа. Мы с ним почему-то тянулись друг к другу; иногда он приносил мне собственноручно испеченную булку: в молодости он был пекарем. Когда я увидела издали, в траве на берегу реки, его синюю куртку, первым моим побуждением было раздеться и перевязать его своей комбинацией. Но это было совершенно излишним: голова его раскололась надвое, будто дыня. У меня не было времени жалеть его и разглядывать: я искала жильцов – появилась наконец возможность сдать кабинет отца. После обеда туда уже выехала мать Эвы Гаман с двумя малышами. Кабинет я сдала за невероятно высокую плату.
Как гремит, однако. Бомбы, те падали с пронзительным воющим звуком; потом что-то свистело с нарастающей силой и ухало. Экзамен по специальности я сдавала в подвале университета; Клемент, профессор, курил сигарету и постоянно ронял на стол пепел – так у него дрожали руки. Стукич, инспектор Учительских курсов, даже не прислушивался к нашим ответам; он расхаживал взад и вперед, то и дело смотрел на часы, а при особо близких сотрясениях втягивал воздух сквозь зубы. Я переводила Вергилия, ту часть, где Нептун успокаивает разбушевавшееся море. Solemque reducit [38] . Читая стихи, нужно было соблюдать размер: silent arectisque auribus adstant [39] . Кажется, так. В подвале звучали прекрасные, размеренные, исполненные покоя глаголы об усмиренной стихии, а снаружи падали бомбы. Клемент слушал меня и не слушал, а когда я дошла до того места, где боги разгоняют плотные тучи и возвращают солнце на небо, он посмотрел на меня и нервно рассмеялся. Шел апрель сорок четвертого; через три дня университет закрыли. Это было ужасно, потому что я не могла остаться в общежитии: немцы забрали его под госпиталь, нам пришлось собраться в течение двух часов. Я была в городе, пока не сыграла Ифигению.
Меня приютили у себя родные Ореста: мне совсем уже негде было жить. Младшая сестра Ореста, Пирошка Капрош, училась со мной на одном курсе; ни она, ни другие в восторге от меня не были, но тетушка Капрош так радовалась, что подготовка к спектаклю хотя бы на две недели избавит ее сына от фронта, что решилась пригласить меня к себе – лишь бы не отменили спектакль. Сначала Ифигению отдали Беате Гец; потом, когда Беата уехала с родителями на Запад, роль перешла к Кате Тот. У Каты дело шло совсем хорошо – но тут дядя Тот забрал семью и вывез всех на хутор, так как очень боялся бомбежек; еще какое-то время надеялись на среднюю из сестер Ковач, однако та немного шепелявила, и Дожа, профессор венгерской литературы, на репетициях зажимал уши и кричал на нее; в конце концов она обиделась и отказалась играть. Тогда уже все кругом дрожали от страха, уезжали или переселялись в деревню, на хутора – и Дожа отдал Ифигению мне.
Геза Капрош, Орест, вместе с Фоантом и Пиладом, держались за пьесу обеими руками, потому что Клемент заявил: пока не состоится спектакль, нет такой повестки, такого призыва, по которому университет отдал бы их армии. Тетушка Капрош поселила меня в комнату к Пирошке, жить у них было в общем неплохо – только уж очень они меня утомляли и раздражали своим постоянным страхом и вздрагиваниями: не идет ли почтальон, не объявляют ли воздушную тревогу и что будет, если Пирошка во время налета окажется дома одна. Пирошка же хныкала, тоскуя по своему жениху, по ночам ревела в подушку, зажигала свет, читала его письма; но в общем меня оставляли в покое – я много ела и учила роль. Я выучила ее на совесть, словно готовясь к экзамену. Спектакль ставил Дожа; он же выбрал и пьесу – в тот год он был ректором и, вынужденный откликнуться на призыв бургомистра и общественных комитетов, счел более правильным, чтобы студенты играли Гете, чем организовывали бы кабаре или концерт по заявкам в пользу жертв бомбардировок. Больвари рассказывал, что весь Университетский совет переглянулся и заулыбался, когда Дожа объявил название пьесы; Больвари не знал, что означают эти улыбки – но я-то знала. Дожа не любил немцев – и не любил войну. На доске объявлений висели рядом афиши: «Ифигения в Тавриде», благотворительное представление силами студентов университета, и концерт по заявкам, гастрольное выступление столичных артистов. Фамилия Пипи была написана крупными буквами в верхней части афиши.
«Иль не богиня, спасшая меня, моей судьбой одна располагает? Она меня снесла под этот кров и, может быть, хранит здесь для отца…» [40] Ангеле всегда кто-нибудь помогал. В войну от нее ни на шаг не отходила Эльза. Пилад был даже красив с узенькой ленточкой, придерживающей волосы на лбу; играя, я все время чувствовала, что ужасно люблю его; а ведь в жизни я внимания на него не обращала: он был беден, как я, и все делал сам, моя помощь ему была не нужна. «Она меня снесла под этот кров…» Вот он, тот час, когда Ангеле не помогут больше ни тетя Илу, ни Эльза. Ангела выросла. Грома уже не слышно. Дождь кончился.
Не сердись на меня. Я ни в чем не виновата, а Пипи тем более. Небо сейчас – совсем зеленое. Оно всегда зеленеет после бури. «Ты, святая, мне вновь даешь сияньем дня упиться…» [41] Эти слова, впрочем, не я говорила, а Геза Капрош. Я тогда и понятия не имела, что Пипи – это Пипи, я не видела, как он прошел на сцену в антракте, после первого действия, а когда он назвал мне себя, лишь огрызнулась, приняв это за неумную шутку. Пипи я знала раньше только по фильмам да по фотографиям в газетах, там он выглядел красавцем, в действительности же у него были жидкие волосенки на голове и морщины у глаз. Лишь после того, как Дожа подтвердил, что Пипи – в самом деле Пипи, я наконец в это поверила; правда, мне тогда было совсем не до него – очень уж все вокруг смешалось и шло колесом, да еще у меня лопнул ремешок на сандалии и я никак не могла успокоиться, потому что сандалии были казенные; и вообще мне казалось, что все посходили с ума: люди в зале кричали, топали, аплодисментам не было конца. После спектакля университет устроил ужин, где давали невероятно вкусный паприкаш из цыпленка. Хочется есть. Невыносимо хочется есть. Теперь я плачу оттого, что мне так ужасно хочется есть. Ты знаешь, какой зверский голод охватывает меня иногда. В прошлом месяце у нас сломалась машина в дороге, а мы, как назло, не взяли с собой ничего съестного. Ты пошел в какой-то крестьянский дом, купил мне творога и принес его к машине завернутым в виноградный лист. Ангела терпеть не может творог.
На банкете Пипи сидел рядом со мной; порой он казался мне полным идиотом, я лишь пожимала плечами, слушая его. Я все еще была в своем гимназическом платье, в той ужасной белой блузе, с которой я спорола матросский воротник, так что странный треугольный вырез обнажал впадины у меня над ключицами. С другой стороны сидел Дожа, я старалась быть с ним – из-за стипендии на Учительских курсах – очень любезной; и даже испугалась, что он вдруг стал ко мне в тот вечер таким внимательным. Пипи пил черный кофе без сахара, это меня больше всего поразило. Пока он что-то молол насчет меня, я слушала его вполуха, стараясь не упускать из виду Дожу, чтобы вовремя придвинуть ему хлеб. Потом Пипи заговорил о деньгах, и тут я сразу забыла о Доже и повернулась к Пипи.
Спустя три недели мы лишились нашего дома. Перед налетом мы с матушкой случайно оказались на лесопилке, а тетю Гаман с ее девочками тревога застала в кино. Все их пожитки словно корова языком слизнула вместе с кабинетом; тетя Гаман кричала на всю улицу, проклиная меня за то, что я ее сюда заманила; потом, забрав дочерей, она пошла искать подводу и в ту же ночь уехала обратно в свой город. Нас поместили в школе на Песчаной улице; все наше имущество уместилось в двух узлах – вместе с тазом, подобранным Амбрушем в камыше. Кормили нас до отвала. Многие из тех, кто остался без крова, бегали, суетились, надрывались от крика; у нас с матушкой не было даже одеял, нам их дал Женский Союз; я чудесно спала на соломенном тюфяке.
Зачем ты повел меня гулять в те места, где вы жили во время войны? Эта часть города прежде казалась мне не столь отвратительной, как все остальные; а теперь у меня даже желудок сводит судорогой, когда случается попасть туда. Ты показал, где была ваша квартира, половину которой стесало взрывом, рассказал, как она была обставлена, какого цвета была мебель, как погибли твои комнатные растения и как ты находил вдруг в чужих дворах какую-нибудь из своих книг. Я и без того никогда не могла примириться с тем, что у тебя в Пеште была своя квартира, такая квартира, к которой я не имела отношения, где ты жил, дышал без меня, где у тебя была прислуга, кошка, телефон. Я изменила тебе за эти годы один-единственный раз – когда ты показал мне церковь святой Анны и рассказал, как, гордо выпятив грудь, растроганный и умиленный, стоял ты во время венчания. Я тогда поехала к Пипи, а не в театр, как сказала тебе. Пипи подумал, что я сошла с ума. Он так не хотел, чтобы я у него оставалась, – прямо чуть не плакал. Ты ведь знаешь, я терпеть не могу спиртного, в рот его не беру. Пипи пил всю ночь, в таком он был отчаянии. К утру даже от подушек несло коньяком. Никогда я так сильно тебя не любила, как в ту ночь.
Когда русские пришли в школу, они первым делом стали искать оружие. Они осмотрели наши узлы, а я думала: чего они ищут, у нас только и есть, что шумовка, которую мы нашли под насыпью. Эльза рассказывала в прошлом году, как Ангела, увидев русских, бросилась бежать на улицу, как кричала и плакала от страха, хотя никто ее и не думал трогать. «Нервы у нее слабые, – сказала Эльза, – с тех пор бедняжка даже по улице вечером боится ходить одна». Я была счастлива, слушая это. Когда я думаю о том, что Ангела боялась русских, я начинаю их любить. Они стояли в карауле и возле гостиницы, где жили мы с матушкой, пока за нами не приехал Пипи, чтобы увезти в Пешт. Солдаты весело скалили зубы, а я улыбалась им в ответ; они сердились, только если кто-нибудь дрожал перед ними от страха; они принимались кричать, чтобы успокоить человека. Я впервые в жизни жила в гостинице.
В Сольноке, когда ты пришел ко мне, я хотела рассказать тебе об этом – и не смогла заговорить. А ведь в этой самой гостинице мы останавливались на ночь по дороге в Пешт, оттуда Пипи утром повез нас дальше на грузовике; матушка сидела на мешке с картошкой, я у ее ног, Пипи теплым платком закутал себе уши и горло, боясь простудиться в открытом кузове. Стоял конец мая, когда я увидела Пешт – и навсегда невзлюбила его. Театр лежал в руинах, директор слушал меня на квартире у Пипи: я декламировала Ифигению и «Петике» [42] , потом меня заставляли читать, я читала Дездемону, а в животе у меня громко бурчало. Три месяца профессора театральной академии терзали меня частными уроками; в сентябре, когда я пошла подписывать контракт, матушки не было со мной в театре. В подъезде я взглянула на Пипи: он насвистывал, потом шлепнул меня по заду; он напомнил мне Амбруша. Я остановилась. В руке у меня был контракт. «Что я за это должна?» – спросила я угрюмо; Пипи не ответил, продолжая насвистывать. Он жил далеко от центра, в районе Лигета; квартира его уцелела каким-то чудом; была у него и еда – американское сгущенное молоко. Я уже сто лет не пила молока. «Marcus Vipsanus Agrippa» – повторяла я про себя, пока Пипи меня обнимал. «Marcus Vipsanus Agrippa». Бюст Агриппы стоял на полочке над постелью. Потом все кончилось; Пипи поднялся, у него тоже испортилось настроение. «Дура», – сказал он мне и закурил. Я тоже закурила. Прежде я никогда не курила, боясь привыкнуть: не было денег на сигареты. К ужину я была дома.
Я все время хотела тебе рассказать, что именно ты подарил мне мое тело. Если бы ты спросил когда-нибудь, что у нас было с Пипи, я бы все тебе рассказала и все стало бы до конца ясным меж нами; но ты ничего не спрашивал, а я не могла начать разговор сама. Когда ты впервые остался у меня, когда сказал мне, что я, оказывается, люблю Ангелу, – тело мое еще не отозвалось тебе. Я чувствовала себя несчастной, разочарованной, была полна подозрений. Но там, в Сольноке, когда я прятала от тебя ноги, чтоб ты не заметил мозоли от туфель тети Ирмы, а в окно вливался аромат земли и дождя, – я наконец забыла коньячный запах, которым несло от Пипи, желтый его диван, над которым стоял бюст Агриппы, одинаковые переплеты книг на полках, черную виньетку «Королевских драм», которую я внимательно рассматривала, когда Пипи меня целовал. В Сольноке я закрыла глаза, чтобы ничего не видеть и слепо, на ощупь идти за тобой куда-то, где я еще никогда не была.
Пипи не любил меня так, в том смысле, в каком ты думал, и я никогда не любила его. Просто Пипи, в отличие от Амбруша, что-то неправильно понял, – а потом уже было все равно, и мне и ему. Пипи научил меня всему, что знал о сцене, и из вежливости позволял платить ему за это – хотя плата моя не доставляла ему особой радости. Позже, спустя много времени после того как кончилась эта связь, мы однажды заговорили с Пипи о том, что было между нами, и выяснилось, что оба мы очень рады, что все уже в прошлом и мы наконец можем нормально любить друг друга, как любят друг друга актеры. Когда я изменила тебе с ним, он был так зол, что чуть не побил меня. А я лежала в постели, смотрела на книги, на Агриппу, и по щекам у меня текли слезы. «Дура», – сказал Пипи, точно так же, как в первый раз, и сунул мне в рот сигарету. «Почему ты не выйдешь замуж за Леринца?»
9
Дождь прошел. От земли, от цветочных клумб поднимается пар. Горы сзади меня еще прячутся в туче, а над головой уже снова сияет небо. Калач мой размыло водой, даже следа от него не осталось. Делать плетеные калачи научил меня Бела Карас, но я никогда не умела их делать так красиво, как он. Однажды он принес мне крошечный калач с запеченным письмом; он, конечно, рассчитывал, что я буду есть калач и найду письмо – не подумал, что любой кусок повкуснее у нас всегда достается отцу. Отец и обнаружил письмо, на уголке которого целовались два голубка.
У меня в саду, на Орлиной горе, живут голуби; они всегда напоминают мне об Амбруше, я люблю смотреть на них, на их трепещущие крылья, люблю ту уверенную стремительность, с какой они рассекают в полете воздух. Помнишь, однажды мы с тобой сшибли голубя? В странной, противоестественной позе он лежал возле машины уже мертвый. Я напевала, когда мы уехали, оставив, его на обочине, ты вполголоса подтягивал мне; но оба мы чувствовали себя весьма скверно. Вчера на Эльзе была шляпка с черной булавкой; я долго на нее смотрела: на конце булавки, расправив крылья, сидел маленький голубь. Лицо у Эльзы удлинилось, нос заострился, она была уже не та, что в молодости, не походила на испанку – скорее на индианку; а в то же время в лице у нее появилось что-то благообразное, добродетельное; лишь глаза остались беспокойными. Она словно бы постоянно была озабочена – не смотрят ли на нее косо? Эльза стояла под руку с тетей Илу, и я долго смотрела на эту пару. Рядом с расплывшейся, рыхлой тетей Илу Эльза была твердой и глянцевитой, словно нож рядом с губкой. Ангела стояла возле них, словно обе они были ей матерью, – но ни на одну из них не смотрела. И между ними – или над ними, где-то неизвестно где – ощущалось присутствие дяди Доми; он присутствовал здесь более реально, чем они, все втроем, и я не могла не улыбнуться этому, потому что дяди Доми уже много лет как не было в живых.
Я от тебя узнала, как быстро и тихо он умер, провожаемый воплями тети Илу; Эльза в это время с сухими глазами сидела на телефоне, разыскивая врача. Теперь гармония у них полная: за прошедшие годы Эльза словно бы тоже немного стала женой. Наверное, так она и выглядит, человечность: тетя Илу прощает Эльзе все, что подлежало прощению, а Эльза никому не предъявляет счетов за свою несостоявшуюся жизнь, все любят друг друга, как в Священном писании, складывают ладони и предаются благостным воспоминаниям; ничто не отягощает память об усопшем, кроме благочестивых мыслей и христианской любви. Теперь они вместе с наслаждением скулят над костьми бедняги Доми, вместе плачут в праздник поминовения, а в остальные дни года с аккуратностью хороших хозяек перетряхивают и проветривают воспоминания о покойном, соревнуясь за чашкой чая, кто припомнит больше его привычек, словечек, пристрастий. Тьфу! Как они стояли вчера рядом, не сводя глаз с Ангелы, словно mater dolorosa [43] в двух лицах! Я никак не могла решить, кто из них более мне противен. Наверное, все-таки Эльза, которая на старости лет стала смиренной и добродетельной.
Этой троице не хватало только образа Эмиля – увеличенного его портрета на хоругви в обрамлении розовых гирлянд: мол, вот он, великомученик Эмиль, опора и гордость, семейный святой; при жизни они стыдились его, старались не вспоминать, а он вдруг взял и за все заплатил своей смертью и своим именем, и теперь каждая его косточка приносит чистый доход, обеспечивает благополучие всей семьи.
Я– то знаю, почему комната тети Илу от пола до потолка увешана фотографиями Эмиля: голенький Эмиль, лежащий на животике; Эмиль с обручем, Эмиль в белом венгерском костюмчике, Эмиль в гимназической шапке с пером… В сорок пятом, спеша на репетицию, я встретила тетю Илу -первого знакомого в Пеште. Остановив меня, она долго трещала про Ангелу и про зятя, про смерть Эмиля, про то, что во время осады у них разграбили квартиру, что дядя Доми часто болеет и что вот-де о каком ужасном мире мечтал – и домечтался – непутевый их сын. Но с годами Эмиль все рос в их глазах, теперь он – мученик и борец за веру. Интересно, что они приготовят сегодня Ангеле на ужин? Как странно, что Гизика все время не вставала с колен и ни на кого не глядела; судя по всему, ей наплевать было, принято или не принято у реформатов стоять на коленях. А ведь я тоже стояла на коленях, когда впервые увидела тебя.
«Монсеньер! Я только простая деревенская девушка, а на вас почиет благодать и сам господь бог осенил вас своею славой! Но вы ведь не откажете мне в милости! – коснуться меня рукой и дать мне свое благословение?» [44] Под коленом я ощущала сучок на доске. На мне еще не было брюк, но я уже преклонила колени так, будто была в брюках. Следовала реплика Синей Бороды, но он не ответил: он стоял лицом к зрительному залу и видел то, чего не видела я. «Вы ведь не откажете мне в милости?» – спросила я Пипи еще раз, но Пипи вдруг убежал со сцены, и Печи, предшественник Вани, заорал во весь голос; тогда я встала и оглянулась: ты стоял в дверях, и все висели у тебя на шее, обнимали и целовали тебя. Я уселась на место Печи и недовольно ждала продолжения репетиции. Я не любила, когда мне мешали. Потом меня подвели к тебе, и я с трудом поняла из их гомона, что ты – это ты, переводчик Шекспира, консультант театра по английской драме. Наконец мы продолжили репетицию, ты сел и по временам вставлял замечания, это тоже меня раздражало: чего ради они все это терпят?
Я знала, кто ты такой: после сорок пятого года все только и плакали по тебе; я знала, что ты был в плену, что театр тебя разыскивал: без тебя они и шагу не могли ступить; ты заново перевел «Ромео и Джульетту» и всего Шоу; еще я знала, что вообще-то ты работаешь в университете, в Институте Англии. Кто-то говорил, что у тебя есть жена и что она так тоскует по тебе, что почти не выходит из дома. Вечером я попыталась сыграть тебя – как ты стоял и вся труппа висела на тебе, будто игрушки на елке, а ты слегка улыбался и смотрел на задник, уже опущенный для репетиции, с картой средневекового Парижа на нем. Я попыталась воспроизвести твой взгляд, когда ты, чуть-чуть нетерпеливо, смотрел поверх голов; это не был признак недружелюбия: просто тебя интересовала только сцена. Я стояла перед зеркалом в ванной и отрабатывала твой взгляд, пока не добилась полного сходства. Однажды я тебе показала, каков ты, когда устремляешь на что-нибудь внимательный взгляд.
Ходить уже легче, а по мокрой податливой земле даже приятно. Туфли Гизики я оставила под мраморным навесом на ступеньках – то-то кто-нибудь удивится, увидев их там. Бетонное кольцо, врытое в землю и образующее большой колодец, до половины наполнено водой, в которой плавает зеленая слизь: свежая дождевая вода смешалась со скопившимся на дне илом. Проходя мимо, я погляделась в него: мне вспомнилось, что ты меня тоже внимательно рассмотрел, когда я стояла на сцене, преклонив колено, и обращала к Пипи слова Жанны. Выгляжу я сегодня точь-в-точь как всегда, даже не бледнее, чем обычно. Разве что немного размазала помаду на губах – наверное, в церкви, когда плакала в платок. Я сжала рот, убрала волосы за уши, чтоб были гладкие, как у тебя, и посмотрела в воду твоим взглядом – но лишь на мгновение: слишком уж хорошо это у меня получилось, не могу. На меня словно глянул твой младший брат, правдоподобный и нереальный, всего лишь рисунок на поверхности воды, обесцвеченный портрет в круглой раме колодца.
Не хочу плакать; лучше свистеть. «Весенний ветер воду гонит, цветики-цветочки». Юли принесла тебе цветы, синие бессмертники – они дольше не завянут. Я не принесла ничего – лишь ключ сжимала в руке; Юли и это заметила и демонстративно глядела поверх моей головы. По лицу Юли всегда видно, что у нее в голове. Задумавшись, размышляя над чем-то, она прикладывает палец к углу губ; презирая кого-то, сдвигает брови и смотрит насмешливо. Вчера на меня она смотрела именно так. Сердясь, она так затягивала на мне пояс, когда одевала меня, что я чуть не теряла сознание. Я очень любила тот черный мундир, в котором меня сжигают у Шоу. «Я, Жанна, жалкая грешница, признаю себя виновной в грехе мятежа…» [45] Сейчас мне бы надо уже быть у театра: меня ждет новый кадровик. Интересно, он такой же, как все предыдущие? Когда меня впервые стали расспрашивать насчет моей жизни, я взяла и написала в автобиографии все как есть. Про отца, про матушку, про ее родню, бросившую нас на произвол судьбы, даже про Амбруша; в автобиографию попали даже туфли тети Ирмы – конечно, не в буквальных выражениях, но так, что было понятно. Тогда завкадрами вызвал меня и долго водил пальцем по моим ответам. Не стоит напускать туман, терпеливо объяснял он мне, рано или поздно все откроется и тогда будут неприятности. Он заверил меня, что хочет мне добра и лучше честно написать обо всем: я ведь уже доказала, в сорок пятом, на Острове, что переменила свои убеждения – но нужно всегда и везде писать правду, чистую правду.
Он, этот завкадрами, совсем не походил на патера Добаи: патер был белокур и высок – этакий современный сорокалетний святой Имре, стройный, холеный и строгий, и тем не менее завкадрами заставил меня вспомнить патера, и я сразу догадалась, почему. Когда я спустя полчаса выходила из кабинета, он просто светился от счастья. Как легко доставить людям радость. Именно он добился для меня первой большой премии; когда мне вручали ее, он долго жал мне руку и бурчал что-то доброжелательное. Что ж, если он не верит правде, не может ее вынести, – я буду рассказывать сказки. Слава богу, от нашего дома который в моих анкетах стал уже двухэтажным, не осталось и кирпича, отец и матушка в могиле и не могут изобличить меня во лжи. «Вы сделали большой шаг вперед!» – с уважением сказал мне последний завкадрами. Еще бы. Очень большой. Оттого-то все так счастливы, когда я рассказываю, в какой роскоши я росла, какое тонкое воспитание получила, как дрожали надо мной гувернантки, особенно последняя, Эльза, как тщательно оберегали меня от действительной жизни, так что я знала лишь праздничную, нарядную ее сторону. Автобиография моя пополнялась все новыми деталями, я даже придумала себе лошадку, на которой скакала по сент-мартонским просторам, в мягкой широкополой шляпе, с белой плеткой в руке. После того, как я у всех на глазах возила на тачке кирпичи, я могла выдумывать себе что угодно.
В новогоднюю ночь мы были с тобой на Острове, в доме отдыха нашего театра, и после полуночи вышли на террасу, посмотреть на снег, на деревья в инее; я тогда смеялась не над анекдотом, который рассказывала Хелла: оглянувшись, я через стеклянную дверь увидела наших, из театра, из Оперы, они танцевали и были такими красивыми, такими уверенными в себе, что мне вдруг вспомнилось, как выглядели они в драной, бросовой одежонке, когда всех нас, после первого профсоюзного собрания, мобилизовали убирать здесь развалины. От дома отдыха остался подвал, оба этажа рухнули. Хелла лишилась дара речи, увидев это. Певцы заявили, что физическая работа вредит их голосу; Пипи вопил про свой ревматизм; все враждебно смотрели на лопаты, бродили, неловко переставляя ноги и спотыкаясь, женщины кашляли. Я посидела на груде камней, в душе смеясь над ними, потом взбежала на самую вершину развалин и стала сбрасывать кирпичи и куски жести. Сейчас я уже далеко не такая сильная, как была в сорок пятом, когда руки мои еще не успели отвыкнуть от топора, которым я колола дрова, и от бадейки с разведенными отрубями для амбрушевых свиней. За мной робко пошли две-три хористки, а там и мужчины, устыдившись, принялись ковырять завал снизу – но никто не умел по-настоящему держать в руках кирку. Пипи стонал и цитировал «(Короля Лира».
Рядом со мной работал Кертес, партсекретарь; я чувствовала на себе его взгляд, но разговаривать нам было некогда. Я двигалась ловко, быстро, держалась просто и естественно – не то что Доротя Канижаи, пытавшаяся изобразить на лице романтическое воодушевление от приобщения к труду; мне в самом деле приятно было поработать руками после бесконечных репетиций и разучивания ролей. Кертес лишь через несколько лет рассказал Пипи доверительно, что именно после этого случая в моем личном деле появилась запись: «Полностью порвала со своей средой». На той самой террасе, где стояли мы в новогоднюю ночь, когда-то мы же мешали бетон, об этом даже написано было в стенной газете. Я еще не встречала кадровика с фантазией. Правда, у патера ее тоже не было.
Вначале я и ему попыталась было рассказывать чистую правду – но ничего у меня не вышло. Когда я, в третий раз кажется, сказала ему сквозь решетку, что на минувшей неделе не помню за собой никаких прегрешений, он ужасно рассердился и велел мне зайти в учительскую. Он говорил, что я упряма и не люблю Иисуса Христа. Тут до меня дошло: надо было все же признаться, что я стащила полдесятка яиц и связку чеснока, что однажды подслушивала на чердаке у Амбруша и что, бывая у Карасихи, не упускаю случая сунуть палец в наполовину готовый крем и потом облизывать его, пока никого нет в кухне. Но ведь яйца нужны были отцу, а не мне – у нас в тот день не ужина, – к тому же у крестьянки оставалось еще не меньше пяти десятков; а чеснок с базара я вовсе не хотела красть, просто мне нужно было что-то совершить, что-то непозволительное, наказуемое – в тот день я была слишком счастлива, потому что Ангелу наконец отругали в гимназии. Крем же был сладким и легким, дома у нас все сладкое и легкое доставалось отцу, а у Карасихи остался еще целый таз этого крема. Я часто лгала – из гордости, стыдясь сказать правду: я обожала отца и не хотела, чтобы о нем говорили дурно; конечно, и ругалась: у нас все ругаются, кто работает, а я столько раз попадала по пальцам тесаком для лучины, и так тяжело было подымать ушат с помоями над загородкой. Мне бы много чего нашлось сказать патеру – только я ни в чем не чувствовала своей вины: если я не буду подсказывать Гизике неправильные ответы, она перейдет в следующий класс и я не смогу заниматься с ней дополнительно; да и как мне помогать кому-то бесплатно, если я тем и живу, что люди вынуждены обращаться ко мне за помощью!
Патер терзал меня несколько недель, заставляя выворачивать наизнанку греховные тайники моей души; мне это надоело наконец, и я сдалась. Как он был доволен, когда это произошло; ему казалось, он вернул меня на путь истинный: исповедь моя была ему как елей на сердце. Я поведала ему, что доставляю огорчения своим родителям, что невоздержана в еде и питье. Каждую неделю я выбирала какое-нибудь новое прегрешение и, признаваясь в нем, горько рыдала у решетки, а сама в это время следила, как он радуется. Среди учителей моих хорошо ко мне относился только патер. Когда я получила аттестат зрелости, патер благословил меня и подарил образок из слоновой кости со святым Анталом; образок я тут же отнесла дяде Бауму, ювелиру.
Твой медальон со святым Анталом я не продала. Я бросила его в Дунай. Ты стоял спиной ко мне и подумал, наверное, что я бросила камешек: у меня в руке была целая горсть крупной гальки, и я по одной швыряла ее в воду… Помнишь, какой я была веселой в тот вечер? В ресторане ты время от времени клал вилку и внимательно смотрел на меня, не понимая, что со мной происходит. А мне хотелось танцевать, петь во весь голос – оттого, что медальон уже лежит на дне реки и когда ты будешь раздеваться, выкладывая все из карманов, то не положишь его передо мной, блеснув мне в глаза серебром, и меня не охватит горечь, будто мне дали выпить яду. Когда медальон исчез и ты искал его повсюду, а я болтала ногами, свесив их с постели, и насвистывала, – ты должен был догадаться, что тут что-то не так, ты должен был понять, что я не принимаю, не могу принять твоих воспоминаний. Ты обнаружил в кармане крохотную дырку и решил, что нашел объяснение пропаже. Меня ты никогда ни в чем не подозревал. Потому все так и вышло.
Если бы ты хоть раз меня в чем-нибудь заподозрил, если б хоть раз тебе пришло в голову последить за мной, присмотреться ко мне, как прислушивался ты к моему телу, которое знал лучше меня самой, – ты бы заметил, может быть, сколько страданий ты мне доставляешь невольно; ты бы заметил, как я бьюсь, все больше и больше запутываясь, в холодной, липкой паутине боли, которую ты причиняешь мне своими воспоминаниями, названиями незнакомых мне блюд, домами, которые ты мне показывал: здесь ты бывал сразу после женитьбы, с почтением, даже со страхом взирая на своего друга, который был женат уже два года и казался тебе мудрым и многоопытным, как Мафусаил. В такие моменты я подпрыгивала, пытаясь достать нижние ветки дерева, срывала листья, дурачилась и подбадривала тебя: мол, рассказывай, рассказывай, не стесняйся, – а потом никогда больше не ходила по той улице и мучила Пипи своими выходками, вплетала ему в волосы ленту, укачивала его, словно больного ребенка, бегала в аптеку за карилем, когда у него болела голова, и часами гуляла с ним, обнявшись, по центральным улицам, надеясь, что ты, идя с семинара, случайно встретишь нас и увидишь, что мы не в силах расстаться друг с другом. В такие дни Пипи то плакал, умоляя отпустить его душу на покаяние, то ругался последними словами и требовал, чтобы я оставила его в покое, потому что он замерз как собака и завтра наверняка охрипнет – и вообще, какого дьявола мы здесь ходим, взад и вперед, как арестанты на прогулке! Я любила тебя. Сильнее, чем матушку. И даже сильнее, чем отца.