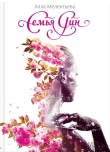Текст книги "Избранное"
Автор книги: Магда Сабо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
Мимо прошел старик с судками в одной руке, с лейкой в другой; интересно, зачем ему лейка: кругом и так стоят лужи. Этот тоже меня не узнал; а ведь наверняка слышал мое имя и знает, кто я и что. Сейчас вот подбегу к нему, отберу у него судки и скажу, что нет никакого смысла околачиваться здесь – как и мне, впрочем, – лучше возьмемся за руки и убежим отсюда… Снова запели птицы. Как припустился бы бедняга со своей лейкой, если б догадывался, что за мысли бродят у меня в голове.
Помнится, во второй раз я наблюдала тебя через три дня после премьеры «Святой Иоанны»; мы вместе вышли из театра: ты направлялся в университет, я – в Зугло, в какую-то школу, сидеть в жюри на конкурсе декламации; возле автобусной остановки ты сказал, что приведешь на «Иоанну» жену. Вечером, воспроизводя перед зеркалом твое лицо, я поняла, что, говоря это, ты следил за мной, за моей реакцией. Лицо твое было – я это ощущала по своему выражению – любопытствующим и напряженным; это было лицо человека, который, по возможности незаметно, хочет что-то выведать. Я многократно проверила свои впечатления, изображая тебя: мысли твои выражались на лбу, рот и глаза оставались почти равнодушными, только мелкие складки на лбу беспокойно шевелились и жили. Пипи прожужжал мне все уши, что ты приходишь так часто в театр исключительно из-за меня; я отмахивалась: только что умерла матушка, мне было тяжко и грустно. Я слонялась по своей квартире и начинала тихо ненавидеть ее: квартира находилась в центре города: сплошные стены, духота, крохотный паршивый балкон и лоскут неба над головой. Я получала очень много денег и хранила их в железном ящичке, запирающемся на ключ, – как Юсти. В стенной газете про меня написали, что я одеваюсь не вызывающе, соблюдая простоту и скромность, присущие социалистическому актеру. Никто не замечал, что я просто скупа. Но ты знал это, знал, что я жалею тратить на себя деньги. Чтоб поддразнить меня, ты однажды кремом с торта намазал пол в ванной. Я ревела, отскабливая его ножом, а ты чуть не надорвался от смеха: похоже было, будто я намерена его съесть.
«Иоанну» я никогда больше не могла играть так естественно, как другие пьесы. Обычно я верю, что я и есть та, кем одеваюсь: Офелия, или Дездемона, или Тюнде [46] . В «Иоанне» же я всегда помню, что я – это я; в последний раз я сыграла эту роль по-настоящему в тот самый вечер. Пипи во время спектакля всегда ухитряется осмотреть зал и даже сосчитать присутствующих знаменитостей; у меня нет такой привычки, меня такие вещи не интересуют, да и времени нет: я как раз или схожу с ума, или меня душат, или мне надо спасаться бегством. Играя, я твердо уверена, что дверь, которую я пытаюсь взломать, в самом дел прочна и надежно закрыта, и мне ужасно неприятно, когда меня закалывают – даже руки холодеют; если кто-то бросается на меня, я готова потерять сознание от ужаса, и камень на сцене для меня – настоящий камень. В антракте же я снова точно знаю, что стены замка сделаны из фанеры, кое-как прибитой на раму из реек, и что я – это я, и я улыбаюсь и кланяюсь, и все мне смешно: хлопающие ладони, крики, головы; охотнее всего я убежала бы, чтобы досыта насмеяться где-нибудь. В антракте мне скучно; интересно – играть.
После первого действия я взглянула направо: Пипи сказал, что ты с женой сидишь в первой ложе; мне хотелось видеть твое лицо: как тебе понравилась Иоанна. В буре аплодисментов я увидела тебя: ты стоял, как всегда, заложив руки за спину; ты единственный, кажется, не аплодировал мне; а рядом с тобой, изящно хлопая ручками в перчатках, стояла женщина в крохотной, забавной шляпке с блестками, посверкивающими в свете люстр, когда она смеялась и кивала мне. Ты стоял, и я на мгновение забыла кланяться. Публика бесновалась. Ты смотрел на меня, я – на тебя, а рядом с тобой аплодировала и махала мне маленькой ручкой Ангела.
10
Старик поставил на землю лейку и занялся своими судками. Теперь он сидит на скамейке, поставив на колени алюминиевую кастрюльку, и ест из нее что-то красное, то и дело вытирая глаза. Пища, видимо, остыла: пара над ней не видно. Это, кажется, картофельный паприкаш. В холодном виде у него отвратительный, мыльный вкус. Во вторник, после больницы, мне подали в «Лебеде» тоже что-то красное; я даже поела немного – так и не знаю, что; помню лишь цвет – такой он был красный. Гизика в тот день не работала, вместо нее в зале бегала Тера; приблизив ко мне глупое свое белесое лицо, она спросила: «Будете ждать?» Была половина седьмого, время, когда в «Лебеде» меньше всего посетителей; я прошла по привычке в последнюю кабину, где мы всегда сидели с тобой; теперь я сидела там одна. Я буркнула ей что-то, сама не знаю, что; Тере неважно, что ей говоришь: завидев меня, она несет кофе, кладет на столик меню и ставит минеральную воду с двумя стаканами. Я прочла названия блюд, выпила кофе; стол был чисто вымыт, от него пахло мылом и щелоком. Когда мы были здесь в последний раз, я сильно опоздала из-за репетиции, ты долго ждал меня и от скуки рисовал на столе самого себя, стоящего на одной ноге, с длинной бородой, выросшей от ожидания. Какое-то время я не решалась взглянуть на тот угол стола – но потом сообразила, что если стол мыли сегодня, то рисунка и не может быть; тогда я взглянула: стол действительно был чист – лишь волоконца на доске задрались в тех местах, где пришлось крепче оттирать щеткой следы карандаша. Тера опять заглянула ко мне, похожая на добрую терпеливую корову, открыла бутылку с минеральной водой, налила до верха оба стакана.
– Чего-то они опаздывают сегодня, – сказала она; я посмотрела на нее тяжелым взглядом, чтобы она замолчала, но ты же знаешь ее: она все стояла, смотрела на меня и улыбалась. И добавила, мол, что это нынче лицо у меня такое красное, не жарко ли мне, – и, встав на цыпочки, включила вентилятор. Я попросила ужин, не помню уже, что именно: Тера с обиженным видом принесла мне заказанное и плечами передернула возмущенно, когда ставила блюдо на стол: Тера терпеть не может беспорядка, а она никогда еще не видела, чтобы я ела без тебя. Я поковыряла в тарелке, потом положила вилку и стала пить воду; выпила один стакан, потом, второй. Тера все мелькала передо мной; по лицу ее было видно, что ей не по себе, хотя в то же время она рада, что сегодня дежурит она, а не Гизика: Гизике она будет рассказывать завтра, как я напрасно тебя ждала и как мне пришлось в конце концов в одиночку ужинать и даже платить самой.
– Что-нибудь передать им? – спросила она, когда я шла к выходу, и тут я рассмеялась громко, а на глазах у меня выступили слезы. Тера совсем уже ничего не понимала: сегодня я с самого начала делала все не по правилам, вот и сейчас в ответ на ее вопрос я, по ее расчетам, должна была бы помрачнеть. Но что делать, если вопрос ее был таким смешным – до того смешным, что я прислонилась к стене и, смеясь, смотрела на ее растерянное лицо. Мне представилось, что ты в самом деле придешь: войдешь в дверь, осмотришься, попросишь меню, начнешь рисовать на столе – ведь я ушла и, видимо, больше сюда не вернусь. Тера осенит себя крестом и глаза у нее полезут на лоб, когда она увидит тебя в окровавленной рубашке, и юбка взовьется на толстом заду, так она помчится из зала. Я попросила ее передать тебе, что иду домой и что завтра не приду сюда ни обедать, ни ужинать; у Теры вспыхнули уши, она захлопнула рот, потом снова открыла: ведь это просто ужасно, то, что я говорю, даже подумать страшно, что будет, когда она все это тебе передаст, вместо того чтобы подмигнуть заплывшими глазками и показать тебе на кабину: мол, вас уже ждут. Пахло жареным мясом, пивом, салатом; вино сегодня, во вторник вечером, было у них только в бутылках, разливное кончилось. Я не обернулась ни в дверях, ни на улице – я смотрела прямо перед собой, на колокольню на площади и на небо. Смеркалось.
Дома было темно; я думала, Юли уже ушла – но она сидела в кухне, с молитвенником в руках, и ждала. Когда я включила свет, она загородила глаза рукой, потом встала, подошла ко мне совсем близко и внимательно посмотрела мне в лицо. На мне было зеленое платье, то самое безнравственное платье, с которого можно было снять болеро – и тогда открывалась моя совершенно голая спина. Юли терпеть не могла это платье, мне самой приходилось его стирать. Сейчас она на мгновение взялась за платье рукой – словно хотела просто опереться на меня или, ухватившись за оборку, вытащить что-то из глубины; я отступила назад. Мы стояли, глядя друг на друга; на крестьянском, цвета глины, лице Юли, как и на моем лице, не было никакого выражения.
Плита была холодной – нигде ни кастрюли, ни пищи; я открыла холодильник: там тоже было пусто. Единственные слова, которые я услышала от нее в тот вечер, были о том, что, мол, никакой еды нету, пост сегодня. Я легла в постель. Вскоре в спальню вошла Юли, сбросила туфли, встала на диван и сняла с верхней полки мои подсвечники. Свеча была лишь в одном из них – та синяя витая свеча, наполовину сгоревшая, которую мы зажигали в день твоих именин; в остальные подсвечники Юли сунула обыкновенные кухонные свечи, зажгла их все, поставила на подоконник и вышла. Зазвонил телефон в соседней комнате; Юли сняла трубку и сразу же положила ее на рычаг, потом я услышала щелчок: она выдернула из розетки телефонный шнур. Свечи отбрасывали на стены какие-то мягкие, домашние тени; я вытащила из-под головы подушку и закрыла ею себе глаза. Но теперь я видела свет изнутри, под веками; я видела сразу две картины: себя, делающую обязательное упражнение со свечой, за мной Пипи, Хелла, дальше Петер Папп и Шуци; мы ходим по кругу, будто детсадовская группа каких-то гигантских малышей, у каждого в руках свеча, и Ваня командует: «Сосредоточьтесь, прошу вас, сосредоточьтесь! Держите свечу без напряжения, не закрывайте огонь, раз-два, раз-два, двигайтесь не спеша, естественно…» – и мы ходим, как лошади, вращающие колесо, все по кругу, по кругу, Пипи время от времени шепчет мне на ухо всякие гадости. На второй картине я вижу Ангелу: она открывает мне дверь вашей квартиры, и мне бросается в глаза, что в прихожей, на радиаторах, всюду горят маленькие красные свечки, все это выглядит, как Tedeum [47] , в холле тоже горят цветные шары из воска, ты смеешься и мимоходом обнимаешь Ангелу за плечи, словно любящий отец, гордый за своего удачного ребенка. Ангела танцует вокруг меня, танцует и хлопает в ладоши, на столе целая гора цветов; в зыбком сумраке раздается шелест крыльев, и на плечо Ангеле садится синий попутай. Теперь я вижу и клетку с открытой дверцей, через которую он выбрался наружу, ту самую клетку, в форме лютни, в которой Ангела когда-то давно, ранним майским утром, увозила зеленую птицу.
«Дорогуша моя, – говорит Ангела, – милочка моя», – и вся светится лаской и любовью; она и сама теперь похожа на ласковый огонек свечи; взяв меня за руку, она тянет меня за собой, я послушно иду, непринужденно и звонко смеюсь – так смеются, приходя к лучшим подругам, – все мне здесь нравится: комната, портреты Ангелы по стенам, балкон, цветы, дверные ручки – словом, все; горячие пальцы Ангелы сжимают мою холодную руку – если б она чуть-чуть сдвинула пальцы, она нащупала бы у меня на ладони рубец от тесака. Не зажигая электричества, Ангела вносит на блюде жареную индейку с коричнево-красной хрустящей корочкой, с большими розовыми картофелинами по краям блюда; у тебя в руках блестит серебряный разделочный нож. «Ах, – радостно кричу я, – ах, как вкусно, ах, я так проголодалась!»; ты смотришь на меня: много времени проводя в театре, ты научился различать естественную речь и лицедейство – но вот ты уже улыбаешься, ты мне поверил, да и как мне не поверить, когда я такая счастливая; я закатываю рукава, чтобы не мешали в еде, и радостно ем индейку, картофелем рисую усы себе и Ангеле – и ты не подозреваешь, что когда я встаю из-за стола и шутливо кланяюсь до земли, а потом беру в руки по подсвечнику и подымаю их вверх, – то меня так и подмывает швырнуть один из них на твой письменный стоя, заваленный книгами и бумагами, а другой – в Ангелу, чтобы иллюминация была совсем полной.
После ужина Ангела, напевая, варит в кухне кофе, ей вспоминается «Витязь Янош», и она кричит мне, что ведь так и проболела и не видела меня в роли Илушки; я лечу на кухню, хватаю висящие там тряпки, две из них накидываю себе на плечи, одну повязываю на пояс – это передник, – и внезапно превращаюсь в крестьянскую девочку. Вы оба становитесь серьезными: когда я играю, все становятся серьезными; а я уже напеваю, стоя на коленях перед голубым персидским ковром, полощу и выкручиваю четвертую тряпку. Ангела молитвенно складывает руки, с восторгом глядя на меня, потом опять начинает смеяться, и у нее выступают на глазах слезы, потому что эта девочка, что стоит на коленях и погружает белье в синюю воду ковра, – это уже не я; перевоплощение столь совершенно, что Ангела не выдерживает: аплодирует, танцует, бросается целовать меня; и ты тоже смеешься, потому что в комнате у вас в самом деле стирает белье чужая девочка, забавная, серьезненькая девочка, которая тонким детским сопрано жалобно поет о том, что у бедной сиротки нет ни матери, ни отца и некому ее пожалеть и приласкать. Я пою и думаю про манную кашу, про лань, про стадо, про туфли тети Ирмы, про самые разные вещи – и в конце концов про отца: он стоит передо мной, края его пиджака подшиты репсовой лентой, чтоб не было видно бахромы, а рядом с ним – матушка, она осматривает его и заботливо спрашивает о чем-то, отец улыбается в ответ – а я, увидев эту улыбку, прячусь в дровяном сарайчике, кладу голову на чурбачок, на котором обычно колют дрова, – мне тяжело и больно, потому что репсовая лента выглядит ужасно, ужасно, я даже предположить не могла, пришивая ее, что это будет такой кошмар. Слышится голос отца: он хвалит меня, что я так хорошо шью. «Где она?» – спрашивает отец, и они соглашаются, что я, наверное, у Амбруша или У Карасихи; а я сижу на земле и указательным пальцем с задубевшей кожей рисую круги на опилках.
Завершив свой номер, я поднимаюсь с пола; на мне все еще костюм Илушки, сделанный из кухонных тряпок, но я уже снова – я. Я смеюсь, и вы тоже смеетесь, Ангела вытирает платочком глаза и нос – так она счастлива. А меня вдруг охватывает злость, что ей так весело; попугай снова сидит у нее на плече и что-то лопочет, бирюзовые перья кажутся еще наряднее рядом с ее черными локонами. Ничего, сейчас будет расплата за удовольствие, Я швыряю наземь тряпки, поворачиваюсь к вам лицом, становлюсь высокой и, слегка ссутулившись, кладу левую руку в карман; выпячиваю нижнюю челюсть. Я уже не женщина, я – мужчина. Ангела перестает смеяться, смотрит на меня во все глаза. Ангела знает, что на мне сейчас черный костюм и жемчужно-серый галстук. Ангела видит и белый шарф, который я снимаю с шеи, входя в комнату, и видит себя, выбегающую из детской. «Как дела, Анги?» – раздается из моего рта чужой голос, густой, приятный, немного певучий, и Ангела, вскрикнув, поднимает руки к глазам, из-под пальцев у нее льются слезы. Ты даешь ей платок, но ее теперь не успокоить; испорчен такой замечательный вечер: Ангела безутешна. Она оплакивает дядю Доми, хотя кругом горят рождественские свечи и запах индейки смешивается с запахом кофе; среди огней и запахов стоит дядя Доми – но его здесь нет: это я стою вместо него, снова уже я, и Ангела плачет у тебя на плече: «Ах, папочка, папочка!»
Собираясь домой, я чувствую, что она теперь любит меня сильнее, чем когда-либо прежде; еще бы: стоит мне поднять глаза, как дядя Доми снова здесь, в комнате. Она сжимает мне руки, трется заплаканным лицом о мое плечо, лепечет, что хочет всегда, всегда, как можно чаще видеть меня. Ее красивые губы и веки припухлы от слез. «Прекрасный был вечер», – говорю я и благодарю ее за вкусный ужин.
11
Старик поел. Он подходит к колодцу, полощет судки; я сижу будто не видя его – чтобы не смущать. Он направляется к воротам, лейка и судки звякают в такт шагам. Бедный старикан – у него, видно, отстают на ботинках подошвы: он постоянно цепляет ими за землю. Я думаю, что счастливей всего я была в тот день, когда ты позвал меня с собой покупать обувь.
Неправда, что первое время я на тебя и смотреть не хотела. Я всегда все рассматриваю: помещения, предметы, людей, – даже помимо своей воли. У Хеллы и у Пипи тоже есть такая привычка. Я так изучила твое лицо, все твое тело, что могла бы слепить тебя из этой вот глины. Когда мы с тобой расставались на улице и ты направлялся домой, я всегда оборачивалась тебе вслед, следя за ритмом твоих шагов. Однажды, еще в самом начале, когда ты пришел в театре ко мне в уборную, на зеленом галстуке у тебя было маленькое пятно: оно очень смущало тебя, и ты все время пытался закрыть его рукой; а как-то ты неловко садился в такси и на лбу у тебя был синяк. В театре я то и дело украдкой смотрела на дверь: идешь ли ты уже? Хелла, великая сплетница, даже пожарного оповестила о том, что я в тебя влюблена – еще когда я не любила тебя, а лишь ждала, когда ты наконец скажешь то, что хочешь сказать. С тобой я вела себя как умная и добрая сестра: расспрашивала тебя об Ангеле – а сама в это время пыталась понять, догадываешься ли ты, что ходишь сюда так часто только из-за меня, или, может быть, тебе нужно помочь догадаться? Одной половиной сердца я ликовала, что тебе пришлось солгать Ангеле, чтобы снова прийти в театр; а другой испытывала злобу, отвращение к тебе за то, что ты спишь с ней в одной постели, пьешь из одного с ней стакана, купаешься в той же ванне. Я ненавидела тебя, думая о том, что дома ты, наверное, называешь ее каким-нибудь ласковым, лишь вам двоим известным именем и когда-нибудь, когда наши с ней образы сольются в памяти твоего тела, ты, забывшись, так назовешь и меня; но в то же время я мечтала об этом: ведь тогда я буду уверена, что отняла тебя у Ангелы.
Мы в то время очень много говорили о ней, и это невероятно злило меня. Я собирала все силы, чтобы ты не заметил, как неприятно мне о ней говорить. Все было двойственно в те дни: мне и хотелось, чтобы ты высказал все о ней, я была счастлива услышать, как легко она схватывает простуду, как ей приходится беречь уши, сколько она работает в Союзе венгерских женщин – да еще и обед успевает сварить, – и как горько плачет, роняя слезы в кастрюльку с супом, когда что-нибудь испортит в спешке, как сидит на корточках перед плитой в своем огненно-красном кимоно и смотрит так печально, что у тебя сердце разрывается от жалости и от желания помочь. А какая она смелая! И какая верная! И с какой самоотверженностью подставляет свою хрупкую спину под груз забот, связанных с памятью об Эмиле! Ангела руководит семинаром, Ангела вечно пропадает в приюте, Ангела учится, Ангела повышает свое образование, Ангела портит себе зрение, читая по-немецки Маркса, который остался от Эмиля, и покупает все-все книжки по идеологии. Когда люди выходят из мясной лавки с пустыми руками – потому что нет мяса, – у Ангелы округляются глаза, крупная слеза скатывается по щеке, она бежит к книжной полке и в очень-очень большой книге ищет объяснение, почему в магазинах нету нужных товаров.
Мы смеялись над Ангелой – но ты всегда был при этом и растроган немного; я тоже увлажняла себе глаза и говорила, что она и в детстве была точно такой, готовой на жертвы, – и тут я ловила себя на том, что она ведь и в самом деле была такой, вечно за кого-нибудь хлопотала, брала какие-то бессмысленные поручения – меня снова охватывала злость: еще бы, у нее для этого были и возможности и время; что ей было еще делать, кроме как быть благодетельницей рода человеческого. Как это великодушно с ее стороны, сказал ты однажды, что она всех обегала, кого надо и не надо, чтобы тебя поскорее освободили из плена; а как она перетаскивала твои рукописи в огромных неуклюжих ящиках из подвала в подвал, как раскопала из-под развалин, когда ваш дом разбомбили, твою настольную лампу и детскую фотографию твоей матери.
Теперь Ангела живет памятью о брате, хочет продолжать его дело. Голос твой звучал серьезно, одобрительно, в нем сквозило даже умиление. «Ну что за прелесть!» – шептала я, и у меня сжималось горло. Подумать только: Эмиль, долговязый и тощий Эмиль, оказался вдруг таким весомым, гораздо весомей, чем судейский стаж дяди Доми, чем покрытые красным лаком ногти Ангелы, чем тройная золотая цепь на шее у тети Илу. Снова в руках у Ангелы сказочная птица, она по уши занята своей новой игрушкой и лишь иногда улыбается небесам своей дивной улыбкой. «Дай мне руку, Анги, – говорит ей навеки умолкший Эмиль, – дай мне руку, я поведу тебя». И Ангела идет, а когда прежняя жизнь уходит у нее из-под ног, ее подхватывает под руки дух новых времен, и вот вместо благотворительного чая на вечерах судейской палаты она разливает теперь молоко в чашки сирот погибших за свободу героев. «Сестра Эмиля Граффа! Сестра Эмиля Граффа!» И никто ведь не скажет: дочь судьи Граффа.
Как– то в 48-м я вышла из театра; дело шло к вечеру, я вдруг вспомнила, что забыла в уборной текст роли. Я была одна: Пипи, Хелла, Шуци остались на партийном собрании. Я помчалась обратно, взяла роль, заодно прибрала немного на столе, сложила в сумку пустые баночки и пузырьки: сдать в утиль. Направляясь обратно, я услышала из 12-й комнаты обрывки какого-то выступления. «Так как будущее, которое мы хотим строить для всех…» -говорил незнакомый мне мужской голос. Я остановилась. Будущее. Для меня еще никто и никогда не хотел строить будущее. Вокруг меня было лишь прошлое – такое необъятное, непроглядное, что у меня голова кружилась от страха. Будущее… Дверь открылась, вышел Ваня: собрание продолжалось. Глаза у Вани вдруг стали холодными, а я подняла выше сумку и почувствовала, что краснею. «Это закрытое партийное собрание, – сказал Ваня. – Вы кого-то ждете?» Я так мчалась вниз по лестнице, что пустые пузырьки звякали у меня в сумке.
Добрая маленькая Ангела, она часто бывала с нами и в театре и в ресторане; тогда ты уже постоянно ходил с нами – не только со мной, но и с другими актерами; мы пили кофе и, если сидели рядом, говорили об Ангеле. Я рассказывала, какой была ее детская комната, какие она любила книги, – рассказывала и видела, как ты не сводишь с меня глаз, и ждала, когда ты прекратишь этот глупый разговор и скажешь то, что я хочу от тебя услышать. Я была зла на тебя, словно ты привел меня в какое-то дурное место; то, чего я так ждала от тебя, что должно было произойти между нами, в моих глазах было естественным и неизбежным; но то, что ты сидишь с нами, смотришь на меня и в то же время несешь что-то об Ангеле, – это мне удавалось вытерпеть лишь большим напряжением воли.
Долго же пришлось мне ждать, пока ты наконец сказал мне нужные слова и поцеловал меня. Это произошло у тебя в университетском кабинете – мы только что вынули из твоей пишущей машинки конец первого действия нового перевода «Короля Лира», и Пипи помчался с ним в театр, а я осталась. Был вечер; на столе, как раз против меня, стояла фотография Ангелы. Единственное, что помогало мне вынести это, была мысль о том, как страдала бы Ангела, если б видела, как ты обнимаешь меня. Ты закрыл глаза и расслабился в поцелуе; а я смотрела на тебя. Лицо у тебя было несчастным, линия сомкнутых век – печальной. В горле, во рту у меня нарастало отвращение к твоим страданиям: тебя сейчас мучает совесть, скоро ты пойдешь домой и будешь ласков с женой, как никогда, чтобы уравновесить свою неверность, уравновесить меня. В Сольноке, в ту самую ночь, ты так испугался, не понимая, что со мной происходит, – а я расплакалась оттого, что ты признался: держать меня в объятиях, даже тогда, в первый раз, было так страшно и сладко, что это граничило с болью; ощущение было слишком уж острым, оно терзало тебя, ты мучился им. «Мне ужасно хотелось почувствовать, что ты любишь меня», – сказал ты, а у меня хлынули слезы, я захлебывалась ими, лежа рядом с тобой и думая, как покорно я подчинялась твоим рукам, в то время как каждая мышца моя лишь имитировала покорность и я едва преодолевала желание вырваться и уйти, потому что мозг мой жгла одна мысль: что чувствует Ангела, когда ты целуешь ее? Я ненавидела тебя.
К Эльзе я ненависти не испытывала. Эльза никогда не была мне так приятна, как в тот вечер, когда она вдруг явилась ко мне. Было воскресенье, Юли куда-то ушла, я сама открыла дверь. И сразу же догадалась, что привело ее ко мне; забрав у нее пальто и перчатки, охваченная какой-то ликующей радостью, я провела ее в комнату. Случайно она села в то самое кресло, в котором обычно сидел ты, – но села на краешек, как бы желая еще больше усугубить терзавшую ее неловкость. Она долго говорила что-то, а я весело и не вникая слушала ее путаную речь.
Помнишь, однажды ты провожал меня в театр – и на проспекте Ракоци, откуда-то со стороны универмага «Корвин», вдруг вышла Ангела? Она шла впереди нас, ее бордовое платье ярким пятном мелькало в толпе прохожих. Ты резко замедлил шаг, ожидая и от меня того же; я же, наоборот, заторопилась. Досадуя на меня за невнимательность, ты попытался придержать меня за локоть. Я вырвалась. В эти минуты ты снова был мне ненавистен, как прежде; я повернулась и помчалась в другую сторону. За театром как раз отправлялся автобус; я успела вскочить в него. Догадался ли ты тогда, что мне очень хотелось догнать Ангелу, догнать именно вместе с тобой; мне хотелось видеть, как она побледнеет в своем ярком платье и беспомощно посмотрит на меня.
Я угостила Эльзу чаем, вспомнив, что она любит чай, а не кофе. Затягиваясь сигаретой, я слушала, как она выдавливает из себя слова. Мне ее было жаль немного: эта тетя Илу такая бестактная – пришла бы лучше сама. Эльзе известно, что я все про нее знаю, ей вдвойне мучительно говорить со мной на такую тему.
– Ты умная девушка, Эстер, – обращалась она к своей чашке, – я ведь только хочу избавить тебя от того, что, не дай бог… Только ты можешь поговорить с Леринцем; ни Илу, ни я не можем ему этого сказать. Будет ужасно, если Ангела все узнает. Бедняжка еще ни о чем не догадывается.
Она отодвинула чашку и взглянула на меня. Я тоже поставила чай, улыбнулась.
– Надо все ей сказать! – ответила я.
Эльза стиснула руки, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Она не могла произнести ни слова. Эльза была единственным человеком, заглянувшим на мгновение мне в душу через щель, приоткрытую ненавистью. Она единственная поняла, что я жду не дождусь минуты, когда кто-нибудь все расскажет Ангеле про нас с тобой, и самое большее, что она еще может сделать для Ангелы, – это молчать как могила.
12
Ну вот, теперь она все знает.
Она узнала об этом не так, как я бы хотела, не в самый подходящий момент – но тем не менее узнала. Во вторник, выйдя из твоей палаты, я чуть не наткнулась на нее: она стояла за дверью, застекленной матовым стеклом, совсем близко, – но не настолько, чтобы ее было видно через стекло или чтобы кто-то мог подумать, что она подслушивает. В коридоре было сумрачно, на стенах горели красные кресты ламп. Когда я открыла дверь, свет лампы, стоящей на твоей тумбочке, вырвался в коридор; Ангела от неожиданности подняла руку к глазам. Не знаю, какое было у нее лицо – его не видно было из-под ладони. Эльза и тетя Илу, обнявшись, плакали возле ящика для грязного белья, а на ящике стояла клетка Петера. Попугай качался на трапеции и время от времени ударял клювом по колокольчику. Сумка Ангелы стояла посреди коридора; выходя, я чуть не споткнулась о нее.
В коридоре было оживленней, чем раньше, когда я пришла; у окна возилась сиделка, делая вид, что занята цветами на подставке, возле нее торчал какой-то врач; они шептались. У выхода на лестничную площадку стоял профессор с Дюрицей; все они обернулись на звук открываемой двери, тетя Илу сразу отвела от меня взгляд и принялась рыдать еще громче. Эльза хотела встать, но тетя Илу удержала ее за локоть. Ангела не шевельнулась. Я не поздоровалась ни с кем, ничего не сказала. Мне очень хотелось сесть, но там я сесть не могла и сразу пошла к выходу. С лестничной клетки я оглянулась: Ангела как раз входила в палату, с ней шел профессор. Я увидела лишь ее спину и движение Вельтнера, подхватившего ее на пороге. Когда Дюрица остановил меня у лифта, врач и сиделка смотрели на меня во все глаза, как на чудище; Эльза с тетей Илу тонко скулили в своем углу. Дюрица блеял что-то насчет того, что у него машина и он отвезет меня; я ответила, что у меня дела, тогда он отстал от меня, а я пошла вниз по лестнице. Гудел лифт, пахло спиртом, карболкой и хлорной известью. На третьем этаже девушка мыла лестницу и под нос, чтобы не беспокоить больных, напевала что-то про «круглый пряник, сладкий мед».
Во дворе больницы мне все же пришлось сесть. Я подошла к фонтану, где стояли красные скамейки, но там было полно выздоравливающих в байковых больничных халатах, они курили и разговаривали. Я села на край бассейна, где сыпалась водяная пыль, и опустила руку в воду. Кто-то сказал мне, что нельзя беспокоить рыб, я положила руку себе на колени. Люди смеялись. Солнце еще не зашло. Я подняла глаза на окно палаты – так странно, еще день, а в палате горит электричество. Отсюда, снизу, трудно поверить, как сумрачны наверху палаты и коридор, затененные высокими деревьями, переросшими здание. В воздухе у фонтана толклись мошки, какой-то парень дунул на них сигаретным дымом. Мне хотелось курить, но с собой у меня не было ничего, даже удостоверения личности, – только смятые деньги в кармане платья – сдача с пятидесяти форинтов. Сумку принес мне вечером таксист.
Мне еще никогда не приходилось бывать в этой части города. Словно оказавшись в глухой провинции, шла я мимо заборов, одноэтажных домов; в окнах лежали вышитые подушечки, кошка спала за стеклом. Высокое здание больницы, не вязавшееся с окружающими приземистыми домишками, почти невесомо парило над ними, да и площадь с гудками автобусов и перестуком электрички была здесь как-то не к месту. Я все шла и шла по незнакомым, горбатым улочкам, не оглядываясь, и смотрела на горы: закат был чист, видны были дома на склонах. Среди обилия зеленых и коричневых красок мелькнуло белое пятнышко – мой дом. Я вспомнила про Юли и пошла еще медленнее; передо мной ехала мусорная машина; когда верх ее открывался, оттуда облаком взлетала пыль. Из дверей пекарни растекался запах свежего хлеба; я с детства не видела таких деревянных плюшек и угловатых калачей, как на вывеске у входа в пекарню. На углу я увидела фотоателье и долго рассматривала витрину в подворотне. Такие вот фотографии были у нас в городе, в студии дяди Чомы: под стеклом там висели точно такие же голые младенцы и солдаты с напряженными лицами. Я стояла у витрины, пока не вышел мастер и не стал глазеть на меня; тогда я отправилась дальше. На меня налетел мальчишка с бидоном в руке, немного молока выплеснулось мне на ноги. Выйдя на Кольцо, я хотела обернуться назад, но так и не решилась повернуть голову. Прохожие оглядывались на меня, и я поняла, что плачу; одна женщина что-то сказала, взяла меня под локоть, но я стряхнула ее руку. Когда я подошла к «Лебедю», глаза у меня уже высохли. Ангела наверняка нашла у тебя в бумажнике мою фотографию.