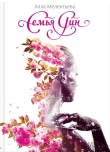Текст книги "Избранное"
Автор книги: Магда Сабо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц)
После того как Аннушка бежала из дому, она годами мыкалась по чужим углам. Первое ее жилье – комната на улице Баштя, которую снимала Эва Цукер; поначалу Эва приютила у себя подругу, а потом, когда Эва возвратилась в Тарбу, комната и совсем перешла к Аннушке; и до сих пор ее преследует запах плесени и неимоверно грязных стен. Ей отвратительна была назойливая чужая жизнь, шорохи, доносящиеся из соседней комнаты, запах чужой мебели и мрачный колодец двора с асфальтом, вечно скользким от выплескиваемых помоев. Аннушкина комната помещалась на первом этаже, а окно выходило во двор. Лишись она возможности хоть раз в день убегать на берег Дуная, чтобы взглянуть на небо и облака, забудь она, что наконец-то ей удалось вырваться из домашнего заточения, и ей не выдержать бы и двух месяцев в этой дыре. А она протянула там около года.
Мастерская в доме на улице Дерковича была просторна, полна света и воздуха, но там они жили вдвоем с Мартой, а Марта оказалась девицей шумной и беззастенчивой, в ванной на веревке вечно было развешано ее белье, по ночам Марта засиживаться не любила и не могла спать при свете: Аннушке, если надо было позаниматься подольше, приходилось летом устраиваться на балконе и зонтом прикрывать свет, чтобы не мешать Марте, а в зимние ночи – в ванной. На улице Дерковича можно было заниматься живописью, освещение там было идеальное, но домом своим мастерскую она не чувствовала; свой дом у нее появился лишь три года назад.
Под вечер, в канун рождества Адам увез ее на улицу Келтэ. К тому времени, как они добрались до места, пурга разбушевалась не на шутку. На улице Дерковича, когда они садились в такси, в воздухе кружили редкие снежинки, у Южного вокзала снег повалил густой пеленой, а через короткое время, когда они добрались до Швабской горы, в воздухе свирепствовали снежные смерчи. Адам с утра перевез все громоздкие и тяжелые вещи, полотна, мольберты, книги уже перекочевали на улицу Келтэ, с собой же у Аннушки оставалась лишь одна картонная коробка, да и ту она умудрилась выронить, когда им пришлось на полдороге вылезать из такси: машине не удалось преодолеть крутой подъем, и они пересели в другую, встречную, которая показалась у спуска с горы. Вот тут-то, пересаживаясь, Аннушка и выронила коробку; бумажная бечевка лопнула, крышка открылась, и вылез наружу засунутый сверху аннушкин красный свитер. Адам снял с себя галстук, надвязал им бечевку и накрепко перетянул картонку. До самого дома они смеялись над аварией; когда же вышли из машины на улице Келтэ, за густым снегопадом в двух шагах ничего нельзя было разглядеть. Аннушка до той минуты даже не видела дома, куда теперь вступала, вес здесь было незнакомым для нее. Адам разузнал где-то про эту квартиру, снял ее и в одиночку навел там порядок, все новоселье было задумано как сюрприз, как рождественский подарок для Аннушки.
Адам не пустил ее сразу в комнату, и какое-то время Аннушка сидела в маленькой прихожей, под дверью мастерской, согревала дыханием озябшие руки, дышала на оконное стекло, но впустую: морозные узоры не таяли. Было холодно. Адам возился в мастерской, похоже, он растапливает печку, вот теперь она слышит, как потрескивают дрова, потом донеслось какое-то шуршание, и вот уже Адам звонит в колокольчик. Аннушка поняла, теперь можно входить, и даже не удивилась. В ней всегда теплилась затаенная уверенность, что иначе и быть не может: однажды явится добрый дух, позвонит в колокольчик, распахнутся двери, и придет к ней, к Аннушке, настоящее рождество – праздник, светлый и радостный повсюду на свете, кроме Тарбы. Аннушка влетела в комнату, ей хотелось плясать и вопить от восторга, как, бывало, в детстве, завидев Ене в окне мастерской, или перед картинами в алтаре, или при виде рождественских игрушек Анжу, хотелось радостно завопить и затопать ногами, но горло перехватило и голос ее пресекся. Посреди мастерской высилась преогромная елка, какие ставят на вокзалах или в больницах, – до самого потолка, разукрашенная бенгальскими огнями, цветными свечками, обвитая снежком и сверкающая нитями канители; выглядывали из хвои развешанные по веткам золоченые орехи, шоколадные сердца, серебряные сосульки и блестящие стеклянные шары с кулак величиной; самую макушку венчала звезда, а внизу под елкой, в хлебной корзиночке, запеленутый в настоящий детский свивальник, в чепчике и белой распашонке лежал насмерть перепуганный Густав и тихонько поскуливал. Адам исчез, спрятался где-то в углу. Аннушка схватила щенка на руки, высвободила из одежек и на дне корзиночки обнаружила записку; «Поздравляем с праздником: Боженька, Густав и Адам». Ей тогда сравнялось двадцать шесть, и это было первое рождество в ее жизни.
В городском совете у них есть знакомый, через него можно уладить, чтобы Анжу разрешили переселиться в Пешт… Густав. Когда она развернула щенка, тот зевнул и наморщил лоб, совсем как взаправдашний младенец. Щенку тогда было шесть недель, овчарка, но не чистых кровей, с чересчур крупными лапами. Аннушка услышала с улицы заливистый лай и выбежала из дома. Густав настолько прочно завладел ее мыслями, что она не сразу сообразила: это опять растявкалась та собака с улицы Гонвед. Ну и шалопутный пес, лает даже на своих! Вернулся Анжу с покупками.
10
Янка долго колебалась, прежде чем начать накрывать на стол, и наконец все же решила выставить сервиз с розами. Этот сервиз был получен в приданое Мамочкой и сохранился по сей день почти без урона, так как им пользовались в особо торжественных случаях, сейчас же Янка достала сервиз потому лишь, что полагала: Бабушке будет приятно, пусть убедится, по крайней мере, как бережно относятся в их семье к тем вещам, что она дала за Мамочкой. Янка аккуратно расставила приборы. Сусу помогала ей накрывать, и эта дочкина помощь превращала будничное дело в развлечение, забаву, не подобающую траурному дню. В обычные дни семья обедала в половине второго, сегодня же, из-за похорон, решено было сесть за стол в час.
Времени без четверти час, а Ласло все еще нет и в помине. Приемыш давным-давно сидел во дворе, он проголодался и посматривал, готов ли суп, Кати суетилась на кухне, желая показать перед старухой-гостьей, что есть еще и от нее прок. Обед был готов, Янка не отходила от печи, тянула время и лишь для вида помешивала тушеный картофель, чтобы не пригорело со дна. Папа тоже заглянул на кухню, поискал глазами Ласло и, убедившись, что зятя нет, отпустил язвительное замечание насчет важных общественных дел, которыми нельзя пренебречь, даже когда в доме покойник. Янка сжала губы и промолчала. – В Совете много работы, – взял под защиту Ласло Куна Приемыш, говорил он тем елейно-примирительным тоном, каким ему беспроигрышно удавалось доводить Папу до белого каления. «Совет… – думала Янка, застыв на корточках перед буфетом и передавая Жужанне бокалы. – Что ж теперь делать, если его выбрали в Совет?»
Она накрывала на семь персон, хотя и не надеялась, что Аннушка придет домой к обеду; а вдруг Аннушка все-таки пожалует к столу, а ей даже прибора не поставлено – нет, этого допустить нельзя. Сервиз с розочками был только на шесть персон, но Янка отыскала прежнюю тарелку Аннушки – деревянную, ее вырезал для Аннушки Анжу, – и глиняную мисочку: на мисочке тоже посередине была нарисована роза. Если не считать серебряной ложечки, то все аннушкины чашки-тарелки целы. Сусу от волнения глубоко вздохнула, ставя прибор в конце стола. Аннушка!
Возмущенные выкрики священника прогнали от старой Дечи сон, скучающим взглядом она обвела кусты. Ну и горласт же этот поп! Хотя на сей раз, как ни кинь, а он прав: давно бы пора садиться за стол. Старухе ужасно хотелось заглянуть на кухню и узнать, что подадут на обед. В мечтах ей виделось какое-нибудь легкое, приятное блюдо, процеженный обезжиренный мясной бульон, потом бы кусочек нежного цыпленка, на сладкое можно и компот.
Дом был весь взбудоражен… Приемыш грелся на солнышке и поминутно вздыхал, приговаривая: «Бедная наша Мамочка!» – или: «Не следовало бы заставлять Папочку ждать с обедом!» Священник маятником сновал от клумбы к клумбе и поминутно сверял свои карманные часы с башенными, Янка, задерганная вконец, не решалась выйти во двор. Четверть второго, а Ласло так и не вернулся. Вчера он обещал попросить в Совете машину, чтобы добраться до кладбища. Похороны назначены на три, значит, в половине третьего им непременно надо быть на кладбище, иначе пересудов не оберешься. И то машине придется делать две ездки, пока перевезут всю семью; и Кати с ее старческими больными ногами тоже не пошлешь на трамвае. И точно ее позвали, в тот же момент Кати локтем отворила дверь: внесла суповую миску.
Янка сделалась ни жива ни мертва. С тех пор, как они поженились, семья ни разу не садилась к столу без Ласло. «Его преподобие распорядились подавать», – сказала Кати и поставила суповую миску на вышитую салфетку в центре стола. К тому времени подоспел и сам Папа, да и вся семья была в сборе. Янка заикнулась было в оправдание, но Папа оборвал ее невнятный лепет, веля разливать суп: не станут они из-за какого-то ничтожества перед людьми позориться – трусцой бежать на кладбище. Янка трясущейся рукой в края наполнила все семь тарелок. Дечи расправила на коленях салфетку, схватилась за ложку с жадностью зачерпнула – и слепая ярость охватила старуху, когда она увидела, что суп-то постный, из цветной капусты. Дечи проглотила ложку супа и тут внезапно почувствовала какое-то беспокойство, словно что-то сделала не так. Она вскинула глаза и увидела, что все смотрят на нее. «У нас принято читать молитву перед трапезой, дорогая Бабушка!» – выговорил ей Приемыш; Дечи покраснела и отложила ложку. «Гряди, Иисусе, в обитель нашу!» – начала Сусу, раздельно, внятно. Приемыш закусил губу: текст молитвы всегда действовал на него неодолимо. Два места за столом пустовали, если Иисус и впрямь надумает прийти, может подсесть в конце стола, где стоит аннушкина глиняная миска постного капустного супа – в края.
Папа сидел во главе стола, благочестиво склонив голову, как обычно во время молитвы. Когда Сусу умолкла, он взялся за ложку, – это был знак остальным, что можно приступать к еде. Священник обвел взглядом стол. Сказать по правде, в глубине души он был рад, что зятя нет дома, нет здесь, за столом, что он не видит его богопротивного лица. Безбожник и святотатец, изменник отечества. Да и откуда взяться благим помыслам в сей низкой душе! Только сейчас священник заметил, что в конце стола поставлен еще один лишний прибор. Насупротив него, на прежнем месте белела глиняная миска, при виде ее старика вновь обуял гнев, и он в сердцах стукнул ложкой по столу. Да как осмелились поставить прибор для блудной дщери, даже не спросив его соизволения, и как они мнят себе это в помыслах своих: ему ли садиться за один стол с грешницей и преломить хлеб с нею! Перепуганная Янка не сводила глаз с его лица, а Папа даже слов не стал тратить, только мановением перста указал на тарелку, и Приемыш сорвался с места, чтобы убрать со стола прибор.
Янка готова была расплакаться. Впервые в жизни пришла ей в голову мысль, что хотя и припасы куплены ею, и готовила цветную капусту она, и тратила на еду деньги Ласло, она, Янка, не имеет права дать тарелку супа кому пожелает. Никого не может она накормить без особого на то позволения, ничем она здесь не распоряжается, никого не оделяет, лишь разливать и раскладывать – вот ее удел. Суп был съеден, и со дна тарелок проглянули задорные головки роз. Папа оттолкнул от себя суповую тарелку. Сусу, как бесплотное существо, скользила между сидящими и сноровисто, ловко убирала тарелки из-под супа.
– У нас сегодня празднество в доме, день ликования, так прикажешь понимать тебя, дочь моя? – спросил Папа и проводил взглядом суповую миску, на крышке которой алел полураспустившийся бутон, за него и поднимали крышку. – Расхожие тарелки не подобают случаю, непременно нужны парадные?
Янка пробормотала что-то совсем уж невнятное, из чего только Приемыш мог разобрать два слова: «Бабушка» да «Мамочка»; Папа в таких случаях никогда не давал себе труда вслушиваться, его не интересовало, что ему отвечают. Священник ненавидел этот фарфоровый сервиз, изукрашенный розами и золотой каемкой, своими мирскими фривольными красками сервиз никак не приличествовал благочестивому дому и их столу. В день погребения подобало бы есть из оловянных тарелок. Какой бес вселился в эту Янку? Жеманство, тщеславие… К старости и она, пожалуй, уподобится той, чья тарелка с супом еще дымится на мраморной доске буфета. Нет, ни кусочка не получит Аннушка за его столом, покамест не смирит гордыню перед Господом и перед ним, отцом своим.
Старая Дечи только сейчас обратила внимание, из чего она ела. Суповая миска стояла напротив нее, и старуха узнала фарфоровый сервиз, нежную зелень листьев и бархатисто-коричневые стебли. Еда и до сих пор насилу шла ей в горло, оттого что она терпеть не могла капусты, теперь же комок стал в горле по другой причине. На буфете стояла суповая миска, а на столе, перед обедающими – шесть тарелок; и откуда-то издалека, с расстояния нескольких десятилетий память воскресила Оскара; Оскар стоял и смеялся, он держал на свету крышку от суповой миски, и она явственно видела перед собой его руки, его красивые, длинные пальцы. «Взгляни, какая прелесть! – говорил он ей откуда-то из бесконечной дали былого. – Я могу есть с аппетитом только из красивой посуды».
Даже для себя, для троих, всегда приходилось накрывать стол по-парадному, как будто бы каждый день у них рождество, и, когда Оскара не стало, она не могла больше смотреть на этот сервиз, украшенный розами. Теперь они садились к столу вдвоем, она и молчаливая белокурая девочка, а Оскара не было, не слышно было его смеха, и не было темных кудрей, проворных рук и отменного аппетита, не было человека, который в минуту уплетал с парадных тарелок все, что ни положат, и, подобрав вчистую, рисовал в воздухе контуры розового лепестка и восклицал: «Изумительно!»
Когда она выдавала Эдит замуж, то дала за ней и этот сервиз; пусть забирает с глаз долой, пусть бьет, как придется, чтобы ни одной тарелки от него не осталось, лишь бы не видеть его больше. Боже мой, как давно это было! А сейчас напротив нее стоит знакомая суповая миска, а в буфетном стекле она видит собственное отражение: изможденное старческое лицо… Эдит, с ее плоским беленьким лбом… Ни единой черточки не унаследовала она от своего отца. Да и внучка эта – белокурая, туповатая, – правнучка, худющая, длинноногая… Оскар! Разве удивительно, что она искала сходства с ним в других людях, если собственное семейство пошло в другую породу! Пусть бросит камень… Чего ей было искать здесь, среди чужих ей людей? Священник взирает на нее как на библейскую блудницу. Очень нужен он ей был, этот Кальман, после Оскара, просто не в силах она была годами сносить одиночество. Кальман был, как и Оскар, тоже брюнет и голосом чуть напоминал Оскара. Янош тоже чем-то походил на него, а у Фюгеди в очертаниях рук проглядывало некоторое сходство с Оскаром. Почему, ну почему вместо Эдит не родился мальчик! И почему она совсем не похожа была на своего отца? Иначе она, Дечи, и не взглянула бы ни на кого другого.
Всем стало очень неловко, когда Дечи вдруг расплакалась за столом. «Что с вами, Бабушка, о чем вы плачете, милая?» – Приемыш наклонился к ней совсем близко. Дечи чувствовала, что он ей глубоко антипатичен. «Господь дал, Господь взял», – бесстрастно констатировал священник.
Эти глупые люди полагают, будто она оплакивает Эдит. Старуха вытащила носовой платок, страх, что она размазала тушь и румяна по лицу, подавил слезы. Она перевела взгляд. Ее передернуло от одного вида плавающего в густом, растопленном жире пережаренного лука и от самого блюда с тушеной картошкой. Да они уморят ее голодом! Дечи давилась картошкой, когда вернулся Ласло Кун.
Янка совсем не была уверена, что он поздоровался, как приличествовало, во всяком случае, буркнул нечто неразборчивое. Одежда его пропылилась насквозь, а ботинки выглядели так, будто он откуда-то издалека шел пешком. Сусу торопливо, через силу глотала тушеную картошку, не решаясь взглянуть на отца. Интересно, не забыл ли Папа принести ей винограда с Кунхалома? Он, наверное, даст ей потом, после похорон, когда они останутся наедине, чтобы Дедушка не видел, и они тайком съедят виноград: Папа, Мамуся и она. Дедушка не велит рвать, до сбора урожая он запрещает даже пробовать, а Папа говорит, на то и фрукты, чтобы семья их ела. Куда же он мог положить виноград, портфеля у него с собой не было… Виноград надо есть, говорит Папа, в нем витамин, глюкоза. А витамины очень полезны для здоровья, вот ведь даже в траурный день Папа отправился за виноградом и в этакую даль. Мамуся, конечно, и не заметила, что исчез ключ от сада, а Сусу не стала ей говорить: Мамуся боится Дедушку так сильно, что сразу же признается во всем, если Дедушка ее спросит. Лучше уж пусть думают, будто Папа задержался в Совете, лишь бы не догадались про виноградник.
Ласло Кун даже рук не ополоснул, так и уселся за стол. Священник ни о чем его не спросил, сделал вид, будто и не замечает его, но внутренне он весь напрягся: забудет или не забудет этот нечестивый прочесть молитву?
Ласло Кун не забыл. С лицом, залитым бледностью, с каким-то совершенно необычным для него выражением томности, он тотчас опустил ложку, которую взял было машинально, и, сложив руки, произнес ту же самую молитву, что минутами раньше читала его дочь; слова он произносил заученно, по въевшейся в кровь привычке, которая направляет поступки, даже когда мысли заняты другим. Ласло Кун проглотил три ложки остывшего супа и отодвинул тарелку. Никто не уговаривал его поесть. Янка положила ему тушеной картошки, он поковырял вилкой жаркое и потянулся к питью, выпил два стакана воды. «Заболел, наверное», – подумал священник. Бледность его бросалась в глаза, таким Ласло Куна никогда не видели. Священник тотчас придумал для зятя самые страшные болезни, губительные скоротечные хвори. Господь карает его, священника, недругов. Внезапно старика охватило беспокойство, хотелось сию же минуту вскочить из-за стола: он запамятовал, как в точности гласит церковный устав – можно ли восстановить в сане священника, отошедшего от дел? Если Ласло Кун умрет, сможет ли он вновь стать священником в Тарбе?
Янка также не спускала глаз с мужа. Обычно Ласло Кун сразу замечал, что на него смотрят, сейчас же, когда взгляды всех присутствующих были обращены на него, он не поднимал головы; впрочем, и все остальные чувства в нем как бы притупились, он сознавал только, что у него нет аппетита, что он устал, его клонит ко сну, и больше всего ему хотелось бы сейчас лечь и забыться. Недавняя ненависть, к которой примешивалось озлобление, тоска и желание – все те страсти, что терзали его на Кунхаломе, теперь утихли и ушли куда-то, заглушенные лекарством. Сейчас он способен был совершенно спокойно думать о том, что через час увидит Аннушку. Он вскинул глаза, нет ли на столе еще какой еды, и хоть чем-нибудь бы промочить пересохшее горло, хорошо бы выпить стакан воды с лимоном или, по крайней мере, съесть чего-нибудь из фруктов, но на столе ничего такого не было. Янка не решалась покупать фрукты из-за отца. У Ласло Куна даже засосало под ложечкой – так хотелось чего-нибудь освежающего, хотелось положить в рот хоть одну виноградину. Он снова поднял глаза, перехватил взгляд Жужанны. Голубые глаза дочери улыбались ему. Он тоже ответил ей улыбкой, но вымученной, безо всякой радости.
После обеда со стола убирала Кати, все остальные были заняты тем, что приводили в порядок свою одежду. Дечи причесывалась перед неудобно поставленным зеркалом, Янка и Жужанна ушли в спальню вместе с Ласло Куном; Сусу, елозя на коленях по ковру, суконкой начищала отцовские ботинки, а Янка щеткой оттирала ему черный костюм, сзади и на локтях. Священник переодевался в канцелярии, Приемыш, хоть сейчас готовый отправиться, зевал со скуки, сидя на скамейке во дворе. Сусу подняла взгляд на отца и спросила, куда он девал виноград из сада.
Щетка в руках у Янки на мгновение застыла, но потом заходила еще стремительнее. Эта белая полоса на пиджаке осталась от побелки с садовой калитки, – сообразила Янка. – Ну и дура она, что не догадалась сразу! Покончив с пиджаком, она повернулась спиной к мужу, надела траурную шляпу и опустила вуаль на лицо. Глаз ее не было видно за черной вуалью, и сама она теперь казалась какой-то чужой, таинственной, совсем не такой, как в действительности. Все понятно: он ждал Аннушку на винограднике, но Аннушка не пришла, потому-то за обедом он не мог проглотить ни куска. Все ясно как день.
Жужанна почувствовала, что натворила беды, беспомощно стояла она между отцом и матерью. Янка сновала взад-вперед по комнате, принесла шляпу мужа, а Жужанне нацепила на голову ту самую широкополую соломенную шляпу, в которой Приемыш когда-то впервые появился в их доме. Все трое надели перчатки. Жужанна протянула матери руку и вышагивала подле Янки с каким-то необъяснимым страхом. Мамуся! Лицо отца окаменело, застыло, было почти скучающим. «Меня ничто не трогает, мне все безразлично, – читалось на его лице. – Так и знайте: ваше мнение меня ничуть не интересует». Теперь и Сусу догадалась, зачем отец ходил на виноградник, и интуитивно почувствовала, что вот сейчас и она, и ее родители находятся в центре каких-то значительных событий, которые начались давно и теперь получат свое завершение. Мамуся стиснула ее руку так сильно, что пальцам стало больно. Пугала и эта темная вуаль, скрывшая от нее лицо матери; от вуали исходил противный кисловатый запах. Тетушка Кати сразу же ударилась в слезы, едва завидела их; у тетушки Кати не было вуали, голова ее была покрыта простым темным платком, а руки выпирали из черных перчаток; она неуверенно ковыляла в тесных лакированных туфлях. Янка держалась очень прямо, она сама взяла под руку мужа. У ворот снова начались было препирательства, кому с кем ехать. Папа не желал садиться в машину без Приемыша, и тогда Ласло Кун разрешил споры: пусть-де тесть едет первым вместе с обоими своими чадами, а он, Ласло Кун, Дечи, Кати и Жужанна приедут потом, вторым рейсом. Жужанна оцепенела от ужаса. Увидеть покойницу, и рядом не будет Мамуси! Она дернула мать за руку.
– Сусу поедет со мной! – спокойно заявила Янка.
Все уставились на нее. У священника дух перехватило от негодования. Ни на кого не обращая внимания, Янка первой вышла за ворота, она же раньше всех уселась в машину, ни на минуту не отпуская от себя Жужанну. Священник сел с краю, девочка жалась посередине, Приемышу досталось место впереди, рядом с шофером. Наконец-то они тронулись в путь. Священник молчал. Дорогой он поймал себя на нелепейшей мысли: он словно боится Янки. С отвращением вертелся он на сидении; вот ведь дожили: приходится ездить в машине, принадлежащей Совету, и даже замечания отпустить нельзя, так как сам он не сумел найти какого-либо иного выхода. Ехать в такси на похороны или даже на свадьбу – то неугодное Богу дело, вопиющее роскошество и чванство в равной мере. А пролеток в городе почти не осталось, одна при больнице да одна у вокзала, а впрочем, раскатывать в пролетке – тоже претенциозно и нескромно. В прежние времена, на заре века, каждый мало-мальски приличный человек, даже из крестьян, что позажиточнее, держал собственный выезд, и в случае надобности за священником посылали экипаж, а до войны у церковной общины был наемный экипаж, и им пользовались, если уж почему-либо необходимо было именно выехать в церковь или на кладбище. И вот теперь он вынужден пользоваться машиной нечестивцев этих, да еще, к превеликому посрамлению, над карбюратором развевался красный флажок. С этим тоже приходится мириться – доколе не настал час расплаты, – принимать как кару Господню, ниспосланную ему в виде милости Всевышнего. Машина, красный флажок, поздний приход Ласло Куна настолько отвлекли его внимание, что они уже подъехали к кладбищу, когда он вспомнил об Эдит.
Янка за всю дорогу не проронила ни слова. Сусу, которой всегда доставляло необыкновенное удовольствие кататься на автомобиле, на сей раз от испуга и огорчения даже не смотрела по сторонам, она не сводила глаз с матери, ластилась к ней, прижималась лбом к ее плечу. В другое время Янка тотчас наградила бы дочь ответной лаской, однако сейчас она казалась безучастной. Янка, правда, держала ее за руку, но делала это безотчетно и неосознанно, сама же она из-под вуали неотрывно и пристально уставилась на дорогу прямо перед собой. Даже Приемыш сидел молча, нахохлившись, он прикрыл глаза и о чем-то задумался. Он никому ни словом не обмолвился об Аннушке, то-то вытянутся у всех физиономии, когда увидят ее на кладбище. А, черт бы побрал эту Аннушку, как будто нет у него на сегодня дел поважнее! В пять часов партийное собрание, а пока что, до четырех, он волен тянуть псалмы.
Автомобиль подкатил ко входу на кладбище и, как только они вышли, повернул обратно, за остальными. От ворот до часовни было минут десять хода, священник вытянулся, точно кол проглотил, и уставился вдаль, – лишь бы не видеть раскрашенной статуи Иисуса, которая стояла в обвитой плющом нише как печальная память о той поре, когда открывали кладбище; кладбище было общее с иноверцами, и потому городские власти дали разрешение католикам установить эту статую, на святом месте поставить этого идола размалеванного.
Священник опирался на руку Янки не потому, что нуждался в поддержке или жаждал этой дочерней близости, но таков был обычай; и Приемыш, тоже не дожидаясь чьих-либо указаний, взял за руку Жужанну. Янка поправила на девочке шляпу, когда Сусу и Приемыш прошли вперед. Священник искоса поглядывал на дочь, плачет ли она, но Янка не плакала. Дочь была совершенно неузнаваема, точно бы и вовсе чужая. Откуда набралась она дерзости, чтобы ослушаться воли отца и взять с собой Жужанну, как посмела она произнести вслух ласкательное имя, упоминать которое он запретил еще несколько лет назад? Это смерть матери так изменила ее – попытался он найти объяснение и на том почти успокоился: сколько слез перевидал он на своем веку и каких только богохульных речей не наслушался за долгие лета, как читал отходную над усопшими, и, хотя смерть есть благостное соединение с Господом, в их же случае – особая милость Господня, от Янки не приходится ждать трезвого образа мыслей, как подобает христианке, исповедующей реформатскую веру. «Волнение и скорбь породили в ней и обеспокоенность, и несдержанность эту», – подумал он, но тут же с чувством какой-то растерянности вдруг осознал, что Янку не назовешь сейчас ни обеспокоенной, ни несдержанною. Священник опять покосился на дочь. На этот раз и Янка тоже ответила ему взглядом. Лицо ее, угадываемое под вуалью, приобрело неведомую дотоле значительность и казалось почти красивым.
– Папа, – начала она ровным, спокойным голосом, но негромко, – помните, вы искали тогда траурное извещение, вам не хватало, чтобы послать в Шарад дяде Даниэлю. Это я взяла извещение, потому вы и недосчитались. Я послала его Анжу.
Должно быть, сам Господь удержал десницу его, иначе священник прибил бы Янку! Он выдернул руку из ее руки, не в силах более выносить ее прикосновение. Янка – что было видно даже под вуалью – улыбнулась. Она окликнула дочку и притянула ее к себе, а священник вцепился в Приемыша: от ярости у него все плыло перед глазами.
Достойная супруга богоотступника! Тот призвал Аннушку, дабы смиренно открыть перед Господом сердце свое, а Янка пригласила Анжу – втайне, исподтишка, самым предательским способом. Во что они желают превратить похороны?! Янка поставила на стол лишний прибор, не испросив у него соизволения, – похоже, от одной только мыслимой возможности, что Аннушка появится, нарушен благочестивый порядок в доме, все полетело кувырком, все пошло прахом, и голуби превратились в аспидов. Ужели воистину нет подле него никого из близких духом, никого, помимо этого юноши, его же ниспослал ему Всевышний, дабы не был он в старости своей сир и одинок в юдоли сей? Верного и послушного сына, кроткого и благонравного, единственного богобоязненного среди прочих всех, грешников и нечестивцев. Янка с дочерью шла впереди него – медленно, спокойно, как человек, совесть которого чиста.
Что сокрыто в душах людских? Лишь единожды, за всю жизнь нарушила она отцовское повеление, когда пыталась писать той, другой, ступившей на стезю распутства. Тогда ему казалось, что он навеки выколотил из дочери дурные помыслы. «Это все Ласло Кун, это его влияние, – с неприязнью подумал он. – Антихрист в образе человеческом, с коим она в сожительстве». Не женись он, священник, не поддайся плотскому соблазну, и посейчас радостью его были бы лишь священные книги и служение Господу, его устами возвещалось бы слово Господне, а в награду ему был бы дан сан епископа, а то и кафедра теологии. Шобар остался в безбрачии, и, Господи, как он прав. Ужели обе его единокровные дочери от рождения порочны? До сей поры он прозревал дурные наклонности только в Аннушке. Священник глубоко вздохнул и замедлил шаг; они подошли к ступеням, ведущим к катафалку; еще несколько шагов, и он узрит гроб с прахом Эдит.
«Смири сердце свое! – приказал он себе, но в душе его не было смирения: гнев, стыд, возмущение и ненависть обуревали его. – Воспрети себе помыслы о Янке! – попытался он внушить себе. – Я думаю лишь об усопшей, об Эдит!» – Но нет, не мог он думать ни о чем другом, кроме постыдного проступка дочери: что Янка стащила траурное извещение. Какой-то человек поздоровался с ним, он машинально ответил на приветствие. Янка задержалась в дверях часовни, пропуская отца вперед. Священник вошел первым, за ним Приемыш, после них – Янка; она обняла Сусу за плечи и крепко-накрепко прижала к себе дочь, потому что Сусу дрожала от страха.
Ласло Кун ждал машину возле ворот, обеих старух он оставил в саду. Дечи выглядела непривлекательнее, чем обычно, вуаль придавала ее лицу выражение какой-то особой вульгарности. Надо бы сказать ей, чтобы стерла краску, но такие вещи в глаза людям говорит обычно разве что его тесть; как правило, говорить об этом не принято. А все же приятная сегодня погода, сентябрь стоит великолепный, хорошо бы сейчас вот сесть в машину и ехать сотни и сотни километров – он отлично мог бы поспать в машине. Остановиться бы в какой-либо удобной, приветливой гостинице, послушать музыку. Он очень любит музыку. Никакого волнения он не испытывал, – вытащил пилочку для ногтей, привел в порядок руки. Стольким людям предстоит сегодня протягивать руку! Машине пора бы уже обернуться, дело кончится тем, что они опоздают; истинная кара Господня этот провинциальный городишко с его извечными сплетнями, мелочной суетой. Бедняжка Жужанна, как она, должно быть, напугана сейчас всем происходящим. И он тоже хорош: если уж побывал в саду, мог прихватить фруктов для дочери. Янка… Как она взглянула на него и поспешно опустила вуаль… Что она могла написать Аннушке в том письме, которое перехватил старик?