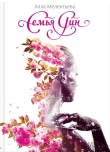Текст книги "Избранное"
Автор книги: Магда Сабо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
Дети все были в белом; белой была даже обувь. Тетя Илу и Эльза сидели среди них, нахохлившись, похожие на двух старых ворон. Ты не стал садиться, твое место возле тети Илу так и осталось пустым; ты курил в коридоре и вошел, лишь когда подошла моя очередь выступать; я исполняла киргизский медвежий танец – ты сел в угол и оттуда смотрел на меня. Дети визжали; один взобрался на сцену, вручил мне цветы и какие-то конфеты, Ангела плакала от счастья. На заднике сцены, над моей головой, висел еще один портрет Эмиля – портрет, увеличенный с фотографии, походил и на Эмиля и на Ангелу, а в то же время не походил ни на одного из них. Эмиль никогда не выглядел таким мужественным, как здесь, и никогда так безмятежно не улыбался.
Дальше я уже играла не для детей, а только для тебя. Я знала, ты пытаешься сейчас угадать, каковы будут последствия этого утренника: сбегу ли я куда-нибудь в провинцию или просто не пущу тебя к себе. Сейчас это было бы для тебя в высшей степени некстати, ты был завален работой: готовился к конференции в Национальном театре и одновременно переводил для другого театра, имени Йожефа Катоны, «Испанскую трагедию». К этому времени ты уже точно знал: если я встречаюсь с Ангелой, это обязательно кончится плохо. Позже я поняла твой ход мысли: ты считал, что из равновесия меня выводит жалость к Ангеле, к моей совести взывает якобы наше с ней общее детство, память о нашем городе и обо всем, что было. Ты не спускал с меня глаз, пока я прыгала на сцене.
Мы полдничали в приюте, выпив по кружке какао; потом приехала кинохроника. Ангела пряталась за спинами, выталкивая на передний план сирот; это была моя лучшая съемка в хронике: на коленях у меня сидит малыш, рукой я обнимаю его, как добрая мать, другой даю откусить калача. На улице падал снег; дворники едва успевали расчищать тротуары – снег тут же ложился на землю толстым слоем, приятно поскрипывая под ногами. Ангела не пошла с нами, тетя Илу и Эльза тоже остались в приюте; в этот вечер я последний раз видела Ангелу счастливой и цветущей. С порога я оглянулась: она стояла, окруженная детьми, цепляющимися ей за руки, за юбку, – робкая Ангела выглядела сейчас взрослой и уверенной, а комната с крохотными столиками и большими кубиками казалась по-домашнему уютной.
Мы шли пешком, Пипи был в превосходном настроении, бегал, катался по обледеневшему тротуару; ты взял меня под руку, чтобы я не упала; я вырвалась и потом не разговаривала с тобой. То, что ты вздумал меня поддерживать, как-то особенно меня рассердило: я не Ангела, я привыкла сама ходить по скользким дорогам; однажды на Дамбе поздно вечером я спешила домой, споткнулась о камень, засыпанный снегом, и в кровь расшибла коленку, но никому не жаловалась – достаточно того, что пролила чуть не все молоко. Окна приюта сияли электричеством, освещенный подъезд был украшен серпантином и белыми бумажными розами; на голубом лампионе выделялась четкая надпись: «Детский дом им. Эмиля Граффа». Пипи собрался было распрощаться и уйти домой, но я его не отпустила, потащила к себе ужинать. Тебя мы бросили на автобусной остановке. Но мне расхотелось везти Пипи к себе; проехав немного, я сошла, ничего не сказав Пипи, вернулась в театр и села в актерскую ложу; оборот бумажного листка с приглашением на утренник в приюте я сплошь исписала твоим именем. Шло первое действие. В антракте Хелла прислала сказать мне, чтобы я передала ей свои заметки; она сама чувствует, что в первых сценах не все ладно, постарается исправить.
Идя домой, я ожидала, что Юли скажет: ты звонил, разыскивал меня; но Юли молча подала мне студень на ужин. Мяса мне не хотелось, я съела только желе. За окном все сыпал и сыпал снег. Юли каждый час выходила расчищать ступеньки. Деревянную мисочку, которую дала мне для выступления Ангела, я сунула в печь: там еще горел огонь. Я позвонила Пипи – его не оказалось дома. Зазвонил телефон, я схватила трубку – это был Ваня, он выражал мне свою горячую признательность.
Садовник собрал инструменты и ушел. Теперь я разглядела: он сажал космею. Хелла вчера тоже принесла букет космеи: обнесла его кругом, чтобы все видели, и лишь после этого положила к другим цветам. Юли могла бы тебе рассказать, что я не выбросила твои цветы; Юли знала, они в картонке, у меня в шкафу.
Матушкин подвенечный букет тоже лежал в круглой картонной коробке, на которой блестело золотом название какой-то шляпной фирмы. В детстве я однажды взяла ее поиграть; сверху на ней был ремень, я осторожно вынула ссохшиеся, коричневые цветы, наполнила коробку черешней, вышла с ней в сад и стала ходить взад-вперед и петь. Отец говорил: «Весна идет, цветы несет!»; все, что я слышала, я тут же представляла себе – и образ и действие сразу. Так я представляла, например, и март, шагающий с мешком за плечами, в мешке – ветки плодовых деревьев в цвету. Тогда как раз стоял конец июня, я набрала карминно-красной черешни, нашла дома старую соломенную шляпу, отрезав поля, надела ее на голову, насыпала черешни в коробку – и принялась ходить по саду и петь, твердо веря, что я лето. В тот послеобеденный час вонь от амбрушевых свиней смешивалась с запахом фиалок; странная эта смесь – удушливый аромат фиалок и острый запах хлева – не была неприятна, тоже как-то связанная с летом. Я ходила по саду босиком; земля, недавно политая мною, была теплой и мягкой.
Букет твой так и лежит в той самой целлофановой коробке, в которой ты его принес; начиная большую уборку, Юли всегда переносит его куда-нибудь в дальний угол, повыше, чтобы не задеть ненароком и не стряхнуть лепестки. Тогда снова шел густой снег, на дороге в двух шагах ничего не было видно, ты оставил где-то перчатки, руки твои покраснели от ветра. Я лишь смотрела на тебя, недоверчиво и враждебно: но к чему вдруг эта красивая коробка, ты никогда не приносил мне ничего подобного; покупая на улице букетик, ты засовывал его в карман и потом забывал мне отдать – а когда обнаруживал, букет можно было выбрасывать на помойку. Сняв пальто, ты сел и стал насвистывать, потом попросил чаю, начал ходить по комнате; я настороженно присматривалась к тебе. Накануне мы расстались, не сказав друг другу ни слова; Пипи катался по ледяным дорожкам, я молчала; слепила снежок, швырнула в него; на тебя я ни разу не взглянула. Явившись ко мне, ты принес сиротский дом и Ангелу; ты еще не успел ничего сказать, а во мне уже закипало что-то; я знала: что бы ты ни сказал сейчас, дело кончится плохо, и лишь ждала, когда ты кончишь рассуждать об «Испанской трагедии» и начнешь говорить о нас. Взрыв приближался неотвратимо: вчера я слишком долго прыгала перед тобой, ела лапой мед, как медведь, и вообще была сладкой, как мед. Теперь попробуй только подступиться ко мне: я жду этого со вчерашнего дня. Я смотрела на цветы – розы на длинных стеблях, и считала про себя, во сколько они обошлись тебе, в феврале цветы продают по бешеным ценам. Юли принесла чай, поглядела на цветы, поглядела очень внимательно, потом поставила поднос, подошла к тебе и положила руку тебе на плечо. Я лишь смотрела на вас обоих: с ума она что ли, сошла, эта Юли? «Не надо!» – сказала она; ты рассмеялся и покачал головой, Юли же вдруг расплакалась и убежала из комнаты. «Она не одобряет этого, – сказал ты. – Слышишь, Эстер? Не одобряет». И попробовал обнять меня, но я вырвалась из твоих рук. Меня охватила злость: я ни слова не понимала из того, что здесь происходило.
У меня даже руки дрожали, и я расплескала чай, наливая его в чашки. Я ждала, когда ты снова начнешь объяснять, что не надо мучить себя, не надо думать, будто я отнимаю тебя у Ангелы; она получает все, в чем нуждается: ей нужно лишь, чтобы кто-то заботился о ней; Ангела – не женщина, не жена, Ангела – ребенок, ну и еще, как она считает, член партии; для нее существуют лишь две эти формы существования. Я терпеливо ждала, когда ты скажешь что-нибудь, от чего мне станет еще горше, от чего я не выдержу и взорвусь. Ты с аппетитом ел ломтики хлеба, которые на скорую руку поджарила тебе Юли; я смотрела, какой ты голодный, какой веселый, словно мы расстались вчера в самых лучших отношениях, – и вдруг тоже почувствовала голод, взяла твой хлеб, с аппетитом стала запивать чаем. На подоконнике лежали медвежьи лапы и голова, я собиралась вечером отнести их в театр, – теперь я смотрела на них и уже не чувствовала злости. Я поставила чашку, села на пол возле тебя, положила голову тебе на колени. Волосы мои заплетены были, как всегда, в косички, ты сидел и осторожно расплетал их. За окном летел и летел снег, вихрясь под порывами ветра; мы словно мчались на карусели сквозь снегопад. Дунай давно исчез в белой мгле; зимой здесь, на горе, у меня часто бывало ощущение, будто я одна на свете, будто внизу нет ни города, ни другого человеческого поселения – кругом только горы, да небо, да стихии: ветер и снег.
Потом я взяла твои цветы и поставила в воду, они даже начали благоухать – а я смотрела на тебя и опять была в недоумении: ты явно веселился над чем-то, я чувствовала, что тебя забавляют цветы, твои собственные цветы, словно ты сам не мог воспринять всерьез эту целлофановую коробку с розами и теперь тебе смешно, что я ставлю их в вазу, да еще нюхаю. В этом чудилась какая-то условность, игра – я не понимала только, во что ты играешь; но в игру эту входило и подношение цветов. Юли – та понимала ту игру; вы оба с ней понимали – и ни один из вас не хотел ничего мне объяснить.
На рождество я всегда почти получала цветы – какой-нибудь экзотический цветок, который отец выращивал втайне и вручал мне в горшочке лишь в праздник. Цветок был в крапинку или в форме рыбы; он был таким необычным, что я едва осмеливалась его поливать. Пока матушка наряжала елку, мы выселялись на кухню. Сидя там, мы пели дуэтом рождественские гимны или арии из старых оперетт; в комнате матушка шелестела бумагой и позвякивала игрушками, которые были гораздо старше меня. Мы пекли картошку на ужин; за окошком, кружась под ветром, падал снег. «Иисус-младенец спит, Дух Святой над ним парит», – затянула я, а когда ты расхохотался, оборвала пение и стояла сконфуженно, стыдясь самой себя; ты все смеялся – потом вдруг смолк, будто догадавшись, из каких глубин всплыла эта песня и что я думаю сейчас о том, как нравились мне когда-то зимние цветы, выращенные отцом; они мне были как маленькие братья, кровь от крови отца и матушки. Мне всегда хотелось иметь брата или сестру, чтобы разделить с кем-нибудь лежащие на мне заботы.
«Не хочешь отвечать?» – спросил ты, а я все смотрела на тебя; ты подошел к окну – за стеклом плотной пеленой шел и шел снег. На что я должна была отвечать? Ведь ты ничего не спрашивал. Ты взял с подоконника медвежьи лапы, попробовал надеть их себе на руки, но они были тебе слишком малы, тогда ты надел медвежью маску на голову. Будь у меня настроение получше, я бы смеялась до колик в животе; сейчас мне было не до смеха. Я опять заплела себе волосы; рядом с тобой стояли цветы. Разве ты что-то спросил у меня? На что мне нужно ответить? Комната напоминала сцену. Снег за окном тоже был как декорация – а особенно букет, эти огненно-красные, слишком яркие цветы. Ваня заказывал бутафорам такие букеты, когда в пьесе шла речь о какой-нибудь торжественной годовщине.
«Отвечай же!» – сказал ты еще раз и наконец повернулся ко мне лицом. Потом ты часто говорил, что никогда у меня не было такого бесстрастного, каменного лица, как в ту минуту; все на нем: пара больших глаз, рот, нос, белая кожа, косички по сторонам – было как будто лишь намечено, не образуя вместе единого целого. Я умею плакать, когда нужно, краснеть, даже вспыхивать, как включенная лампа, – лицо мое способно выполнять все, что я захочу; в тот момент я не хотела ничего. На макушке у тебя все еще была медвежья маска. Ты смотрел на меня, я на тебя; мы молчали. Тогда я уже поняла: ты у меня спросил, уже во второй раз, пойду ли я за тебя замуж.
18
Вчера были и представители от союза художников; они говорили о камне, который нужно поставить, и гадали, кому попадет заказ. Пипи даже обернулся и посмотрел на них строго: он опасался, что меня раздражает их болтовня; но я лишь помотала головой – пусть себе. О чем им еще говорить, как не о работе? С ними был и Рамочаи, чью керамику мы с тобой так внимательно рассматривали на вернисаже. «Что это мы в одиночестве?» – спросил он, увидев тебя у витрины со своими работами. Со мной он не был знаком, и я даже отступила назад, чтобы нас не нужно было представлять друг другу. Был там, в витрине, один кувшин – я с таким увлечением разглядывала его, пока ты беседовал с этим Рамочаи, что и сейчас помню на нем каждую линию. Я разглядывала кувшин и повторяла про себя: «В одиночестве? В одиночестве?»; наверное, у меня шевелились уши – до того я старалась услышать, что ты ответишь Рамочаи. Ты говорил совсем тихо, гораздо тише, чем обычно, чтобы не коснуться своим ответом больного места в моей душе: вдруг я еще помню, как ты рассказывал, сколько вы с Ангелой ходили по выставкам в первые годы после женитьбы.
Между витринами был узкий проход, я вышла из Музея через боковую дверь – и тот вечер провела совсем не у Пипи. Пипи не открыл тебе не потому, что был якобы со мной: у него была Марица, и он считал, что о Марице даже мы еще ничего не знаем. Несколько секунд я ждала, что ты повернешься, отыщешь меня и, коль скоро тебя спросили, скажешь, что ты не один, что ты со мной, – ждала, что Рамочаи, который в свое время лепил с Ангелы танагру [54] , растеряется и будет бормотать что-нибудь, чтоб загладить свой промах. «Она неважно себя чувствует, – ответил ты скульптору, – и вообще редко выходит: очень уж много забот с приютом».
Я была не у Пипи – но хотела, чтобы ты думал, будто я у него. Я была в гостях у Вани. Он открыл мне дверь – и даже рот разинул, увидев меня. Из кухни выглянула его мать, лицо ее, раскрасневшееся у плиты, выражало досаду. Жена Вани пришла позже, но я дождалась ее – когда она позвонила в дверь, Ваня совсем занервничал. Я отвернулась, чтобы поправить волосы и дать ей возможность спрятать молитвенник. Звонили полдень; я думала, сколько бедняжке пришлось трястись на трамвае, чтобы где-нибудь в пригороде спокойно, не опасаясь встретить знакомых, замаливать Ванины грехи. Думала я и о тебе: интересно, что ты сейчас делаешь, – и в это время читала текст роли, читала очень скверно. «Принц, были ль вы здоровы это время?» Ваня стонал, царапал себе шею, пытался растолковать мне то, что я никак не могла уловить в тексте. Жена Вани, совсем молоденькая – наверное, не старше двадцати лет, – сложив руки на груди, смотрела на нас, ничего не понимая: с ума мы, что ли, сошли – среди бела дня, в воскресенье, принялись разучивать роль. «Дарили, принц, вы знаете прекрасно…» – «Ступай добром в монастырь! Где твой отец?» [55] – спрашивал Ваня. Текст сразу стал понятным: я подумала, что мой отец – в усыпальнице Мартонов и что я не могу уйти в монастырь, – монастыри закрыли, – и что чуть ли не каждый месяц в доме у меня ночует какая-нибудь монашка в мирском платье; Юли, наверное, думает, что я совсем дура и ничего не замечаю. Пахло пищей, мясным супом; я старалась говорить роль так, чтобы меня нужно было все время поправлять. В кухне старуха гремела посудой. Ваня уговорил меня остаться обедать, обед был очень вкусным – беда только, что у меня не было аппетита.
«Войти можно только жене», – сказал профессор. Я тогда снова вспомнила Рамочаи и остановилась на лестничной площадке: ненависть парализовала мне ноги, я не могла ступить ни шагу. Ангелу я узнала издали: за минуту перед моим такси она подъехала к больнице на машине Дюрицы; но в больницу ее едва впустили; так бессвязно она лепетала что-то в воротах – Ангела никогда не могла внятно сказать, что ей нужно, когда была испугана, – и притом так была навьючена, что привратник сразу загородил ей дорогу и заявил, что для посетителей специально отведены часы. Если б не Дюрица, ее бы так и не впустили, наверное. Ангела волокла авоську, в которой были цветы, банка с вареньем, еще какой-то сверток, в другой руке она держала клетку с Петером. Я стояла позади нее, с пустыми руками, в старом платье, которое успела накинуть на себя перед тем, как выскочить к такси, и смотрела, как в разговор вступает Дюрица и как смягчается, глядя на Ангелу, привратник. А ведь она заехала домой, думала я, все собрала, как надо; больному нужно принести варенье, пижаму, тапочки, зубную щетку и все такое, а Петера она поставит на подоконник и вообще наведет в палате уют: попросит ширму, за нее спрячет плевательницу. Дюрица меня уже заметил, Ангела – еще нет, глаза у нее были полны слез; я оттолкнула привратника, который попытался было задержать меня, и так взглянула на него, что он отступил и даже распахнул передо мной дверь. Я уже знала, что сумка моя осталась в такси и у меня с собой нет никаких документов.
К корпусу, где ты находился, вели две параллельные бетонные дорожки: по одной шли Ангела с Дюрицей, по другой – я; лишь у входа мы встретились. Ангела, узнав меня, попыталась улыбнуться; для нее было естественным, что я каким-либо образом присутствую при всех больших событиях, – ей, по всей видимости, не пришло в голову задуматься, откуда я здесь взялась и кто мне сообщил, что тебя сбила машина. По лицу ее было видно, что она уверена: ты ободрал локоть или в худшем случае сломал ногу; а у меня в голове звенели слова Пипи, который видел из окна коридора в театре, как ты упал, и видел «скорую помощь», и рыдал в трубку, когда наконец разыскал меня по телефону. Дюрица вызвал лифт: у Ангелы было слабое сердце. Я взбежала по лестнице; мы одновременно вошли в коридор. Ангела лишь теперь поняла, что случилось нечто ужасное, – когда остановилась в дверях и увидела Эльзу, мать и профессора. Мое истинное лицо куда страшнее, чем самые страшные маски, в которые меня гримируют.
Собственно говоря, я все знала уже в тот момент, когда позвонил Пипи, прежде чем он мне успел сказать что-либо связное: такие вещи человек способен почувствовать, да и Пипи не станет плакать по-настоящему, если без этого можно обойтись: у него очень сухая кожа, слезы ей вредят. Но в ту минуту, там, в коридоре, я поняла, что, даже зная все, я в это не верила до конца. Утром мы были у нас в саду, вымеряли место для бассейна; в полдень, когда ты уходил, я даже не посмотрела тебе вслед: мы договорились поужинать вместе, а до ужина у тебя дела, мы встретимся в «Лебеде», после того как ты отведешь Ангелу к зубному врачу. Только Юли махала тебе с порога – она всегда провожала тебя взглядом, пока ты был виден, – и, убрав со стола, запела что-то, какую-то допотопную песню про непорочную деву. Я смеялась, допивая из твоей чашки остатки кофе, и думала, что Юли влюблена в тебя, – вот смех-то! Интересно, сама она об этом знает?
Я сама поверила этому до конца, лишь увидев профессора и на скамейке обнявшихся тетю Илу и Эльзу; они сидели возле ящика с грязным бельем, будто живая картина; над одной из дверей в коридоре горела красная лампа, как в онкологической клинике, когда включают облучение; на двери висела табличка: «Не входить». Я знала Вельтнера по кинохронике: он получил премию Кошута на следующий год после меня; знала я и то, что он меня не знает; пожалуй, ему даже имя мое незнакомо: театр и кино он терпеть не может, ходит только на концерты. Не помню, что я чувствовала. Наверное, ничего. Я приняла к сведению случившееся; я осознала его. Чувствовать что-либо у меня не было сил – до той самой минуты, когда Вельтнер сказал, что войти может только жена, и тетя Илу с Эльзой взвыли и принялись умолять, чтобы и им разрешили войти – Вельтнер же стоял, загораживая дорогу, не слушая их. Ангела поставила клетку на ящик для грязного белья.
«Что это мы в одиночестве?» – спросил Рамочаи. Я тогда отступила назад; ты оглянулся на мгновение, надеясь, что, может быть, я не слышала этих слов. Ты отвечал Рамочаи, а я разглядывала кувшин: на нем топорщила перья какая-то синяя птица. Рот у Вельтнера напоминал клюв. И тогда я снова почувствовала, что ненавижу тебя, что хочу твоей смерти, хочу, чтобы ты в самом деле умер, сгинул, сдох, мучаясь до последней минуты. Хочу, чтоб ты исчез бесследно, чтобы тебя поглотила земля, и если мы все же воскреснем, то я и тогда не хочу тебя видеть больше! Ангеле стало страшно, из глаз ее капали слезы. Вельтнер готов был ударить ее: чего она тут теряет время, а эти вороны гладят ее и успокаивают. Петер стукнул клювом по колокольчику; в авоське у Ангелы было персиковое варенье. Я все еще стояла в дверях, рядом с Дюрицей; руки мои только что ледяные, вдруг вспотели. «Только жена», – сказал Вельтнер. Что ж, пусть она идет, Ангела, которая воспитывает сорок восемь детей, милая Ангела, мать человечества, пусть идет, чтобы стать свидетельницей твоего последнего вздоха! По крайней мере, и Рамочаи успокоится, ты не будешь в одиночестве. Будь он проклят, и ты вместе с ним, пусть будет страшной твоя смерть, задыхайся, бейся в муках, колоти руками воздух от боли, как мой отец; я согласна: пусть будет тот свет – лишь бы ты горел в чистилище до скончания времен… но ведь ты не веришь в чистилище даже в своей вере – а уж в моей!…
Вельтнер и та живая картина в коридоре – все словно ждали чего-то; даже цветы, хилые аспарагусы, словно к чему-то прислушивались. Ждала и я, ждала, чтоб ты умер наконец и все кончилось. Только скажи, кто гнал тебя к портному, чтоб у тебя был хоть один нормальный пиджак, кто водил к врачу, когда ты болел, кто посылал тебя в магазин, когда у твоей рубашки манжеты обтрепывались до неприличия, с кем ты спал, кто выслушивал, как ты провел день, перед кем ты проклял однажды день, когда появился на свет, с кем обсуждал каждую свою написанную строчку?
«Это вас зовут Эстер?» – спросил Вельтнер Ангелу. Тогда я оттолкнула с пути и его и Ангелу и рванула дверь.
19
Невдалеке что-то блестит. Десять филлеров. Монетка втоптана была в землю, дождь вымыл ее на свет божий. Наверное, какой-нибудь мальчишка положил ее на трамвайный рельс: она расплющилась, знаков почти не видно. Дома, в детстве, ребята просверливали такие монеты и вешали на шнурке на шею; только я откладывала их и потом ими расплачивалась в хлебной лавке: дядя Чак плохо видел. Ангела никогда не умела обращаться с деньгами; Ангела до сих пор не понимает, в чем различие между пенге и форинтом.
Шел снег; я смотрела на крутящиеся снежинки, а не на тебя, стоящего с медвежьей маской на голове, и думала о том, что в детском доме вчера было слишком жарко. Теперь ты можешь уйти от Ангелы, сказал ты, вчерашний день был нужен, чтобы убедиться: что-то ей останется, какая-то иллюзия дома, когда ты уйдешь от нее. Эти сорок восемь сирот, детдом, эта работа, которую она так любит, – все это как-нибудь поможет ей перенести удар. Ведь Ангела одна не сможет жить, Ангела рассыплется, если о ней не заботиться, если никто не будет ее любить и лелеять. Я сняла с твоей головы медвежью маску, надела на себя; из-под нее болтались мои косички. Я села на ковер и снизу смотрела на тебя; за твоей спиной, в окне, кружился снег, а перед тобой сидела я, в брюках, с красной лентой в волосах и без лица – на тебя преданными и глупыми глазами смотрел медведь, и лишь в щелях его глаз виднелись мои глаза, но они ничего тебе не говорили; медведь смотрел точь-в-точь как любой другой зверь.
Ангела знает, что такое идеология, слышала я под маской твои слова, – но она не может самостоятельно заполнить бланк прописки, и ты каждый раз составляешь за нее квартальный план, потому что Ангела не умеет ни планировать, ни определять проценты, а когда подходит срок финансового отчета, то и отчет всегда: и прежде и сейчас – приходится писать тебе; видимо, придется писать и впредь, когда твоей женой давным-давно уже буду я. Ты смеялся и курил, голос у тебя был таким, словно ты говорил о милом и беспомощном ребенке. Я же кивала головой и урчала по-медвежьи, для большей убедительности надев еще и лапы; и в то время как, прижимая лапы к груди и кланяясь до земли, благодарила тебя за то, что ты попросил моей руки, – думала, что ведь я о том как раз и мечтаю, чтобы Ангела рассыпалась, превратилась в пыль, чтобы она научилась заполнять бланки, писать отчеты, таскать уголь, голодать, спасаться бегством, – делать все то, что может любой человек, и еще я хочу, чтобы Ангела сгинула и чтобы я даже не слышала о ней больше, будто ее никогда не было.
Ты говорил, что иногда будешь заходить к Ангеле, проверить, достала ли она дров – с нее вполне станется заказать топливо для приюта, а в собственной квартире остаться без кусочка угля, если ты об этом не позаботишься. Тут я сняла маску – ты увидел мое лицо и сам изменился в лице. «Нет, – сказала я и стала наводить порядок на столе. – Очень тронута, но – нет. Ты мне больше нравишься любовником».
Ты не пытался меня больше целовать и вскоре ушел. Ушел раньше, чем обычно; а я думала, что ты пошел подводить баланс приходов и расходов утренника в приюте и писать отчет вместо Ангелы; она за всю жизнь не могла составить ни одной официальной бумаги. Юли была в саду, подметала дорожку; я вышла к ней, повязала ее платок, взяла у нее веник и стала мести сама; со снегом я замела и твои следы. Шел снег, я пела. Юли стояла на лестнице, у входа в кухню, смотрела, как я мету и пою. По твоему лицу она, вероятно, догадалась, что я тебе ответила, и теперь лишь смотрела на меня некоторое время, а потом ушла на кухню: у нее не было сил на меня смотреть. Я думала о том, до чего ты, в сущности, безнравствен с твоим добрым сердцем, и о том, что в эти минуты, спускаясь с горы, ты про себя тоже называешь меня безнравственной.
На краю бетонного кольца лежат остатки пищи – неопрятная горстка картофеля. Дома, в детстве, такие остатки иногда подкидывали кому-нибудь в ворота, на порог. Считалось, что если человек их коснется, то немедленно нужно отслужить мессу, иначе у него отпадут ногти на руках; такой подарок был признаком того, что к дому подходил враг, – эти подброшенные на порог остатки так и назывались – «порча». Однажды и тетка Карасиха нашла такую кучку рядом со скобой, о которую счищали грязь с сапог; она плакала целый день, осмотрела по очереди своих свиней, потом, что ни час, бежала в хлев, удостовериться, что они еще живы; была зима, приближалось время забоя, и Карасиха очень тревожилась за свиней; Бела в это время тоже болел, но о Беле ей и в голову не пришло беспокоиться. Я соскребла за нее «порчу», сама она к ней боялась и подойти; да и я не посмела коснуться ее руками: соскребла старым веником на лопату и бросила в огонь. Когда Ангела опустила на пол свою авоську, из нее выглянула банка с персиковым вареньем; авоська стояла точно в середине коридора, и я чуть не вскрикнула: «порча». В коридоре пахло ванной, как когда-то в общежитии, и вообще все выглядело так, словно уже было однажды, я словно видела когда-то эту картину – только не всю, а по частям: безумному лицу тети Илу не хватало лишь мокрого полотенца, Эльза в тени, за ящиком для грязного белья, снова казалась молодой, возле Ангелы был попугай; мы с ней стояли рядом, будто сестры. Сзади сопел Дюрица, перед нами стоял профессор. На табличке написано было: «Не входить». Когда я вошла к тебе, открывшаяся дверь выключила красный свет, лампа погасла.
«С рассвета в Валентинов день я проберусь к дверям и у окна согласье дам быть Валентиной вам» [56] .
Возле тебя сидел врач, в палате пахло камфорой. Потом, когда я ушла от тебя, всюду – и в «Лебеде» и дома – меня преследовал запах камфоры. Раздеваясь в ванной, я случайно увидела себя в зеркале – и долго стояла, беспомощно глядя перед собой, думая о том, что ты любил меня.
И еще я думала, что, наверное, нужно было бы сказать тебе: оставь Ангелу, пускай живет себе, как хочет. И нужно было бы показать тебе город, где я родилась, Мощеную улицу и Дамбу, и рассказать, откуда я знаю тетю Илу и прочих; и что в детстве мне пришлось отрезать носки у туфель и ходить так по улице; и что мы были семьей «полоумного адвоката», и что Карой избил меня, авансом, на всякий случай – вдруг я его выдам, – а ведь он тогда, в комнате Амбруша, лишь высказал то, чем было переполнено мое сердце, но чего я сама никогда бы не сумела высказать. И о том, что за все, за все мне приходилось расплачиваться самой, своими руками, собой; и о том, как Ваня сказал: «Здесь не открытое собрание!» – и мне пришлось убежать, звякая пустыми баночками и пузырьками, – а ведь кто-то там, в комнате, говорил о будущем, о будущем для всех. И надо было бы рассказать тебе, как завкадрами только рукой махнул, прочтя мою автобиографию, – единственную правдивую автобиографию; Ангелу же никто никогда не попрекнул в том, что ее родители держали троих слуг и что руки у тети Илу до локтей были в браслетах. Даже премию Кошута получила не я, а мой талант и легенда – легенда о том, как дочь адвоката порвала со своим классом и стала служить народу. Да к какому же классу я еще относилась – если вообще относилась когда-либо к чему-нибудь или к кому-нибудь, кроме тебя, – в том жутком мире, в мире амбрушевых свиней, туфель тети Ирмы, неумолкающей игры на рояле, бесплатных ужинов в «Трех гусарах», в мире невероятных моих желаний и невероятной моей нищеты?
Если бы когда-нибудь кто-то, кто угодно, принял бы меня и вынес такой, какая я есть, вынес вместе с памятью о тете Ирме и о Дамбе… Если бы кто-то смог вынести правду… Нет, даже ты не принял, не вынес бы. Даже ты вынес бы – только с Ангелой. Не знаю. Никогда, никогда мне никто не помогал.
И потом я думала про дым: однажды вечером мы стояли в Крепости и смотрели вниз, в сторону Конной улицы, смотрели на горы, на город, и тогда из трубы какого-то дома выплыл, курчавясь, дым, и ты сказал, что даришь его мне. Дым уплывал, клубясь, я следила за ним глазами и думала, что никто, никогда не дарил мне дым; я смотрела, как он тает. «У меня нет дома, – сказал ты с упреком, – сколько ты еще собираешься ждать, Эстер?» А я стала декламировать «Гамлета»: «Истлевшим Цезарем от стужи заделывают дом снаружи. Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели» [57] , – и обняла тебя, прижалась к тебе, думая, что ведь и у меня нет дома, ничего, ничего у меня нет, только этот дым, – и плакала, целуя тебя.
Как трудно приходил рассвет с понедельника на вторник. Если бы я все это тебе рассказала – что изменилось бы? Было время, когда я мечтала убить Ангелу: пойти с ней к Дунаю и столкнуть где-нибудь – плавать она никогда не умела; или заманить на стройку, сказав, что здание будет названо в честь Эмиля и она должна его обязательно посмотреть – и как-нибудь сбросить вниз; тогда ее не было бы рядом, на свете, я бы не чувствовала постоянно, что ты тревожишься о ней, и все бы уладилось наконец, встало бы на свои места.