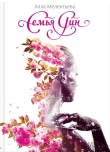Текст книги "Избранное"
Автор книги: Магда Сабо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
Он отвечал спокойно, спокойней, чем от него ожидали, ни директор, ни кадровик, ни остальные четыре члена комиссии даже не подозревали, с какой радостью он готов уволиться из этой больницы, которую его отец присмотрел для него, еще когда он был мальчиком-гимназистом и где после возвращения из плена ему так и не дали серьезной работы. Он отрицает обвинение, будто брал у больных деньги, однако привести доказательства, разумеется, не может, но ведь и Бланка не в состоянии доказать противное; Балинт догадывался, что для суда это очень слабый пункт, решение будет зависеть от того, чьим словам поверят больше. Бланка может подтвердить лишь то, что в течение тех пяти минут, пока он оформлял госпожу Карр, они с Балинтом были в канцелярии одни, из двух других сотрудниц одна уходила обедать, а вторая задержалась в туалете. На то время, пока комиссия обсуждала решение, их обоих попросили выйти из зала. И прежде чем Бланка успела прошмыгнуть в отделение мимо него, он ухватил ее за руку.
Он снова почувствовал, какая она сильная и неподатливая, но теперь уже легко справился с ней, привлек к себе. Бланка отбивалась, но высвободиться не смогла. Они не разговаривали с тех самых пор, как Балинт от них переехал, и теперь он надеялся наконец расспросить ее, но Бланка вдруг громко взвизгнула, на крик открылась дверь, и из-за двери выглянул кадровик; тут уж девушку пришлось выпустить. «Наверное, он решил, что я хотел ее задушить», – подумал Балинт и отпустил Бланку, пусть ее бежит, теперь он уже не видел на ней военных рейтуз, она была в дамском платье темно-синего цвета, узнала небось от Ирэн, что в подобных случаях следует одеваться в темное, для дисциплинарного дела это в самый раз. Попробуй тут хоть кому-нибудь объяснить, как дорога ему Бланка, даже теперь, когда она на него донесла, когда он уже знает все ее хитрости и дурные порывы. Никакой надежды! Кадровик, выглянувший на визг Бланки, смотрел на него как на преступника. Балинт знал, что если до настоящего момента в исходе дела еще можно было сомневаться, то теперь уже все ясно. Обвиняемый явно пытался избить бедную девушку или похотливыми объятиями склонял ее взять свои показания обратно.
Когда их пригласили в зал, ему было сообщено, что министерство в дисциплинарном порядке переводит его на другую работу, в деревню, где пока еще нет электричества, но оно предусмотрено в плане пятилетнего развития. Представитель министерства еще раз внимательно посмотрел на него; наверное, пытается понять, подумалось Балинту, что может нравиться в нем женщинам, такой он бледный, хилый и, в сущности, ничем не примечательный. В мотивирующей части, помимо конверта госпожи Карр, упоминалось и о его любовных похождениях, слушать это ему было неприятно, один из членов комиссии, женщина-врач, упорно смотрела в землю, ее Балинту было жалко больше всех. Ей пришлось выслушать длинный список, вроде того, что вел слуга Дон-Жуана, после чего она наконец поняла, что спать с нею ему было просто некогда, как бы она того ни хотела. Его предупреждали – хорошо бы почаще заниматься самокритикой, взять себя в руки, и пусть он радуется, – у него и впредь будет кусок хлеба, лишь бы он вел безупречную жизнь; а теперь он может идти. Направляясь к выходу, он испытал чувство неописуемого облегчения, узнав, что в деревне, куда его переводят, у него будет служебная квартира. У Элекешей он был женихом и квартирантом, от них попал в один из переулков Кольца, где жил в немыслимых условиях. «Собственная квартира и никаких людей, – восхищался про себя Балинт, удивляясь, что все еще способен чему-то радоваться. – Эх, Бланка, садовая голова. Идиотка несчастная!»
Он направился в приемное отделение собрать свои вещи. Позади него что-то стукнуло, послышались торопливые шаги. Это был один из членов комиссии, его коллега, с которым Балинт был знаком лишь поверхностно, только здоровался при встрече, – тот работал на другой территории. Звали его Тимар. Балинт остановился, не понимая, чего тот от него хочет, а тот явно чего-то хотел.
Тимар заявил, что не верит ни одному слову обвинения, да и, конечно, не он один, разве что те, кого приучили всему верить. Настоящая причина – его отец да та бесстыжая проституточка, которая донесла на него явно по злобе, потому что он и разговаривать с ней не хотел. Когда-нибудь он вернется еще в эту больницу, тогда пусть не забудет, что именно он, Тимар, рассказал ему обо всем. Тряхнув Балинту руку, Тимар исчез. Слова его лишь вскользь задели сознание Балинта, услышанное не столько заинтересовало, сколько разозлило его; вот если бы все эти слова Тимар произнес в зале, но там он, разумеется, промолчал. А наедине лезет с соболезнованиями. Стоит ли обращать внимание? И почему он обозвал проституткой Бланку, маленького солдатика с ружьем? Про любовные похождения как раз все правильно, хотя это ведь никак не мешает быть хорошим врачом. Все сплошная глупость, идиотизм.
Бланку он встретил уже в приемном отделении, она склонилась над машинкой, повернувшись спиной к двери. Две других сотрудницы при его появлении вместо приветствия встали. До сих пор они никогда не вставали ему навстречу. «Становлюсь мучеником», – подумал Балинт, улыбаясь, и начал разбирать содержимое ящиков стола, а Генриэтта, стоявшая за его спиной и смотревшая, как он укладывается, задумалась над тем, как глупо, что у него столько любовниц, и только ее одну он ни разу так и не поцеловал. И поразилась, как ей все еще больно, что в ее жизни этого не произошло. Балинт собрал свои личные вещи, мелочь затолкал в портфель. Поколебался, как попрощаться с девушками, – те разрешили его сомнения, сами подошли пожать ему руку. Бланка не поднялась с места, и он не сказал ей ни слова. Выйдя, направился в больничный парк, и только тут вспомнил про халат, – он снял его, когда заходил к директору. Ему не хотелось идти назад, но в конце концов он решил вернуться; ведь это был один из тех еще домашних, сшитых Темеш халатов, который он обнаружил у Элекешей.
Когда он снова вошел в приемную, там как раз вовсю шла перестановка. До сих пор Бланка сидела между двух других девушек, теперь ее стол оттащили в угол. Бланка стояла и плакала, закрывшись ладонями, а обе девушки угрюмо священнодействовали, словно две жрицы, совместными усилиями сдвигая свои столы. Между ними и Бланкой зияла пустота. «Боже мой, – подумал Балинт, – бедняжку теперь отлучат, как шпионку и изменницу».
В памяти его хранилось много выражений ее лица, он видел, как она ревела и веселилась, как каталась на санках и струсила при виде трубочиста, зубрила урок и как плакала, без оглядки отдаваясь наслаждению на лежанке госпожи Элекеш в погребе-убежище, видел ее и танцующей с игрушечным ружьем, и взрослой девушкой в заправдашнем платье, – ему снова захотелось дотронуться до нее, и он было шагнул к ней, но на его пути встала более серьезная из сотрудниц, старшая по возрасту.
– Нет, – строго сказала она и даже покачала головой, – такое даже богу не угодно. Не делайте этого. Она не заслужила.
Сама сняла с вешалки халат, сложила его и в таком виде подала Балинту, халат пришлось нести на руке, он не влезал в портфель. Балинт вышел расстроенный, не из-за того, что с ним произошло, а потому, что не смог проститься с Бланкой. «Сейчас тысяча девятьсот пятьдесят второй год, – думала Генриэтта, проводив Балинта и на секунду поколебавшись, не остаться ли ей все-таки с Бланкой, чей поступок и поведение она никак не могла взять в толк, – а я из всего этого уже не понимаю ни слова. Что вы делаете друг с дружкой? Что здесь происходит? Если бы я была жива, мне было бы двадцать четыре года».
Прошло три месяца с той поры, как Балинт уехал от нас, а я чувствовала, что больше без него не могу. Пусть все будет так, как он хочет, пусть, если ему надо, волочится за женщинами, только пусть возвращается назад и живет у нас. Балинт принадлежит нам, он часть нашей жизни, если не хочет, пусть не женится, но все равно живет у нас, чтобы хоть иногда с ним можно было поговорить. Во мне не было никакой гордости, я не чувствовала никакого волнения при мысли, что после случившегося мне придется все это ему сказать. Я не знала его нового адреса, но когда попросила у Бланки передать ему в больницу, чтоб он сообщил, где и когда мы могли бы встретиться, Бланка ответила, что если бы даже он там и работал, он все равно не стал бы с ней разговаривать, но его вообще нет в Пеште. Его перевели.
Я подумала, что она шутит или лжет, не хочет выполнить мое поручение и позвать его домой. Но она не шутила. Вспылила с неожиданной резкостью и в первый раз за всю нашу жизнь вздумала поучать меня, что-де я за простофиля, готова его обратно в дом взять, будто он и не бросал меня, и не унижал. Принялась, волнуясь, объяснять, какой превосходный человек я и какое ничтожество Балинт, не сумевший оценить сокровище, которое уже держал в руках, пока я принадлежала ему. «Забудь про него!» – кричала она. А я только смотрела на нее, – что она такое городит, словно у нее приступ лихорадки или безумия, – и не допускала даже мысли, что Балинта нет в городе, наверное, выдумав эту ложь, Бланка хочет воспрепятствовать моим попыткам вернуть его обратно. Я готова была ударить Бланку – откуда в ней столько подлости и нахальства и почему она так отказывается мне помочь, хотя прекрасно знает, что значит для меня Балинт.
Я не осмеливалась просить вмешательства у отца, этого нельзя было делать, после ухода Балинта в нем взыграло самолюбие, и он тяжелее, чем я, переживал обиду. Старую Темеш, которой было стыдно за своего приемного сына, мне тоже не хотелось посвящать в свои дела, я не знала, к кому обратиться, и обратилась к матери, – та была и напугана, и осчастливлена тем, что я впервые в жизни не могу без нее обойтись, плачу в ее комнате и умоляю поправить мои расстроенные дела. В силу неписаных семейных законов мать считалась у нас несовершеннолетней, ее полагалось по возможности щадить, она не очень разбиралась в том, что происходило в мире, но мои страдания поняла. И взялась выяснить, правду ли говорит Бланка, точнее, – чего та не договаривает. Я никогда так не следила за ней, как в тот день, когда увидела, что она отправилась в путь, после того как долго чистила пальто, туфли и даже дважды причесала волосы. Было пятое декабря, уже выпал снег, я стояла у окна и смотрела в сад, где ничего не было видно, зимой в это время уже темно. Бланки дома не было, она часто где-то задерживалась после работы, в последнее время уже не знакомила нас со своими друзьями, мы даже не знали, с кем и куда она ходит. Темеш возилась на кухне, готовила угощение к праздничному ужину в честь святого Микулаша; отец, видя, что я уже справилась со своей работой, велел мне выставить туфли с сюрпризами в окно. Мама долго не шла, и отец не знал, где она, – когда мама снарядилась в путь, его не было дома, и мое сбивчивое объяснение насчет того, будто она пошла в гости, прозвучало слишком неубедительно, чтобы он в это поверил. Еще позднее вошла в гостиную Темеш со своим шитьем и тоже была удивлена – где это ходит моя мать, прибежала наконец и Бланка, от нее пахло спиртным, глаза блестели, чувствовалось, что она ходит с мужчиной, должно быть, у нее кто-то есть. В этот раз настроение у нее было веселое, почти торжествующее.
Наконец явилась и наша матушка. Ключ от входной двери она, конечно, взять забыла, и ей пришлось звонить, впрочем, ключ мама забывала сплошь да рядом, я впустила ее, с нетерпением ждала, что она скажет, от нетерпения и волнения не могла произнести ни слова. В тот вечер мать выглядела молодой, взволнованной и словно бы испуганной. Я никогда еще не видела ее такой и сразу почувствовала, что Балинта в Пеште действительно нет и что беда даже больше, чем я предполагала. Ее засыпали вопросами, где она была, мама, ничего не отвечая, сбросила пальто. Отец немного подождал, но ни Бланка, ни я не двинулись с места, тогда он поднялся сам, подобрал пальто и отнес на вешалку. Бланка крутила радио, курила, сказала, как хорошо бы мне пойти праздновать рождество к ним в больницу на елку, у них там тьма неженатых молодых врачей. Она желала мне добра, но делала все так неловко, что я в ответ только покачала головой. Теперь приступила к расспросам Темеш, выпытывая, куда ходила мать. И вдруг мы услышали, что мама плачет.
До нас тотчас дошло, что со времени получения известия о смерти майора, мы не слышали, чтоб она плакала. Бросились к ней. «Умер, – пронеслось у меня в голове, – такой реакции от нее можно ждать, только если Балинта уже нет в живых, и она не осмеливается этого произнести». Я попробовала представить себе, что Балинта уже нет, и не смогла. Я стояла перед матерью и страстно желала, чтобы она обняла меня. Что мама это мама, я никогда по-настоящему не ощущала, только когда мне было больно, да и сама она лишь в редкие минуты возвышалась над самой собой. Я ждала, – вот она привлечет меня к себе, приласкает, и вдруг увидела, что она обнимает и гладит Бланку. Я глядела на них с глупым удивлением. Ведь это я была брошенной невестой, вдовой Балинта, а она прижимала к себе Бланку, обнимала-целовала ее, словно этим необъяснимым взрывом чувств хотела ей нечто сказать, но что – никто не мог понять, и Бланка меньше всех.
– Что тут происходит, – с беспокойством спросил отец. – Что с тобой? Где ты была?
Мать не ответила, только продолжала целовать и гладить Бланку, а потом, словно вдруг потеряв рассудок, принялась ее бить. Бланка, взвизгнув, вырвалась из ее рук, отбежала к окну. Мать снова заплакала, и так горько, словно на похоронах.
Я уже изнывала, ожидая, когда же она наконец сообщит, что узнала, перестанет томить нас неизвестностью. Что бы с Балинтом ни произошло, – умер, покончил с собой, – я должна знать, что именно, и если нужно оплакать его, то готова настроиться на траур, лишь бы разрешились наконец все сомнения, только бы не метаться больше, раздираемой противоречивыми чувствами. Темеш дала матери воды и хлопотала вокруг нее с таким же добросердечием и невозмутимостью, с каким ухаживала за любым из нас, стоило ему заболеть. Мать понемногу пришла в себя, вытерла слезы, вновь стала нормальным человеком, ответила, что ходила к портнихе заказать платье, однако ей никто не поверил, все прекрасно знали, как не любит она новых вещей, носит только старые, в которых чувствует себя привольно, а ходить на примерку ей испокон веку было лень. Отец махнул рукой; мать частенько говорила неправду, ситуация вроде нынешней была ему куда как знакома, и хотя для него по-прежнему оставалось тайной, где она могла разгуливать в этот холодный вечер и что такое стряслось с Бланкой, но тревога его уже прошла, главное, что мать вернулась, потом и сама сознается, где была и что ее так расстроило, ведь ей ни разу в жизни не удалось сохранить тайну. Темеш ушла в бельевую [64] , Бланка какое-то время сидела, обидевшись, потом поцеловала мать и снова засобиралась, заявив, что ей вместе с компанией нужно еще кое-куда сходить, ее ждут, Отец запротестовал, – пусть останется дома, почитает иди починит белье, сегодня вечером к нам придет Микулаш, не может быть и речи, чтоб в такое время ее не было с нами. Бланка вернулась в нашу комнату надутая, мать прошмыгнула в спальню, я вошла следом, и наконец мы остались вдвоем. Когда я взглянула на нее, она снова лила слезы, но теперь уже начала говорить, то и дело прижимая к глазам платок, чтобы не видеть меня.
Она не знала нового адреса Балинта, поэтому и пошла справиться о нем в больницу. Привратник сообщил ей, что Балинт здесь уже не работает, его перевели, мать ходила из одного помещения в другое, надеясь найти кого-нибудь, кто бы мог ей сообщить, куда его перевели, когда это случилось. Ей удалось поговорить с директором, только что вышедшим с какого-то заседания, он принялся расхваливать ей Бланку, по его характеристике Бланка – существо несколько легкомысленное, но с задатками, ей чужды обывательские предрассудки, заметив где-либо недостатки, она тут же стремится их исправить, даже если лично ей это и тяжело – из-за каких-нибудь детских воспоминаний или ребячьей солидарности. Когда оказалось, что мама не понимает его намеков, он напрямик выложил, что случилось с Балинтом и кто обратил внимание персонала больницы на необходимость его увольнения.
Я не могла взять в толк, о чем она говорит. Я и сейчас еще не могу объяснить, почему смысл ее рассказа тогда ускользал от меня, ведь все было так просто, и почему мне пришлось дважды просить ее досказать до конца эту жалкую повесть, прежде чем я поняла, что наделала Бланка. А когда наконец поняла, вникла в суть услышанного, то без сил опустилась на стул. Никогда до этой минуты я не думала, что наш разрыв окончателен; даже когда я сдернула с пальца и швырнула Балинту обручальное кольцо, я знала – пройдет какое-то время и все разрешится. Теперь надеяться было не на что. Все кончено.
В момент катастрофы, когда удар уже разразился, сознание пытается обороняться, цепляется за какие-то несущественные частности. Словно парализованная, я тупо размышляла о том, как после всего этого буду спать в одной комнате с Бланкой.
Спать с нею в одной комнате мне не пришлось. Когда я повернулась и хотела выйти, то увидела, что за моей спиной на пороге стоит отец и, судя по всему, уже минут пять, как ждет, держа в руках обернутый красной креповой бумагой колокольчик Микулаша, он ведь всегда уходил звонить в спальню, и только мамин рассказ приковал его к порогу. Он прихватил язычок колокольчика, чтобы тот случайно не звякнул и не возвестил нашему дому о начале праздника. Когда я прошла мимо него, он не сказал мне ни слова, только проводил до своей комнаты.
Я снова присела на стул, не держали ноги. Отец не остался со мной, прямо прошел в нашу с Бланкой комнату, по-прежнему с колокольчиком в руках. Он пробыл там довольно долго, я слышала только его голос, и ни звука из ответов Бланки. Когда он вернулся, его бледное лицо раскраснелось, он уселся под Цицероном, снова пододвинул к себе книгу. Мама тоже высунулась из спальни и, – чего я за ней раньше никогда не замечала, – подсела к отцу за стол. В ту минуту это не показалось мне странным, хотя если я и знала кого-нибудь, кто даже близко не подходил к письменному столу или книге, так это была моя мать. Они сидели, как два близнеца, во власти одного и того же раскаяния, одного и того же стыда. Они не заговорили ни со мной, ни друг с другом, не пытаясь искать утешения.
Когда Бланка вышла с чемоданом, уже в пальто и в платке, я подошла к ней, взглянула ей в лицо, беззвучно, одним взглядом спросила еще раз – что она наделала. Она не проронила ни звука, только ласково коснулась моей руки – движением более нежным, чем те страстные порывы, к которым я привыкла, – и подошла к отцу. Тот не поднял взгляда от книги. Бланка стояла и ждала, отец, не отрывая глаз, перевернул страницу. Мать глядела то на меня, то на Бланку, голова ее моталась туда-сюда, будто у испуганной куклы. Потом она все-таки решилась, бросилась к Бланке, обняла и, прошептав что-то на ухо, подтолкнула к выходу и проводила до дверей. Бланка ушла из дому молча, слышался лишь плач матери, которая не вернулась к нам, ушла в спальню, затворив за собой дверь,
Я опустилась на канапе. На уроках я люблю рассказывать о героях, уроки получаются интересные, мне кажется, у меня есть особое чутье на те мгновения, когда в человеке просыпается герой, в детстве меня всегда волновали трагические ошибки, любые трагические ситуации, которые разрешались триумфом добродетели. Я посмотрела на отца, сидевшего под Цицероном, и, помимо отчаянности собственного положения, осознала еще две вещи, именно две, одну из которых я должна бы, собственно, заметить уже давным-давно, но лишь теперь она дошла до моего сознания. До сих пор мне всегда казалось, что это я любимица отца, свет его очей, а теперь – словно он сам сказал мне – я убедилась, что не только мать, но и отец больше любил Бланку. Не знаю, почему. Может быть, оттого, что ему приходилось больше прощать ей, или потому, что она меньше на него походила, или из-за того, что была такой несамостоятельной, такой опрометчивой и дурашливой. Бог его знает, почему. В любви, которую к нам испытывают, всегда есть нечто от милосердия.
Я знала теперь и другое: когда отец выгонял Бланку из дому, обрекая на неопределенное существование, печальный исход которого при ее расхлябанности и безответственности не оставлял сомнений, выгонял за то, что, превратившись в доносчицу и клеветника, она оскорбила тот нравственный миропорядок, в который он верил, – то, что Балинт не мог принять денег от кого бы то ни было, было для всех нас очевидно, ведь мы знали его с детства, а Бланка лучше всех, – отец поступал как Добози [65] , убивший вместе со своей женой и самого себя.
Темеш вернулась из бельевой, у меня не хватало духа заглянуть в нашу опустевшую комнату, я не осмеливалась посмотреть, что унесла с собой Бланка и что оставила после себя. Я словно повисла в безвоздушном пространстве, потеряв вес и центр тяжести в этом мироздании без Балинта, а теперь еще и без Бланки, где и так не было уже ни Хельдов, ни майора. Темеш накрыла стол, стенные часы пробили девять, мы стояли и отсчитывали удары.
– Ну как, не пришел еще Микулаш? – спросила Темеш. Из всех трех домов святой всегда выбирал именно наш, Новый год мы встречали у Хельдов, а пасху в доме Биро.
Отец поднялся, вспомнив про колокольчик, забытый в нашей комнате, пошел за ним, оттуда послышался звон – отец тряс колокольчик. Темеш ждала с доверчивой радостью, из спальни, прижимая к глазам платок, вышла мать. Окно, куда святой Микулаш обычно складывал свои подарки, по обычаю, открывал самый младший член семьи, – Генриэтта, пока была жива, а после ее смерти – Бланка. Темеш ждала, поглядывая на дверь нашей комнаты, когда же появится Бланка. Но оттуда возвратился один отец. Отдернув штору, открыл внутреннюю створку окна. Со двора дохнуло холодом, даже в натопленной комнате мы почувствовали дыхание зимы. В пяти парах туфель краснело пять кульков, отец вынул свой, начал развертывать. Руки у него дрожали.
– А Бланка? – спросила Темеш. – Уже уснула?
– Ушла, – ответил отец и принялся сдирать с шоколадной фигурки серебряную бумажку. Мать, известная сластена, даже не подошла к сладостям. Темеш глядела, ничего не понимая, только переводила взгляд с одного на другого.
До сорок четвертого года отец в общем жил как во сне, просыпаться он начал после насильственного увоза Хельдов и только после гибели Генриэтты окончательно нашел себе место среди тех, кто умеет видеть и слышать. Он остался прежним, только стал бдительнее и лучше разбирался в политике. Лишь о мертвых сообщали таким тоном, каким он теперь говорил о Бланке, объясняя Темеш, почему не намерен спать под одной крышей с головорезом. В эту минуту Балинт был нам близок, где бы ни находилась та деревня, название которой мать забыла тотчас, еще в больнице, но теперь Балинт был для нас не просто тем, кем оставался всю жизнь, но еще и человеком, с которым обошлись несправедливо по вине одного из членов нашей семьи, по навету Бланки. Темеш не страдала сентиментальностью, умела держать себя в руках, но теперь ей не приходило в голову ничего такого, чем можно было бы смягчить тяжелое впечатление от сухого отцовского разъяснения. Отец раздал всем туфли, на окне осталась только одна до блеска начищенная пара, из которой выглядывал сладкий гостинец. К нему не прикоснулся никто. Падал снег.
Год тысяча девятьсот пятьдесят шестой
В машине он почти не разговаривал, только курил, смотрел на груженные продовольствием телеги, двигавшиеся в сторону Пешта, на тяжело ступавшие, степенные и для современного мира уже чужеродные фигуры лошадей, которые тащились по шоссейной дороге с опущенными головами, словно размышляя над тем, что общего у них с делами человека.
Он удивлялся, – сколько людей все еще стараются убедить его начать жизнь заново. Машину вел Тимар, от него Балинт и услышал о том, что его должны реабилитировать, и этот чуть ли не растроганный голос Тимара казался ему забавным; ведь сам Балинт все эти годы вовсе не страдал, он не считал наказанием или унижением тот образ жизни, от которого Тимар пытался теперь его отговорить. В деревне радовались, что у них наконец-то есть свой доктор, на него смотрели с уважением, ценили за то, что он делал для больных. Балинта удивляло, как мало значения придавали они тому, из-за каких событий он к ним попал, а те, кто знал обстоятельства его перевода, сразу же решили, что перед ними жертва, и относились к нему почти с нежностью.
Если бы Балинт не испытывал тревоги за Бланку, Тимару не удалось бы уговорить его даже на пару дней съездить в город и лично принять ту компенсацию, которую предлагает больница. Однако Тимар с такой торжественностью сообщил, что директора уже сняли и вообще в больнице нет уже никого из тех, кто входил в комиссию по его делу, только та маленькая потаскушка-доносчица, но и она в скором времени свое получит, – что Балинт сунул в портфель кое-какие пожитки и сел к Тимару в машину. Когда машина тронулась, Балинт почти с завистью смотрел на долговязого молодого парня, которого Тимар привез с собой, чтобы подменить Балинта, пока тот пробудет в Пеште, а если Балинт надумает там остаться, то новый доктор окончательно заступит на его должность в деревенской больнице.
Балинт рассчитывал как-нибудь уладить дело Бланки и тут же вернуться; он прекрасно чувствовал себя в деревенской тиши, там он сумел наконец спокойно обдумать все то, чего при обычных обстоятельствах своей жизни никогда по-настоящему не мог, но теперь, увидев Пешт, удивился чувствам, вдруг охватившим его.
Как только показался родной город и машина миновала первый мост, его потрясло наблюдение, насколько он все-таки счастлив вернуться в Пешт, какая детская радость охватывает его при виде Дуная. Он подумал, что дел в больнице окажется гораздо больше, заранее потешался над процедурой, когда ему будут доказывать нечто прямо противоположное тому, в чем пытались убедить четыре года назад, когда больная Карр так и не смогла воскреснуть для дачи показаний; однако все обошлось просто. Сам пересмотр дела произошел несколькими днями раньше. На импровизированном торжестве, где присутствовали одни новые коллеги, Тимар, новый директор, передал ему решение, сказав короткую речь, и Балинт узнал из нее о своих многочисленных заслугах и добросовестном врачебном труде, а сверх того, о том, что он – по причине его происхождения – еще до поступления клеветнического заявления от Бланки Элекеш незаслуженно подвергался гонениям. Он ерзал на месте, эта церемония оказалась для него неприятнее, чем давнишний донос Бланки.
Тимар еще раз – отныне уже официально – сделал ему предложение вернуться на прежнее место работы. Он обещал ему даже квартиру, разумеется, несколько позже, а пока Балинту давали комнату при больнице. Он хотел соблазнить Балинта новым и весьма высоким назначением, которое открыто представлял как возмещение за обиду, – услышав о нем, Балинт должен был бы растрогаться, но Балинт просто нервничал. Однако на этом маленьком домашнем торжестве ему не захотелось сразу же расстраивать сиявшего радостью Тимара, и поэтому он попросил у него времени на размышление. Он пообедал с коллегами в столовой; ему подавали с таким лицом, словно он воскресший Христос. Пока шел обед, он попытался узнать что-либо конкретное о судьбе Бланки. Тимар сообщил, что теперь она сама должна предстать перед дисциплинарной комиссией, чтобы держать ответ за свою клевету. «Ты был только началом, – заявил он возмущенно, – она доносила на всех, с кем не ладила, только с другими у ней получилось не так удачно, они сумели вывернуться». Вместе с решением о реабилитации Балинт получил выписанную ему довольно значительную сумму денег и теперь раздумывал, что бы он с ними сделал, если бы мог принять всерьез хоть что-нибудь – либо тогдашнее изгнание отсюда, либо теперешнее стремление вернуть его обратно.
Он и не пытался разыскивать Бланку в приемном отделении, знал, что там ее не найти, стоит ей почувствовать, что ее где-то подстерегает беда, она тотчас убегает, скрывается. Где тут ее теперь найдешь? Темеш, которая ему иногда писала, сразу сообщила, что Элекеш выгнал Бланку из дому и с нею даже не видится, однако Темеш не знала ее нового адреса; она так рассердилась на нее из-за Балинта, что даже не интересовалась ее судьбой. Впрочем, Темеш и сама уже не жила у Элекешей, еще в год замужества Ирэн она нашла себе место в одном школьном интернате, и теперь ведала там кухней. Сперва Балинт отправился к ней, сам разыскал ее в огромном здании, – ввиду происходящих событий учащимся в классах не сиделось. Спросил, не тревожно ли ей. Темеш посмотрела на него в недоумении, словно не понимая, с чего бы ей беспокоиться. По безучастному виду женщины он почувствовал, как сильно она изменилась, его реабилитации она не только не оценила, но, по всей видимости, даже не очень поняла, что это значит; когда он вошел, она узнала его не сразу, да и потом не выказала особой радости или волнения, была рассеянна, быстро утомлялась и робела. Балинт любил Темеш, всегда чувствовал ее неустроенность, причем не как ребенок, а как взрослый мужчина, с тех пор как за ее положением дальней родственницы и домработницы уже угадал, что, собственно, привязывало ее к майору. Теперь он разочарованно сидел возле нее, сам не понимая, чего от нее хочет, во всяком случае – кроме того, что уже узнал. Он пробыл у нее недолго и пошел к Элекешам. Темеш на прощание сказала ему, что у нее пропал сон, плохо и с желудком, но не пригласила зайти, когда он закончит дела.
Встретившись с одним знакомым, Балинт подивился, что случай свел его именно с ним. Своего старого товарища по плену он не видел с той поры, как обоих выпустили, он уже тогда не принимал всерьез их обоюдного обещания найти друг друга, как только жизнь войдет в норму. В плену они оба одно время работали в больнице, однако у этого зубного врача дела всегда шли лучше, чем у Балинта, и не только потому, что он был ловчее, но просто по натуре раскованней, общительней и веселей, чем Балинт. Балинту запомнилось, что он чуточку завидовал Сэги, потому что тот в самых трудных и тяжких обстоятельствах постоянно строил какие-то планы, и его нелепый оптимизм таинственным образом впоследствии всегда оправдывался. Теперь Сэги сообщил, что завтра утром отправляется странствовать по свету, причем таким тоном, будто собирается на рынок. Потом спросил, нет ли у Балинта денег заплатить за дорогу до пограничного города и за проводника, который поможет ему переправиться в Австрию, а если есть, то не хочет ли и он присоединиться, – в грузовике, который его берет, есть одно свободное место. Балинт, рассмеявшись, отказался, но Сэги не принял этого всерьез, – как случалось и в плену, когда Балинт отказывался участвовать в каком-либо деле, которое Сэги прекрасно устраивал и которое действительно оказывалось выгодным, причем от Балинта требовалось только решиться, – но Балинт, если это от него зависело, даже пальцем не шевелил. Однако Сэги все-таки сунул ему в руку номер телефона, говоря, что после полудня его можно еще застать. И если надумает, то завтра на заре Сэги заедет за ним на машине. Отсюда они выберутся, пусть Балинт не беспокоится, каким образом, – это его дело. Нужны только деньги. Балинт и не думал сомневаться, Сэги всегда исполнял то, что забирал в голову, но никогда не бесплатно.