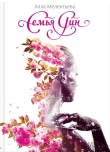Текст книги "Избранное"
Автор книги: Магда Сабо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)
Мощеную улицу я обошла стороной, но на Дамбу все же решила зайти. Выпила пива за столиком в ресторане, от старого нашего дома не нашла и следов – лишь одно-два фруктовых дерева. И там, под грохот музыки, извергаемой репродуктором, передо мной наконец возник образ отца; я увидела его сидящим на корточках между клумбами и подвязывающим к колышку какое-то хилое растеньице. А рядом с ним, тоже незримо, стояла матушка и растирала свои уставшие запястья. Образы эти были до того живыми и яркими, что я расплатилась поскорее и ушла, словно увидела нечто такое, что не имела права видеть; они и в памяти моей, после смерти, так неразрывно принадлежали друг другу, что я даже мыслями своими словно была им в тягость; подсматривать за ними было неловко – да и к чему?
Когда умер отец, у меня лишь зародилось подозрение, что я для своих родителей не имела ровно никакого значения, что только они двое и были в целом свете нужны друг другу; после смерти матери я окончательно уверилась в этом. Как бы я ни пела, ни декламировала для них, как ни старалась, прибегая к самым отчаянным ухищрениям, привлечь к себе их внимание, – это мне удавалось разве что на минуту: они были настолько поглощены друг другом, что любовь свою не могли делить ни с кем, даже со мной.
Матушка могла бы еще жить долго – если бы хотела. Я доставала для нее любые лекарства, какие только существовали в зарубежной фармацевтике; она лежала в Кутвельдской больнице, в отдельной палате. Я просиживала возле нее целыми днями, ела там же, разыгрывала перед ней эпизоды, которые в театре всегда вызывали бурю аплодисментов; но, из кожи вон вылезая, чтобы развлечь, развеселить ее, – я снова и снова чувствовала, что если она и благодарна мне, то скорее лишь из вежливости, что она просто не хочет обидеть меня, на самом же деле ей совершенно безразлично, что я делаю и зачем. Для нее не имеет значения, что я теперь в состоянии купить ей много дорогих вещей, и что она может хоть каждый день есть свои любимые блюда, и что теперь у нее снова есть рояль гораздо лучше прежнего, и что нет такого пианиста или скрипача, даже из самых знаменитых, который по моей просьбе не пришел бы к нам, чтобы поиграть для нее. Все это ей было не нужно; я знала, что не нужно, хотя она не говорила об этом. Ей нужен был отец, который уже много лет как умер; для нее существовал теперь лишь путь, которым до нее прошел отец и который ей не терпелось пройти самой.
Этот муравей уже шестой раз пытается подступиться к половинке абрикоса. Глупое существо: давно бы пора сообразить, что не осилить одному такой груз – а он возвращается к нему снова и снова. Муравей напоминает мне Эржи Чоку, которая опять приходила к Ване просить, чтобы ей доверили роль Джульетты. Каждый раз, когда Эржи является в театр, Ваня зовет меня; мы вместе слушаем ее и потом пытаемся уговорить выбросить из головы пустые надежды, пытаемся объяснить, что не следует ей связывать свою жизнь со сценой – ничего не помогает. «Я не хочу быть машинисткой, – шепчет она, и хорошенькое ее, невинное личико становится таким грустным, – мне нужна лишь сцена, сцена…» Когда Эржи начинает декламировать, я закрываю глаза: может быть, голос, звучание стихов позволит забыть деревянные жесты ее худых, жалких рук. «Ночь, добрая и строгая матрона, вся в черном, приходи и научи, как, проиграв, мне выиграть игру, в которой оба игрока невинны» [17] . Ничто не помогает: прекрасный текст вянет и умирает на губах у Эржи. Каждый раз она надевает свое лучшее платье, отпрашивается с работы, а накануне ходит в парикмахерскую, судя по аккуратной, свежей прическе. Закончив читать, она обращает к нам робкий, исполненный надежды взгляд: вдруг на сей раз получилось, и разглаживает на себе красивое, праздничное платье; в такие минуты я вижу себя, в одной рубашонке стоящую на каменном полу в кухне. Приближались именины отца, и Карасиха научила меня стишку, чтобы я его поздравила. В окно льется свет раннего майского утра, я прикладываю ухо к дверям спальни: когда же они проснутся? Босые ноги мои зябнут на каменных плитках, в спальне уже слышен шепот, но я не решаюсь войти, стою, поеживаясь в своей рубашонке. Наконец открывается дверь, выходит матушка, раскрасневшаяся, с всклокоченными волосами, совсем еще молодая, яркая, красивая. Мы входим, отец садится в постели, а я, остановившись на середине комнаты, декламирую громко: «Заря в небе занимается, птичка в роще заливается, рано встать мы постарались, именинника поздравить, пусть живет он много лет, на радость дочке и жене!» Отец поцеловал меня в макушку – не помню, чтобы он когда-нибудь целовал меня в щеку, – потом посерьезнел и попросил меня рассказать стишок еще раз. Мне лет пять, или, может, шесть; я снова выпускаю на свободу свой голос, а закончив, приподымаю края рубашки и делаю реверанс. Родители переглядываются, Отец спрашивает у матушки: «Катинка, в вашей семье была актеры?»
Эржи Чока однажды пришла даже ко мне домой, принесла Юли тазик и дуршлаг: в подарок. Она работала в канцелярии на Посудном заводе – там эти вещи можно было приобрести дешевле. Юли чуть не лопнула от злости, а подарки зашвырнула в кухонный шкаф, с глаз долой. Это было в тот день, когда я тебя не впустила и ты стоял под дверью и все звонил, звонил, сходя с ума от ярости. Потом ты пытался еще звонить по телефону, но я не подняла трубку; на другой день ты не пришел, ты думал, что у меня был Пипи, а я радовалась твоей ревности. У меня была Эржи: она сидела напротив меня и покорно пила коньяк, которым я ее потчевала. По случаю визита Эржи сделала маникюр, выкрасив ногти красным лаком; юбка на ней была до того узкой, что чуть не лопалась на заду; свою чудесную юную кожу она намазала какой-то розовой гадостью. Бедняга, она походила сейчас на этакую старорежимную шлюху из провинции – а ведь была честной и чистой девушкой. Я сидела в своих серых брюках и черном свитере, с заплетенными в две короткие косы волосами – в обычном своем виде, – сидела ненакрашенная, смотрела на Эржи и курила. Она разглядывала книги, мою коллекцию пьес, медную комическую маску – твой подарок; она даже сняла ее с гвоздя, примерила и засмеялась. «Я всегда мечтала стать актрисой», – с робким оживлением пищала она. Над входной дверью дребезжал звонок. Юли просунула голову, а когда я отрицательно помотала головой, закусила губу и с треском хлопнула дверью. «Всегда!» – сказала Эржи и вздохнула. Ну, я-то актрисой никогда не думала стать, у меня и в мыслях такого не было.
Когда мы в первый раз были где-то втроем, с тобой и с Ангелой, она первым делом с восторгом рассказала, что выступала на всех школьных праздниках. Я читала молитву перед экзаменами, произносила речь, когда однажды гимназию нашу посетил министр культов, встречала епископа, приезжавшего на конфирмацию, и Кодая [18] на большом юбилейном концерте, декламировала приветствие директору. Это была еще одна причина всеобщей неприязни ко мне. Я была плохой подругой – угрюмой, раздражительной, завистливой. Я никогда никому не подсказывала; на выпускных экзаменах я решала другим задачки только за деньги – причем сперва нужно было сунуть мне в руку десять пенге, лишь после этого я отдавала шпаргалку. Дети и учителя одинаково меня не любили, я не была ни милой, ни приветливой, а когда из города уехала Гизика, совсем замкнулась в себе. Но если требовалось что-то где-то сыграть, изобразить, то волей-неволей вспоминали про меня. Я не знала, что такое боязнь рампы, никогда не забывала и не путала текст; проза, стихотворение, песня моментально застревали у меня в голове; меня не надо было учить, что делать с руками и ногами; если роль была грустной, я проливала настоящие слезы, если веселой – хохотала так, что ни один зритель не мог устоять и хватался за живот, умирая от смеха. Я декламировала патриотические и религиозные стихи и произносила торжественные речи в кружке; репертуар у меня вообще-то не отличался разнообразием: мне всегда давали роли, для которых не требовался специальный костюм и реквизит. Так что чаще всего я была крестьянином, старухой или служанкой, – но мне было все равно, кого играть: мужчину или женщину, молодых или старых; чем больше роль не походила на меня, тем интереснее мне было. Ангела рассказывала тогда тебе, что взрослые специально ходили на школьные праздники, чтобы посмотреть на меня, и это чистая правда: меня каждый раз не хотели отпускать со сцены, хотя я никогда, за одним лишь исключением, не играла главных ролей.
В пасхальное воскресенье, через день после злополучной страстной пятницы, когда умерла Юсти, я должна была злую мачеху в «Витязе Яноше» [19] . Ангела была, конечно, Илушкой – очаровательной Илушкой с искусственными льняными косичками, милой и совершенно бездарной, не способной ни играть, ни двигаться, стыдливо лепечущей заученные слова. Ангеле всегда поручали главные роли – из-за необычайной ее красоты; кроме того, на ее спектакли дядя Доми выводил всю судебную палату, обеспечивая максимальный сбор. Но на этот раз Ангела совершенно расклеилась, горюя из-за Гизики: ее знобило, лихорадило, она плакала и никак не могла успокоиться. Когда я пришла к ней, она лежала в постели, а рядом сидела Эльза и читала ей по-немецки сказки братьев Гримм.
Ангела ужасно была мне рада; она отослала Эльзу, обняла меня и зашептала мне на ухо, что все время видит перед собой мать Гизики, видит мертвой – хотя в жизни с ней не встречалась. Мне было в высшей степени наплевать на ее страдания, я даже не слушала, что она там мелет. Я пришла за костюмом: роль мачехи отдали какой-то шестикласснице, а мне поручили играть Илушку. Тетя Илу с кислой миной подавала мне золоченую корону, платье феи, крошечные красные туфельки. Я имела громадный успех; незнакомые люди поднимались ко мне на сцену, приносили мне шоколад из буфета. Это был первый вечер, когда я смогла забыть про Гизику и Юсти: до тех пор мои мысли тоже вертелись вокруг них, только видела я перед собой не Юсти, а Гизику, сидящую на порожке, спрятав в коленях лицо.
«Скажи что-нибудь!» – говорил ты обычно, просыпаясь. В таких случаях я читала стихи, что-нибудь из Шекспира или из второй песни «Толди» [20] , которую ты особенно любил слушать. Когда я узнала, какое наслаждение для тебя видеть мою игру, – театр и роли обрели для меня новое значение. Ты помнишь, как я была собакой, совсем крошечным щенком, только-только родившимся? Я неуверенно сидела на ковре и тявкала, глаза мои преобразились, я погасила в них даже малейшую искру разума и лишь смотрела на тебя пустым, невинным и преданным взглядом, тихо скуля от избытка преданности – и вдруг чихнула по-собачьи: что-то попало в нос. А на рождество я нарядилась ангелом; ужасно трудно было вынести из театра крылья. В конце концов их вытащил через черный ход, прямо в такси, дядя Салаи; ремни, которыми крылья крепились к плечам, я уже не успела удлинить, они резали мне плечи, но все равно я была великолепным, настоящим ангелом, а лучше всего было облако, на котором я стояла, – огромное блюдо со взбитыми сливками, покрывавшими мне ноги до щиколоток, по бокам которого ты изобразил из сливок завитушки и облачную бахрому. Пока я стояла возле елки, на столе, в блюде со сливками, неподвижно и с закрытыми глазами, я невольно думала об ангеле на усыпальнице Мартонов и о том, что сказал бы отец, увидев, как я стою в белом балахоне, под которым ничего нет, а рядом переливается огнями елка, ты играешь на рояле рождественские гимны; пока отец был жив, я никогда не могла купить ему цельного молока или сметаны – только снятое молоко, самое что ни на есть дешевое – а теперь вот густое облако сливок достает мне до щиколоток. Или что сказала бы матушка, если б узнала, что ты сейчас снимешь с меня и крылья, и балахон, Юли ушла в церковь, где останется до полуночи, а я не смею поднять глаза, потому что если взгляну на тебя, то выскочу из своего блюда и убегу, спрячусь, чтобы ты не видел, как страстно хочу я твоей близости, – а ты и не подозреваешь, о чем я думаю, тебе видна лишь улыбка, отрешенная ангельская улыбка и волосы, ниспадающие на плечи; в этот момент я – девственна, строга и беспола, я – не очаровательный ангелочек, а величественный небожитель, angelos, божий вестник, только что слетевший к пастухам, чтобы возвестить о рождении Спасителя. В ту ночь я готова была рассказать тебе, где похоронены отец с матушкой; но так и не смогла.
Это было какое-то ненастоящее рождество: не падал снег, лишь ветер носился по улицами и рвал ветви. В постели я прижалась к тебе; крылья были спрятаны в платяном шкафу: я опасалась, что Юли увидит их и тут же попросит расчет. Однажды летом я была даже рыбой, я плыла, глаза мои стали стеклянными и неподвижными, я пошевеливала плавниками – но ты не смеялся, ты смотрел на меня очень серьезно и сказал потом, что весь мир должен бы это видеть; и стал рассказывать о Райнер, австрийской актрисе, которая умерла совсем молодой. Тогда я медленно перевернулась на живот на ковре, ко мне вернулось мое лицо, плавники исчезли. Я подумала, что иногда еще не видела море, не была в мировых столицах; ты же объездил полмира, голова у тебя так же полна воспоминаниями, как и у меня, но воспоминания совсем иного рода, и я вдруг снова увидела Ангелу: она сидит в земле в саду, просеивает песок через маленькое сито – она и подростком занималась такой ерундой – совочками и формочками; она щебечет, смеется, говорит, что Вена – ужасно забавный город, с гигантского колеса там даже Венгрию видно, и рассказывает, что была в церковном театре и видела Райнер, знаменитую актрису.
Я поднялась и взяла сигарету. Ты взглянул на меня и рассмеялся. И сказал, что сейчас у меня снова нет никакого лица, будто у покойника.
5
Теперь вот пришлось отыскивать муравейник.
Муравей позвал на помощь товарищей, их собралось около пятидесяти, но все равно ничего у них не выходило, так что я взяла эту несчастную половинку абрикоса и прихрамывая, отнесла ее к муравейнику. Немного подождала, что с ней будет, а когда она стала совсем черной от муравьев, вернулась сюда. Хорошо, что никого нет вокруг: не хватало бы еще, чтобы кто-нибудь украл туфли и мне пришлось бы возвращаться домой босиком.
Почему нам в школе внушают эту глупость: дескать, за добро жди, что тебе отплатят добром? Люди этому верят по наивности, а потом лезут из кожи, надеются на что-то, и все тщетно. Если б я была ребенком, я могла бы записать в дневник наблюдений за природой: сегодня помогла муравьям. Тьфу! Кроме спасения Белы, я в своей жизни не совершила ни одного доброго дела – на это у меня не было ни времени, ни охоты. Вот и с Арваи: я не ему – тебе хотела доставить радость. В детстве по субботам я, бывало, всю ручку изгрызу, пока заполню дневник добрых дел. Невероятно трудно было изобретать добрые дела, чтобы угодить взрослым и чтобы это ничего не стоило, – этакие благодеяния, приличествующие ребенку из бедной семьи. Я стонала и в муках царапала себе ноги. Знаешь ли ты, как трудно придумать на каждый день недели какое-нибудь дешевое, но правдоподобное доброе дело? «Помогла тете поднять мешок. Перевела через дорогу слепого дядю…» Ангелу за ее полупустой дневник добрых дел всегда ругали в классе, а ведь Ангела всегда раздавала все, что у нее было, всем помогала, чем могла; щедрость, готовность прийти на помощь были для нее такими естественными вещами, что она постоянно забывала свои добрые дела и лишь стояла и краснела, когда ее отчитывали. Все остальные могли доказать, что они были добрыми в минувшую неделю; особенно я и Агнеш Ковачи; только Ангела не могла. Что касается Ковачи, то это я диктовала ей добрые поступки, когда надо было сдавать дневник. Каждый добрый поступок стоил двадцать филлеров.
Я всегда с подозрением относилась к добрым людям. Никогда, даже в детстве, не верила я, что доброта – естественное состояние. За любой добротой, я в этом была убеждена, скрывается простой расчет: кто-то с кем-то за что-то расплачивается или дает в долг, чтобы потом потребовать отдачи. Узелок с мясом и домашней колбасой, присылаемый Амбрушем «на пробу», когда у них кололи свинью, заплаты на мои туфли, вообще любезность Амбруша – все это плата за то, что я надрываюсь, поднимая ушат с помоями; турецкий торт по воскресеньям должен возмещать отсутствие слуха у Белы, сына Карасихи, и его толстые неуклюжие пальцы. Бабушка повесила мне на шею золотое украшение – пусть никто не говорит, что у внучки Мартонов нет даже ожерелья. Еще бы, куда легче повесить мне на шею украшение, чем помогать отцу, которому деньги продлили бы жизнь. Когда ты начал «заниматься» мной и пытался понять, выследить – даже не желания мои, а то, есть ли у меня вообще желания, – я долго присматривалась к тебе, настороженно и выжидательно. Я ждала, когда обнаружится – как всегда, во всех случаях жизни, – истинный смысл твоей заботы: то ли у тебя почему-либо нечиста совесть, то ли тебе что-то нужно от меня и ты авансом платишь за это, то ли, совершив нечто дурное, ты хочешь благодаря мне восстановить равновесие. Первые твои подарки я принимала с такой робкой благодарностью, с такими неподдельными слезами на глазах – и, едва расставшись с тобой, выбрасывала на помойку. Когда ты однажды, дождливым вечером, зашел за мной, чтоб показать мне горы в тумане, и мы гуляли по стене Рыбацкого бастиона – я отстала от тебя на шаг и тащилась сзади, показывая тебе язык и корча рожи, как Пэк. Ты был мне противен.
Помню, когда я, впервые в жизни, подхватила грипп и ты послал ко мне своего друга, знаменитого профессора, я перед его приходом повязала передник, заплела в волосы синие ленточки и открыла ему дверь босиком, вытирая на ходу руки. С лицом, раскрасневшимся от жара, я выглядела как какая-нибудь молоденькая служанка; профессору я сказала, что, мол, хозяйка уехали, нету у нас никаких больных, чего еще выдумали. Потом вымыла ноги, легла в постель, приняла две таблетки кальпомирина и стала читать новую румынскую пьесу. Я часто с интересом смотрела, как ты разговариваешь с дядей Салаи, присаживаясь к нему в его конуре привратника и в десятый раз выслушивая рассказы про внука, разглядывая фотографии – ужасные фотографии, снятые самим дядей Салаи, на которых люди стоят с деревянными лицами, вытаращив глаза; я следила, как ты поднимаешь упавший с балкона мяч и кидаешь его обратно, как даешь взаймы денег Пипи, хотя прекрасно знаешь, что он никому и никогда долгов не возвращал. Поначалу я только смеялась над тобой да корчила гримасы, едва закрывалась за тобой дверь, – дескать, знаем мы эту доброту. Мне было наплевать, что ты добр и внимателен ко мне, я хотела от тебя другого – не доброта твоя была мне нужна и даже не любовь, дело было совсем в другом.
А потом я как-то пошла в университет, ты читал там лекцию и приглашал меня послушать свою трактовку Гамлета; я соврала, что у меня репетиция, а про себя решила не ходить, чтобы не встретиться с Ангелой. Я бродила по Кольцу, разглядывая витрины, ловя себя на том, что до сих пор внимание мое привлекают игрушки, теплые вещи и ноты. Дул западный ветер – пахнущий влагой, предзакатный ветер; плакаты пестрели какими-то ярко-желтыми цыплятами и яйцами, и я думала о том, что ты придешь ко мне и что-нибудь положишь в платяной шкаф – шоколад или фарфоровое яйцо, потому что ты внимателен и добр, – и меня вдруг охватило такое беспокойство, что я с трудом заставила себя идти шагом. Так я шла, шла, потом свернула на Университетскую улицу – и решила все же пойти на лекцию.
Аудитория была переполнена, я еле протиснулась в дверь. Ты знаешь, что меня узнают только на сцене, в иной же обстановке проходят мимо с равнодушными лицами; вот и здесь, в университете, кругом заворчали: мол, куда меня несет. Ты повернул голову, наши взгляды встретились, ты узнал меня. Твой голос стал иным, ты по-иному произносил цитаты; я прислонилась к стене, слушая тебя, и закрыла глаза – лица вокруг мешали, я хотела слышать лишь слова, твой голос, Шекспира. Я не пробыла там и десяти минут – потом снова протолкалась к выходу, вышла в коридор, стала разглядывать лысого Платона и Тассо с лавровым венком на голове; я бродила от аудитории к аудитории, нашла твой кабинет, сунула автобусный билет в большую медную замочную скважину – чтобы ты знал, что я была здесь. Вышла на улицу, стала разглядывать витрину продмага; у входа была привязана собака, фокстерьер, я присела рядом с ней, ветер залетел мне за ворот, когда я наклонилась. Собака обнюхала меня, я потрепала ее по спине и потом так быстро встала, что она испугалась и залаяла. Я неслась по какому-то переулку, распевая: «Вставай, вставай, засоня, вставай и песню пой» [21] , – потом остановилась, из глаз у меня брызнули слезы, потекли по щекам. Рядом оказались какие-то желтые ворота, на них округлый медный щит со львом, в пасти льва – медное кольцо. Я поняла, что люблю тебя, поняла, что и ты меня любишь, любишь такой, какая я есть, что ты смотришь на меня так же, как когда-то отец смотрел на маму. Все это было так непривычно и невероятно, так путало все мои представления о жизни, что я в отчаянии стала дергать кольцо, тискала его, крутила – и плакала. Улица была темной, по противоположной стороне шел прохожий, вообще же я была тут одна со львом. С площади светила витрина какой-то лавчонки, светила желтым, лиловым и огненно-красным, в витрине стоял заяц величиной с ребенка; к зайцу в последние годы перешла роль пасхального агнца, и с тех пор на всех изображениях морда у него была хитрой и загадочной, совсем не той доброй и простодушной, к какой я привыкла с детства; в выражении у него было даже что-то вызывающее, нахальное, словно заяц к тому же был и пьян немного.
Я вела себя так, словно потеряла рассудок. Вернулась к площади, чтобы снова пойти в университет. «Где ноги, где копыта. Заброшена, забыта» [22] – произнесла я – точь-в-точь как Пипи во втором действии. «Что вы?» – повернулся в мою сторону пожилой господин. В университете светились окна, я постояла, глядя на них снизу, потом все-таки села на автобус и поехала домой. Нажарила на ужин ломтиков хлеба с жиром – и измазалась жиром по уши, когда зазвонил телефон. «Здравствуй!» – сказал ты. «Здравствуй!» – ответила я, и у меня снова хлынули слезы, я стояла с трубкой в руках и жевала хлеб. «Ешь?» – спросил ты; я промычала утвердительно, губы и подбородок у меня были вымазаны жиром и сажей. «Можно мне приехать?» – спросил ты, а я молчала и продолжала хрустеть хлебом. «Можно?» – спросил ты опять, и я повесила трубку и села к окну в темной комнате. На улице горели фонари, я увидела твое такси издалека, едва оно вынырнуло из-за перекрестка. Ты приехал прямо из университета, с портфелем, в котором лежали твои записи и «Гамлет».
Я впустила тебя и опять ушла в комнату, села на пол перед печкой, пошевелила угли; весна была холодной, приходилось еще топить. Ты тоже сел на пол, мы прислонились спинами друг к другу. Ты тогда уже несколько месяцев носил мне подарки, всегда вытаскивая их из правого кармана; едва твоя рука погрузилась в карман, я говорила: «Спасибо!» – и отводила глаза. Теперь, сидя к тебе спиной, я потянулась назад, нащупала твой правый карман и сунула туда руку. Ты выпрямил спину, чтобы мне легче было достать подарок. В кармане было три оранжерейных помидора, твердых, желто-красных, блестящих. Я вытерла один из них в ладонях, откусила половину, а другую половину положила тебе в рот. Мы не смотрели друг на друга. В печке трещал огонь.
Дома у нас с первых дней осени до лета трещал огонь. Отец даже зимой, в самые жестокие морозы, спал у открытого окна, и чуть ли не все наши деньги уходили на топливо. Днем, пока у нас были ученики, отец лежал в кабинете – лишь вечером он переходил опять в общую комнату, где были кровати, стол и рояль и где спали отец с матушкой. Мы пекли в печке, на колосниках, картошку, иногда яблоки; поужинав, отец с матушкой с такой нетерпеливой радостью садились рядом, словно провели день не под одной крышей, а в разлуке – и теперь наконец получили возможность встретиться, рассказать друг другу все, что случилось с каждым из них. «Поговорим!» – предлагала матушка, берясь за шитье; отец, следя за движениями ее рук, придвигался к ней поближе. Я слонялась вокруг, гремя посудой, будто обиженная на хозяев служанка, приносила воду, спускалась в подвал за дровами, потом сидела в углу, глядя на них с тоскливой завистью. Я была такой лишней для них – и в то же время такой необходимой, они так нуждались во мне, в моих руках и сильных, быстрых ногах. Я жила рядом с ними как неловкий и угрюмый джинн, невольный и завистливый свидетель той никогда не угасающей страсти, что связывала их. Когда говорят – брак, – я всегда вспоминаю матушку и отца, и если ты видел, как я играю на сцене или в кино невесту в фате и венце, то ты видел не меня, а матушку, это она умела так светло, так счастливо улыбаться, доставая иногда свой сохранившийся со свадьбы венец и прикладывая его к своим волосам.
Эльза и дядя Доми любили друг друга совсем не так, в их любви было что-то беспокойное, что-то неестественное и чреватое опасностью. Я тоже часто следила за ними: они сидели на мессе против нас, это было единственное место, где можно было видеть их всех: тетю Илу, дядю Доми, Эльзу и двоих детей. Мой отец церковь не посещал: он мерз там даже летом, – матушка тоже ходила от раза к разу; меня же школа обязывала ходить в церковь. Ангела сидела не с нами, а с семьей; мы, школьники, заполняли весь боковой придел, напротив сидели остальные прихожане. После смерти Юсти я долго смотрела на дядю Доми как на приговоренного к смерти; мне представлялось, как тетя Илу наконец понимает, что ей нужно делать, берет топор и однажды вечером убивает дядю Доми. Ведь Юсти – та хоть из дома уходила; у этих же все так и живут вместе. Я даже попробовала сыграть эту сцену дома, в кабинете – и отказалась от топора, выбрала яд. Зная тетю Илу, трудно было предположить, что она может кого-нибудь убить топором: в ее мягком, пухлом теле не ощущалось силы. В то время в городе только и судачили, что о Юсти; мы в школе тоже постоянно говорили о ней. То, что сделал Йожи, казалось мне справедливым; как ни ужасно было увидеть Юсти лежащей на полу, я считала, она это заслужила.
На мессе, опустив глаза в молитвенник, я ломала голову над тем, почему же в семье у Ангелы так ничего и не происходит. Тетя Илу все ходит с мокрым полотенцем на лбу, Эльза накрывает на стол, делает покупки, проверяет у Ангелы уроки, водит ее к зубному врачу, Эмиль заканчивает университет, дядя Доми ходит в суд, разбирает дела, выносит приговоры. Каждое воскресенье все они были на мессе. После мессы супруги брали друг друга под руку, Эльза с Ангелой уходили вперед, последним выходил из церкви Эмиль. Встречные почтительно здоровались с ними, взгляды людей были серьезны и полны уважения. Если кто и оборачивался им вслед, то из-за Ангелы, из-за ее редкостной красоты.
Я тоже часто разглядывала Ангелу, словно редкого зверя в зоопарке, пытаясь понять секрет ее красоты. Не лицо, не волосы, не рот со вздернутой верхней губкой: все тело ее было удивительно красивым – гармоничным, совершенным в своей живой прелести. Ангела как-то избежала того периода, когда подростки бывают нескладными, с неуклюжими движениями и квадратными коленями. Все то, что было в ней прелестно как в ребенке, усилилось, окрепло, когда она стала девушкой, слилось в уверенной, без единого изъяна красоте, охватывающей, объединяющей в одно целое ее руки, ноги, узкие бедра, стройную шею, сверкающие плечи. Однажды после уроков, когда мы остались у нас во дворе вдвоем – Эльза ушла на базар и еще не вернулась, – я попыталась выпытать у Ангелы, знает ли она, о чем шепчется весь город.
Мы сидели на земле под кустом бузины и плели венок из маргариток; я жевала горький лист бузины, склонившись над покорными, глупыми, розовыми цветами, и ждала, что ответит Ангела. Но она абсолютно ничего не знала. До нее просто не доходило, о чем я ее расспрашиваю; она поняла лишь, что я хочу узнать про какую-то тайну, и очень обрадовалась этому. Она считала, видимо, что теперь-то мы станем настоящими подругами, раз я интересуюсь ее семьей, ее домашними делами. Положив на прелестные свои колени, полусплетенный венок, она придвинулась ко мне и шепотом, словно опасаясь, что в саду, кроме нас двоих да летающих вокруг пчел, есть еще кто-то, сообщила мне: с Эмилем творится что-то неладное.
Я раздосадованно выплюнула лист. Какое мне дело до Эмиля! Меня интересует то, о чем шепчутся немки-гувернантки, сидя на скамейке в саду, и что я слышу иногда, моя посуду на кухне, возле открытой двери во двор. Вот что меня интересует: если все это правда и если Йожи взял и убил Юсти, то почему тетя Илу не убьет дядю Доми, который изменяет ей с гувернанткой? В доме играла гаммы Юдитка, играла из рук вон плохо, потом принялась рьяно колотить какую-то колыбельную песню, фальшивя и в неверном ритме; матушка вынуждена была поставить перед ней метроном. Ангела так явно ни о чем не знала, что у меня испортилось настроение, и я подумала, что, может, все это и в самом деле сплетни.
Я вполуха слушала, что там болтает Ангела про Эмиля: что он не занимается, не сдает экзаменов, задумал уйти из дома, говорит какие-то странные вещи, а папа очень сердится и кричит на него, велит не забывать, что он, Эмиль, – сын судьи и всякие пересуды могут им повредить, и вообще велит Эмилю с оглядкой выбирать себе друзей. Юдитка терзала рояль; Ангела совсем прижалась ко мне, обняла меня за шею. Она все еще шептала что-то про Эмиля, но тут я подняла голову и взглянула на нее с таким изумлением, что даже она что-то поняла; рука ее соскользнула с моей шеи. Она замолчала; я пробормотала что-то невнятное. Открылись ворота, вошла Эльза, неся полную корзину яблок для пирога. Я очень внимательно посмотрела на нее, и она показалась мне старухой – хотя до этого ей, конечно, было еще далеко; детям любая тридцатилетняя женщина кажется старухой; правда, и молодой ее тоже нельзя было назвать, эту прямую, как палка, женщину с неподвижным взглядом, смуглой кожей и строго поджатыми губами. У нее было какое-то «испанское» лицо – только более сухое, без той страстности, какая есть в испанках. Ей пошел бы высокий кружевной воротник и пурпурно-красное платье – как у Эболи [23] . Ангела встала, одернула платье, попрощалась, держа недоконченный венок. Эльза взяла ее за руку, ласково, с материнской любовью, и повела домой. Что-то противоестественное, нарушающее разумный порядок вещей виделось мне в том, как они, держась за руки, вышли за ворота. Что это было, в чем таилась ненормальность, я не могла понять. Только взглянув на Эльзу, я вдруг с уверенностью ощутила, что все разговоры о ней – чистая правда; значит, Эльза несчастна, ей нет места в этом мире; Ангела же счастлива, ей все достается как бы само собой, все вокруг делается только ради нее, и сама семья их – словно живая картина, где все участники неподвижно застыли в определенных позах, так как Ангела ничего не должна заметить и ничто на свете не должно ее огорчить.