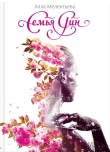Текст книги "Избранное"
Автор книги: Магда Сабо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
В комнате было теперь много народу, и все знали друг друга; Хельд обнял человека в форме, оказалось, что холеную рыжеволосую женщину зовут госпожой Темеш. Про этот эпизод и про то, как она обносила гостей, Генриэтта знала из рассказов, зато она запомнила, как мальчик и обе девочки вдруг незаметно от нее убежали, выскользнув через какую-то дверь, Маргит достала из буфета коньячные рюмки, взрослые сели поговорить, только Генриэтта осталась стоять, не будучи уже центром внимания. Спустя некоторое время Маргит увела ее из комнаты – пусть поиграет с остальными детьми, они, наверное, уже ждут ее, – и показала, как выйти в сад. И тут Генриэтта увидела свой сад, где цвели розы, и всех детей – обеих девочек и мальчика, – они кучкой стояли среди клумб и не двигались, будто в ожидании. Но ждали кого-то другого – она это тотчас почувствовала, опасливо подойдя поближе, – однако были не прочь принять и ее; светленькая взяла Генриэтту за руку и подергала, но без всякой злости, по-дружески. Смуглая девочка осведомилась, как ее зовут и сколько ей лет. Генриэтта представилась.
– Меня зовут Ирэн, – объявила смуглая девочка. А светловолосая малышка ничего не сказала, только улыбнулась, но потом заявила, что у нее вовсе нет имени. Генриэтта поверила, хоть и удивилась.
– Бланкой ее зовут, – сказал мальчик. – Дурочка она.
Генриэтта посмотрела на Бланку с опаской. Бланка закружилась на месте и так весело расхохоталась, будто ей сделали комплимент, а потом показала пальчиком на мальчика и пропела: Ба-алинт.
– Ну, хватит, – сказал тот. – Будем играть или по домам?
Генриэтта стояла возле крана для поливки и глядела, как они вдруг, словно мотыльки, разлетелись в разные стороны. Дети играли во что-то похожее на пятнашки, только сложнее, Генриэтта никогда не умела быстро бегать, к тому же была робкой, неловкой, а светленькая, напротив, шустрой и нахальной, как чертенок; когда мальчик уже почти достал ее рукой, она вдруг подставила ему ножку, он упал и ссадил себе коленку. Поднявшись, больно съездил светленькую по затылку, та завизжала. Старшая девочка бегала с замечательным изяществом, Генриэтте только и оставалось стоять да смотреть, потому что эту девочку ей ни за что не догнать. Она не понимала в тот момент своих чувств, выразить их ей удалось бы только много позже, но тогда ее уже не стало в живых.
Игра прекратилась столь же неожиданно, как и началась, чуть ли не в самый разгар страстей, – так внезапная мысль поражает сознание человека. Мальчик вдруг бросил играть, остановился, и, поскольку догонять было больше некого, остановились и обе девочки.
– Пусть и эта тоже играет, – сказал мальчик и посмотрел на Генриэтту. – Это ведь их сад.
– Давайте перейдем к нам, – предложила светленькая. Смуглая девочка промолчала.
– Нет, – ответил мальчик, – мы никуда не пойдем, потому что наши все здесь. Генриэтта тоже будет играть. Послушай, нет у тебя другого имени? Это уж больно нескладное.
Она прошептала, что нет, и от стыда вся залилась краской. И это чувство пристыженности тоже закрепилось в ее сознании, и даже в какой-то момент возвратилось обратно, только навыворот, как все, что во времени возвращается вспять, и тогда свежее впечатление и воспоминание словно смыкаются подошвами, подобно тому, как поставленный на зеркало стакан сталкивается с собственным отражением. В тот момент ее называли Киш Марией.
– Ну, все равно. Пошли играть!
Она пошла. Ее то и дело салили, и из-за этого она вскоре так изнервничалась, что расплакалась. Мальчик тотчас перестал ее догонять, остановился и задумался, смуглая девочка посмотрела на нее с вежливым участием, словно растерявшийся врач, который все еще сидит у постели больного, хотя уже знает, что ничем не сможет ему помочь, А малышка неожиданно обхватила ее за шею, по-видимому, желая утешить, но вышло неудачно, руки оказались потные и шершавые, их прикосновение причиняло боль.
– Нужно поиграть во что-нибудь такое, чтоб и эта тоже умела, – предложил мальчик. – Она ведь маленькая и неуклюжая.
– В вишенку? – спросила малышка.
– Хотя бы в эту дурацкую вишенку.
Она не знала такой игры, и они принялись ее учить. Игра привела ее в восторг. Песенка запомнилась сразу, и хотя голосок у нее был очень слабый, пела она правильно; светловолосая малышка заливалась от души, звонко-звонко. Смуглая девочка не пела совсем, как и мальчик. Они все кружились и кружились, пока не заметили, что всякий раз, когда в кругу оказывалась Генриэтта, она всегда выбирала одного Балинта, а Балинт – одну смуглянку. И тут вдруг обнаружилось, что они уже не одни. Как в финале оперы, когда все главные исполнители выходят на сцену, у входа в сад собрались и мужчина в форме, и холеная рыжеволосая дама, и отец, и неопрятная женщина, и лысый очкарик, и госпожа Хельд. Госпожа Хельд уже направилась было в их сторону, но по дороге наклонилась над одним из розовых кустов, втянула носом запах из красной чаши цветка и восхищенно произнесла:
– Мы останемся здесь жить до самой смерти.
Это были единственные слова за весь тот день, которые оставили след в памяти Генриэтты. Однако и они были лишены смысла, потому что она не знала, что такое жизнь, как ничего не знала и о смерти.
Что же вы знаете о нас? О ней? О ней самой? Ничего.
Более того – даже те поверхностные, несущественные сведения, если они и правдивы, то совсем в ином смысле, нежели вы воображаете. Свидетели, которые могли бы рассказать подлинную правду, либо молчат, либо ушли из жизни. Так, например, знает правду Балинт, однако Балинт молчит, не говорит о ней не только вам, но и мне. Бланка тоже знает правду, она знает все, разве за какой-нибудь малостью, но до Бланки дальше, чем до звезд. Хельды, Генриэтта и майор умерли, госпожу Темеш уносит собственный прибой, укачивая на волнах слабеющей памяти; на струящихся водах реки перед ней колышутся большие торты, ведь в доме для престарелых мало дают сладостей. Госпожа Темеш не узнает и самой себя, где уж ей помнить о нас.
При все том она могла насмотреться на каждого, ведь была и Темеш разумной женщиной, и если чего не знала, – о том несомненно догадывалась, доискиваясь до сути сама или же расспрашивая Балинта. Не стоило большого труда составить представление о жильцах нашего дома даже в то время, когда она проживала не с нами, и это не только потому, что мы жили по соседству, а потому, что мы были достаточно простым уравнением, во всяком случае на вид. Моя мать была невероятно красива и поразительно неряшлива, отец очень серьезен и строг, Бланка крайне непослушна и вспыльчива, а я весьма дисциплинирована и вежлива. «За тебя, Ирэн, я не боюсь!» – сказала как-то Темеш, когда я остановила ее в воротах и протянула ей свой школьный табель. Я взглянула на нее, – мне всегда было мало простого слова одобрения или признания, – ждала, что она похвалит меня или приласкает. Я и понятия не имела о том, что на свете нет ни одного человека, за которого не следовало бы бояться.
Почему она не сказала тогда, что, конечно, боится за моего отца, за мою мать и, разумеется, за мою сестру? Через забор до нее не раз доносились крики и жалобы матери во время ссор с отцом, она достаточно часто могла слышать доводы и утешительные слова отца. Однажды я спросила их обоих, – со смущением и почтительностью, как это было мне всегда свойственно в разговорах с ними, я ведь уже ребенком чувствовала, насколько неприлично задавать такой вопрос родителям, – почему же они поженились? Не знаю уж, какого рода ответ я ожидала услышать, по-видимому, я искала объяснения тому, каким образом эти два столь непохожих человека оказались вместе и произвели на свет двоих детей. И я была поражена, когда оба ответили: потому что любили друг друга. Любовь, безрассудно тасующая людские пары, бросающая одного человека к другому, – любовь эта ни в одном художественном произведении не произвела на меня впечатления такой подлинности, как та, что явила себя в брачном союзе моих родителей, в их отданной друг другу жизни; гораздый на проделки античный бог, поражавший стрелами сердца совсем не подходящих друг другу смертных и со смехом улетавший прочь, когда я впоследствии узнала о нем, показался мне совершенно реальной фигурой: я не знала людей более разных и более глубоко любивших друг друга, чем мои родители. Я жила среди них, наблюдала за ними, чуть ли не на слух чувствуя, насколько они были разные: мать с ее суетливой болтовней и легкомысленным смехом или воплями – и отец с его безукоризненной, степенной и медлительной речью. И пусть уже в этом сказывалась их несовместимость, пусть на их долю выпало много страданий, которые они вольно или невольно причиняли друг другу, – все это ничего не меняло. Несчастные любили друг друга.
Всегда, даже ребенком, я удивлялась, насколько превратно они меня понимали. Прилежание, честолюбие, сознание долга и самодисциплина, которыми были отмечены все мои поступки, для них значили лишь то, что я им удалась, я – совершенство, я была тем единственным достижением, которое они могли предъявить миру и самим себе после мучительных сцен, разыгрывавшихся между ними. Вот она – Ирэн, в ком соединилось лучшее из того, чем был наделен каждый из них, – она столь же прилежна и точна, как отец, и обещает стать такой же привлекательной, как мать, без неуклюжести первого и без ненадежности второй. В моих успехах они видели только желание доставить им удовольствие, и всякий мой похвальный поступок означал, по их мнению, лишь то, что я стараюсь скрасить им их нелегкую жизнь. Порой, когда мы сидели за ужином, – Бланка чаще всего с зареванным лицом, потому что обычно лишь к вечеру у отца выпадало время для разбора наших дневных проступков, мать в не очень чистом домашнем халате, чуть более легкомысленном, чем это подобает жене директора гимназии, отец в чищеном-перечищеном костюме, поглядывая на всех из-за тарелки, словно с кафедры, – я только поражалась: неужели этим людям никогда не приходило в голову, что я хотела бы сама для себя добиться в жизни успеха, независимо от того, обрадую я их или нет? Если по какой-нибудь психологически необъяснимой причине у них возникла бы абсурдная идея, что для их счастья я должна бросить учебу или удариться в разврат, то я и тогда старалась бы, как теперь, потому что готовлюсь стать взрослой и самостоятельной, словно это и есть моя специальность, я хочу сразу устроить жизнь по своему вкусу. Совсем маленькой девочкой я уже знала, какой у меня был бы «вкус», – мне отнюдь не хотелось непрерывных увеселений, сплошного безделья или лавки сладостей, величиной с небесное царство, мне был нужен Балинт, Балинт вместе с домом Биро и с той тишиной, которая окружала Балинта уже в ту пору, даже когда он играл и в пылу игры вдруг срывался на крик, – я хотела той внутренней тишины, которой по малолетству не могла придумать названия, но потребность которой уже жила во мне. Если я буду очень хорошей, очень разумной, буду отлично учиться и безупречно себя вести, то майор, конечно, обрадуется, когда Балинт сделает меня своей избранницей, а я уж постараюсь стать подходящей женой для такого великого врача, каким станет Балинт, когда вырастет. Если все и всегда будут довольны мной, тогда, возможно, и майор, и госпожа Темеш не станут обижаться, что у нас часто случаются ссоры, что мама у меня такая, какая есть, что от Бланки столько визгу и что ее то и дело колотят. Я была ребенком и воображала, будто все те, кто играет важную роль в моей теперешней жизни, останутся в ней навсегда, будут свидетелями нашего с Балинтом счастья, будут сопровождать нас и в будни, и в день моей свадьбы, когда Бланка и Генриэтта понесут мой шлейф, чтоб хотя бы раз увидеть свадьбу вблизи, ведь их все равно никто не возьмет в жены, напрасно Хельды думают, что Генриэтта – пуп земли, и напрасно мама любит Бланку больше меня.
О том, что мать больше любила Бланку, легко было догадаться, однако уж если, бывало, та ее разозлит – мать била ее нещадно, словно перед ней не ребенок, а взрослый, сестра, а не дочь. Я не ревновала мать к Бланке. Я и сама полюбила ее без меры с той самой минуты, как мне ее полазали, и пришлось приноровиться к тому невероятному обстоятельству, что у меня родилась сестра. Бланка была идеальным товарищем; отец мучился с нею до тех пор, пока не заставил хоть кое-как учить уроки, лишь бы она не ходила в отстающих по всем предметам, и благодаря ей мне нетрудно было лишний раз блеснуть своим всегдашним усердием и трудолюбием. Но хотя меня постоянно ставили ей в пример, – разве что собаки умеют взирать на хозяина, который к тому же не слишком их ценит, с такой преданностью и радостью в глазах, с какой Бланка смотрела на меня. Был несказанно горд за меня и отец, однако в нем рядом с этим чувством жило опасение, как бы в один прекрасный день я не занялась воспитанием их самих, такие же чувства питала ко мне и мама, по никогда и никто не гордился мною так, как Бланка.
Отец мой был прекрасным педагогом, за свою школьную жизнь, будучи ее наблюдателем или участником, я не запомнила в своем окружении второго такого страстного воспитателя, как он. Если в этой профессии могут быть герои, таким героем был мой отец, личность во сто крат более сильная и цельная, нежели я, ведь я всего лишь прилежна и образованна и, хотя исполняю свои обязанности аккуратно и безукоризненно – так же безукоризненно могла бы делать любое дело, какое бы мне ни поручили. Но для отца школа была не просто местом работы, а храмом, не просто хлебом насущным, а воздухом, без которого нельзя дышать. Он всегда хмурился, если те истины, в которые он свято верил, опровергались буднями жизни: он вставал в тупик даже тогда, когда не выдерживали испытания и более простые и наивные утверждения: если заяц оказывался не труслив, а лиса – не обманщица. Позднее, уже сама став учителем, я вдруг поняла, почему он ни разу не позволил себе вспылить даже в нашем беспокойном доме. Воспитатель, навечно поселившийся в его душе, в сущности, был рад задаче – наполнить крошечный мозг, предоставленный в распоряжение моей матери, хоть каким-нибудь содержанием и приучить ее, как первоклашку, не только завивать волосы, но и время от времени мыть их, а заодно и чистить туфли.
Но разговор я хотела повести не об этом. А о похвальных грамотах. В ту пору мы спали еще в одной спальне с родителями, лишь позднее нам с Бланкой отвели отдельную комнату. На тумбочке горела маленькая лампа, и при ее свете, проснувшись среди ночи, я увидела, как отец ходит взад-вперед по комнате, выдвигая и задвигая ящики. В этих ящиках хозяйничала мать, и там всегда царил невообразимый хаос: по существу, только Бланка да я догадывались, что в них содержится, – мы без конца копались в их содержимом и всегда натыкались на предметы непонятного назначения, разжигавшие наше любопытство. Мама знала, как не любит отец, когда что-нибудь валяется, и поэтому, заслышав его приближающиеся шаги, хватала неприбранную вещь, засовывала ее в первый попавшийся комод или на ближайшую полку, где она была совсем не на месте, и тотчас о ней забывала. Когда эта вещь оказывалась нужна, найти ее мать, разумеется, не могла, вываливала на пол все подряд, так что мы, словно вброд, пробирались через завалы разного хлама, чаще всего как раз тогда, когда родителям нужно было уходить. Отец принимался упрекать маму, что-то объяснял, о чем-то умолял, мы, как две мышки, бесшумно шмыгали вокруг, и, если бы мама умела вести себя так, как папины ученики в школе или хотя бы изобразить раскаяние, как Бланка, если бы она – ведь отец ничего больше не ждал – признала его правоту, отец тотчас смягчился. Однако мама была неспособна признать за отцом право воспитывать себя, она смеялась ему в лицо, заявляла, что она сама взрослый человек, и если ему не нравится, как она ведет хозяйство, пусть наймет себе прислугу порасторопней, чем Роза, небось у майора Темеш за всем смотрит, а какая у Хельдов прекрасная помощница Маргит, – или же принималась кричать, что он невыносим со своей манией порядка, и тогда начинались убийственные сцены, где одно из действующих лиц визжало и размахивало руками, другое приводило аргументы и строило доказательства, а мы, словно немотствующий хор любопытных, только глазели. Наконец кто-нибудь из нас обнаруживал пропавшую вещь, можно было отправляться, и по тому, как родители держались, как они шли бок о бок, было видно, что случившееся не в счет, гроза прошла, и отец, возможно, чувствовал бы себя даже несчастным, если бы достиг своей цели – тогда бы во всей семье оставалось дрессировать и воспитывать только Бланку, а переломить маленького ребенка для него являлось не столь уже важной и трудной задачей.
В ту ночь он разыскивал пуговицу от рубашки. Заглядывал во все мыслимые и немыслимые уголки, сновал при свете ночника туда-сюда, зная уже, что в ящик со швейными принадлежностями залезать нет нужды, в нем только бумага для писем да чашка с отбитой ручкой, которую давно пора бы приклеить. Я приподнялась, села на постели и стала за ним следить, он ничего не замечал, продолжая ходить взад и вперед. Лица матери я не видела, только обнаженные плечи и спину, они были очень красивы, и даже во сне от них исходило ощущение удовлетворенности. О сексуальной жизни я знала мало, но уже тогда чувствовала, что ночью люди могут доставлять друг другу какое-то особое наслаждение, более сильное и яркое, чем любые дневные огорчения. Бланка спала, видна была лишь часть ее щеки.
Не знаю, почему я вдруг испытала к отцу такое глубокое сострадание и такую любовь, какой не чувствовала за всю мою жизнь и не чувствую даже теперь, когда знаю, чем и как он живет и что может значить для него наступившая слепота. Наверное, оттого, что была ночь и тишина, я угадала, как ему, в сущности, одиноко и какие тяжкие мысли бродят в его бессильно опущенной голове.
– Пуговицы на кухне, – наконец шепнула я, когда он снова принялся обшаривать спальню и еще раз до дна обследовать все ящики; у меня сжалось сердце, ведь я знала, как много он работает и как уже, должно быть, устал. – На кухне, в чашке от весов.
Он опустил рубашку, что держал в левой руке, взглянул на меня и молча кивнул. Не похвалил за подсказку, не промолвил ни слова, – наверно, чтоб не мешать спящим; сложил вместе обе ладони и прижался к ним щекой, давая понять, чтоб я засыпала. Но я не заснула, стала ждать его возвращения, боялась, что Роза с вечера обнаружила эти пуговицы, засунула куда-нибудь еще, и он проходит зря. Однако вернувшийся отец держал в руке картонку с пуговицами и, найдя иголку с ниткой, принялся шить.
Я слезла с постели и, тоже ни слова не говоря, подошла к нему, взяла из его рук рубашку и иглу. Пока я работала, он стоял возле и смотрел, я была еще совсем маленькая, но очень ловкая, такая же аккуратная, точная и методичная, как он сам. На стене, куда падал свет ночника, от мелких движений руки шевелились тени. Стояла тишина, только едва слышно дышали мама и Бланка. Отец стоял, я шила, и в моих руках сверкала приготовленная было к утру чистая рубашка, у которой на самом видном месте не оказалось пуговицы – после стирки ее такой и положили в шкаф.
Когда я закончила, он шепотом поблагодарил и вышел. Я забралась в постель, меня снова сморил сон, отец больше не входил, закрылся, наверное, в рабочем кабинете, он ведь часто не спал по ночам, писал статьи в специальные журналы или стихи и пьесы по случаю школьных событий и много-много писем. Поэтому я очень удивилась, почувствовав, что он вновь стоит возле моей постели; взглянула на него смущенно, с каким-то несколько неприятным ощущением – может, что не так сделала? От всякой неудачи я приходила в отчаяние, не могла перенести даже малейшего промаха. Сна как не бывало.
В руке отец держал какую-то бумагу. Я не понимала, чего он хочет, вероятно, просто поцеловать, прежде чем и самому наконец улечься снова, но он не двигался, продолжал стоять, держа в руках листок, который, таинственно мерцая, белел в свете лампы, совсем как рубашка, что незадолго перед тем сверкала в моих руках. У меня мелькнула догадка, – по какой-то непонятной причине отец хочет, чтоб я взглянула на то, что он написал, прочла то письмо или записку, которую он держал. Я протянула руку, пальцы его отпустили листок, и он упал ко мне на одеяло. Только тут я увидела, что это такое, и кровь прихлынула к моему лицу.
Отец был директором той самой школы, где мы все учились. Он ввел в школе такое новшество, чтобы все похвальные отзывы и порицания записывались на золотые и черные листки. Эти листки ученик собирал и в конце года сдавал учителю, который их подсчитывал, оценивал, и тот, у кого золотых листков оказывалось больше всех, получал награду: на заключительном торжестве отец сам ставил его рядом с собой на возвышении посреди школьного двора, пожимал ему руку и дарил книгу. Золотые или черные листки выдавались и по просьбе родителей, если дома ученик вел себя особенно хорошо или из рук вон плохо. Не настаивая на наказаниях для своих дочерей, родители весьма часто просили для них золотой листок – за какую-нибудь исключительно добросовестную работу по дому. У нас, хотя поводов было хоть отбавляй – ведь рядом с мамой и Бланкой мне, ребенку, приходилось быть за взрослого – до таких просьб никогда не доходило, в вопросах беспристрастности отец проявлял крайнюю щепетильность. Черный листок для Бланки он уже просил, а золотой для меня – ни разу.
И вот теперь в его руке было письмо, адресованное моему учителю: «Господин учитель, так как моя дочь Ирэн пожертвовала сном ради труда на благо ближнего, – соблаговолите выдать ей, если сами сочтете уместным, похвальную золотую грамоту. С почтением Элекеш Абель, отец».
Мы посмотрели друг на друга – он с той едва заметной улыбкой, которая очень редко появлялась на его лице и всегда красила его неправильные черты, а я без улыбки, растерянно, вот-вот готовая расплакаться. Все время, пока я ходила в школу, меня каждый раз в конце учебного года удостаивали чести стоять на возвышении рядом с отцом, дожимавшим мне руку, в момент вручения книги я слышала хлопки и упивалась сладостью победы и успеха. В том году у меня не было никакой надежды на награду; заболев скарлатиной, я пропустила целую учебную четверть и едва смогла наверстать отставание; отличных отметок, правда, хватало, но три месяца меня просто не было в школе, и все это время не было оснований для получения золотых листков. Я почувствовала острую боль, словно мне разбередили рану, – только теперь он пришел мне на помощь, лишь в этот раз, а ведь внимательной и доброй я была всегда; если не считать его самого, я одна убирала за Бланкой и мамой, так что такие листки ему следовало бы просить для меня каждый день, потому что, не будь меня, дом в его отсутствие развалился бы, поддерживать его одной Розе не под силу. Порой, когда отец бывал угрюмей обычного и маму его молчание пугало, она могла и приврать; то, что натворила сама, сваливала на Бланку, Бланка принимала на себя все, даже когда ее больно наказывали, зная, однако, что потом мама всегда ее чем-нибудь утешит – яблочком, шоколадкой, ленточкой. Мама и Бланка были заодно, только я, порядочная, сама по себе.
– Ты рада? – шепотом спросил отец, и снова на его лице появилась едва заметная улыбка. – Ты очень хорошо вела себя этой ночью.
Я не отвечала, он принял мое молчание за согласие и, как это уже случалось раньше, погасил свет, чтоб я не видела, как он будет раздеваться. Я еще не успела заснуть, как по мерному дыханию отца поняла, что он уже спит. Кинга засыпает так же легко, безо всякого перехода. Дыханье спящих чуть колыхало воздух. Я чувствовала себя бесконечно несчастной, как это бывает только у детей. Бумага лежала рядом на стуле, куда я с вечера должна была класть вычищенное назавтра платье и свежее белье, я пошарила, нашла бумагу и смела ее на пол.
На другой день я отнесла бумагу моему учителю, получила за нее листок и опустила в пакет, где они у меня хранились, такие же точно пакеты были у всех воспитанниц, матери делали их по единому установленному образцу; мой пакет отец склеил, когда я была еще первоклассницей. Бланка, от скуки делавшая вид, будто подражает мне, заметила в моих руках пакет и достала свой. Там лежало пять золотых грамот, откуда так много – одному богу известно, у нее столько и за целый год не набиралось. Теперь я относилась к отцу уже более миролюбиво, чем прошлой ночью, и подумала, сколько же ему пришлось с нею помучиться, прежде чем либо добиться, чтоб она пять раз отлично ответила урок, либо сделать ей такое суровое внушение, что она и впрямь подтянулась и вела себя образцово.
Бланка вынула свои листы, сложила из них узор, в недоверчивом восхищении еще раз пересчитала, действительно ли их так много. Злое и горькое чувство овладело мной, и – что меж нами случалось крайне редко, – я набросилась на нее с криком: как она мне надоела, хвастается своими дрянными бумажками, а сама ничего не умеет и совсем не трудится, а я хоть и не смогу стать в этом году первой, – все равно старалась как могла; однако мне уже не собрать столько листков, сколько надо.
Бланка, уже привыкшая к ругани, ничего мне не ответила, молча собрала свои вещи и убралась прочь с моих глаз. В тот день я ее почти не видела, Бланка ушла к Хельдам, мы кричали, звали ее домой, но она не вернулась. Маме пришлось пойти за ней, нашлепать по попке, та разревелась. Сидела весь вечер надувшись, потом вдруг, без всякой причины развеселилась, принялась шалить и озорничать, бочком-бочком прилезла ко мне и поцеловала. Я отняла ее руки – в тот вечер Бланка была мне невыносима, – но она очень старалась помириться, и где-то в глубине души я чувствовала, что она неповинна в том, из-за чего я на нее сержусь. В тот день мы еще раз поссорились, – в нее словно чертенок вселился, затеяла возню вокруг моего портфеля, что всегда бесило меня. Как и отец, я терпеть не могла, когда прикасались к моим вещам, которые всегда содержались в чистоте и порядке. Я оттолкнула ее от моего портфеля – так, что она испуганно взвизгнула, отец поинтересовался, что это у нас происходит, как мы себя ведем. Тогда мы наконец затихли. Мама у зеркала примеряла шарф, оценивая, хороша ли она была бы в роли испанской плясуньи; волосы свои она заколола на самой макушке огромным высоким гребнем. Бланка взирала на нее с восхищением, только нам с отцом было, кажется, немножко за нее стыдно.
На другой день мы сдали свои листки, их судьба меня не интересовала, я ведь знала, что мне все равно не быть первой. И все-таки, когда на последнем уроке назвали мое имя, меня охватила безумная радость, наверное, как у взрослых от вина; на какое-то мгновение мелькнула надежда, а вдруг меня пожалели, вдруг на педсовете решили – не важно, сколько у Ирэн Элекеш похвальных листков, она всегда была самой первой ученицей, пусть так будет и теперь, присудим ей первое место и без листков. Я вышла к кафедре. В ушах у меня шумело.
– Ну, как же ты укладывала свой пакет? – улыбнулся мой учитель. – Ай-яй-яй, Ирэн!
Я воззрилась на него с удивлением. Он увидел, что я не понимаю его намека, и покачал головой. Вытряхнул содержимое моего пакета, которое вдруг распалось на две части, словно разложенное невидимой рукой. Одни листки были гладкие и легли на стол ровной блестящей стопкой, другие валялись кучей, рваные, засаленные, в пятнах от шоколада и чернил. Среди моих незапятнанных похвальных грамот затесалось пять испохабленных золотых листков.
– Ты случайно прихватила с собой и листки твоей сестры, – сказал учитель. – Не следует играть похвальными грамотами.
Он смел в пакет чистые листы вместе с грязными и вернул их мне. В том учебном году первой ученицей стала Клари Калман, у нее оказалось самое большое число похвальных листков. Урок тянулся медленно, за всю мою жизнь никогда так медленно не тянулись уроки. На перемену я вышла первой и сразу кинулась в класс Бланки. Моя младшая сестра стояла в углу, к двери спиной. Ее одноклассницы объяснили мне, что Бланке нельзя выходить на перемену, ее снова наказали за неряшливость. Забыла дома свои листки.
Я подошла к ней. Она, должно быть, почувствовала, что кто-то стоит рядом, и обернулась. А когда увидела – кто, вспыхнувшее лицо осветилось улыбкой. Никто не умел улыбаться так, как Бланка.
Отец приучил меня к дисциплине, даже ребенком со мной не случалось такого, чтоб я потеряла самообладание или перестала различать, что можно, а что нельзя. Это был первый случай, когда гнев оказался сильнее меня. Я выхватила ее листки, разорвала на мелкие кусочки и швырнула ей в лицо, в грудь, под ноги.
– Идиотка, – крикнула я, – думаешь, мой портфель – дом для твоих кукол? Что ты суешь ко мне свои грязные бумажки? Думаешь, у меня и без того мало неприятностей?
Она не ответила, только взглянула на меня, и на глаза ее медленно навернулись слезы. Она не опустила глаз; с укоризной и глубокой грустью посмотрела мне в лицо. Я сцепила пальцы, чтобы не показать, как дрожат у меня руки. Теперь я уже поняла, на что она надеялась, когда тайком засунула в мой пакет свои похвальные грамоты, мне стало ясно еще, что она совершенно не наблюдательна, ей и в голову не пришло, что на каждом листке написано ее собственное имя, класс и тот поступок, за который листок выдан, а, значит, я никак не могла бы завоевать первое место даже с помощью пяти ее жалких похвальных листов.
Мы стояли молча, не зная, что сказать друг другу. Одноклассницы визжали, какая-то девочка выскочила из класса, побежала за тетей учительницей, и из коридора было слышно, как она кричит, что старшая сестра Элекеш ругается и мусорит в классе.
Теперь я тоже почувствовала, что за моей спиной кто-то стоит. По глазам Бланки тотчас поняла, кто это, можно было не оборачиваться, и так все было ясно. За исключением того, что произойдет теперь.
– Что случилось? – спросил отец. – Что здесь происходит?
– Я обманщица, – не задумываясь ответила Бланка, повернулась к нам обоим спиной и, как в церкви во время обедни, опустилась в углу на колени. На колени в нашей школе ставили в знак самого большого наказания. Отец не стал спрашивать у нас объяснений, он взял меня за плечи и поставил на колени среди бумажных обрывков. Немного постоял позади, потом я услышала, как хлопнула дверь. До сих пор за всю мою жизнь меня не наказывали ни разу. Я горько плакала от стыда, не видя перед собой ни стены, ни Бланки. Но Бланку я почувствовала – минуту спустя она наклонилась и поцеловала меня.
Госпожа Хельд одевала девочек, Балинту помогала госпожа Темеш. Дети привыкли к этим костюмам, репетировали в них уже несколько дней, могли бы надеть их и сами, но им должны были помочь взрослые – это тоже входило в правила игры. Элекеш взволнованно носился из комнаты в комнату, и хотя среди детей страшно было вначале одной Генриэтте, волнение постепенно передалось и другим выступающим. Когда все они уже были в костюмах, госпожа Хельд принесла губную помаду и карандаши для бровей; гримировала уже всех сразу, в одной комнате, – подкрасив губы Ирэн, тут же принялась за Балинта. У мальчика ощущение вымазанных краской губ вызвало отвращение, первым побуждением было тут же вытереть их, что, разумеется, исключалось; зато девочкам эта процедура доставила истинное наслаждение.