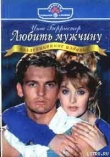Текст книги "Убить Зверстра"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Маньяки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
– Болтушка, – совершенно резонно заметила Ясенева и в порыве негодования отвернулась, ощущая явный дискомфорт оттого, что я вижу ее больной и беспомощной.
– Да, так я и говорю, что вы подобрали коллектив из людей, подобных себе. Ну, помните: дурак дурака, рыбак рыбака… Это как раз тот случай. Кроме того, мы же еще и учимся у вас, невольно с хорошим перенимаем и плохое.
– Уточни! – требовательно произнесла она, меж тем как глаза ее округлились страхом, смешанным с удивлением.
Боже, как она боялась навредить людям!
– Попробуем чуточку оглянуться, – разоткровенничалась я. – Что нас окружает? Ваша впечатлительность, тонкие чувствования, возвышенные эмоции. Так что же вы хотите? – в моем тоне прорезалась-таки искренность: – После ваших упражнений по подбору рифм со мной и не такое могло случиться!
Думаю, что моя околесица не была бесполезной. Не в том смысле, что помогала подсознанию Ясеневой в его катарсисе, а в том, что в поисках зла, к которому она невольно прикоснулась, еще не зная об этом, натолкнула ее интуицию на вполне конкретную фигуру. В принципе, я говорила правдоподобные вещи, и придуманная мной аналогия диагнозов напомнила ей другую аналогию, одинаково отразившуюся на наших подсознаниях. С этих пор она поверила мне, и ей этого было достаточно. Дальнейший треп она слушала автоматически, как слушают шум прибоя или шорох листвы, думая о своем.
А может, и правда все предопределено и между нами существовала та взаимосвязь, которая мне казалась придуманной для ее пользы, а на самом деле была истинной и обернулась благом, дорого стоящим Ясеневой? Но тогда я ни о чем не догадывалась, да и не догадалась бы, если бы она позже не рассказала об этом сама.
– Напоминаю, ты еще не рассказала, что же с тобой произошло.
– Да все Алешка! Такая уродина! И что я в нем нашла? – я вздохнула отнюдь не притворно, потому что дальнейшее в моем рассказе было той правдой, о которой я вас предупреждала. – Представляете, вчера заходит в наш магазин Светка, подружка моя, блондинка крашенная, да вы ее знаете, и говорит, что он обтирает наши углы с какой-то кондукторшей – рыжей, как и он сам. «Познакомься, – говорит он Светке, едва завидев ее. – Это моя коллега по работе». Родство душ! Светка говорит мне: «Ехала в аптеку – они уже стояли. Еду обратно – еще стоят. Решила зайти к тебе и сказать». Она оставалсь у нас не меньше часа. Потом ушла, но через полчаса звонит: «Когда я вышла, они все еще стояли, и не видно было, чтобы собирались расходиться». Как вам это нравится? Я прямо вся на нервах доработала до конца дня. Знаете, чего мне стоило не выйти и не устроить им скандал? Наверное, надо было так и сделать. Но я сдержалась, а ночью, нате вам, – бессонница. К утру встала в туалет и потеряла там сознание. Чуть не разбилась о раковину. Хорошо, мама еще сидела на кухне с квартальным отчетом. Подхватила меня, значит, откачала, вызвала «скорую». Ну, а дальше все пошло, как по маслу. Я им сказала про вас, куда я хочу попасть и почему. Приезжаем сюда, а тут Надежда Борисовна мне и говорит, что у вас, мол, тоже ночь была тяжелая, с приступом.
– Что она еще говорила? – отсутствующе спросила Ясенева.
Как видно, моя судьба ее беспокоила меньше, значит, подсознательно почувствовала, что я вру. Вот вам, бабушка, и Юрьев день! Я, конечно, обратила внимание на ее витание в облаках, но убедила себя, что она вновь готовит для меня упражнение по подбору рифм.
– Говорит, мол, твоей начальнице сон дурной привиделся, и на почве жуткого сна у нее развился приступ. Сказала, что нельзя вам плохие сны смотреть.
– Значит, говоришь, Павел Семенович тебя не привозил ко мне?
Вот человек! Возле нее живешь, как под микроскопом, такая вредная работа. Я поперхнулась от неожиданного счастья разоблачения, но она меня подзадорила:
– Что же ты замолчала? Рассказывай дальше.
– Гоголева, как только явилась в отделение, пошла на новеньких посмотреть. Но в эту ночь из ургентных была я одна, она и задержалась возле меня. «Не усмотрели, – говорит, – вы свою Дарью Петровну. А теперь у нее медленно выздоровление идет. Уж и не знаю, как сообщить об этом мужу». Так что Павел Семенович, – заверила я, – пока что ничего не знает, – закончив лечебно-фантастический рассказ, я облегченно вздохнула и откинулась на подушку.
Елизавета Климовна, спасибо ей, дабы не тратить время зря, а наоборот, провести его с пользой для дела, назначила профилактическое лечение моей изморной язвы желудка, и я регулярно принимала таблетки, ходила на уколы и сидела на диете.
11
Наконец, события начали приближаться к тому моменту, о котором он так сосредоточенно размышлял, и к нему в квартиру позвонили. Как и следовало ожидать, это пришла Лена за своими ключами. Ее руки оттягивали вниз две огромные сумки с продуктами.
Видно было, что она спешила попасть к нему, так как он сказал, что плохо себя чувствует и хочет пораньше лечь в постель. Кроме того, в этот вечер ей предстояло накормить своих прожорливых, как плодожорки, пацанов, оголодавших к тому же на общепитовских харчах в поездке. Хотя какой сейчас общепит? Его нет, в кафе да забегаловках, не говоря о ресторанах, дорого и все деликатесы готовят на кубиках Галины Бланка. Пусть сами и едят эту синтетику! Она была уверенна, что сыновья перебивались всухомятку бутербродами, хорошо, если по утрам пили чай.
Собаки тоже всю неделю сидели без горячей пищи. Теперь надо приготовить им кашу, рыбу да накормить, а то достанется ей за нерадивое отношение к ним.
От усердия шапка у Елены Моисеевны сбилась набок, а на лоб и уши, выбившись из-под нее, упали взмокшие от пота пряди волос. Это с неприязнью отметил Зверстр. Возвращая ей ключи, он пропустил мимо внимания пару опасливых мыслей, не оставивших после себя ни разумения, ни поступка – лишь выжавших в кровь каплю адреналина, от которого гулче забилось сжатое, как пружина, сердце.
Закрывая за посетительницей дверь, он проглотил подступивший к горлу нервный комок и это ему, на удивление, удалось. Давящий шарик спустился вниз по пищеводу, процарапал его когтями острой спазматической боли, и провалился в желудок, разлившись там подрагивающим холодком.
Зверстр посмотрел на часы, отметил, что в запасе у него уйма времени, которое он, все взвесив и ко всему приготовившись, не знал, куда деть. Он снова сел в кресло и, даже не поглядывая больше на экран телевизора, вперил бессмысленный взгляд куда-то повыше него, в стенку.
Ему следовало хорошо отдохнуть, тем более что он заработал сам у себя это право. Он привычно вытянулся в удобном кресле во весь рост, отбросив далеко вперед напряженные ноги и заведя за голову сцепленные замком руки. Все его тело, опиравшееся затылком, точкой седалища да пятками о твердь предметов, приобрело неестественную, устрашающую окаменелость.
На торжественно убранном поле его ожиданий приплясывали мелкие чертенята, выраставшие от его неудержимых мечтаний прямо на глазах. Он вызвал в своих ощущениях гамму прикосновений, прошелся по ней от самых легких, еле заметных, до резких и жалящих, после которых его руки обагряла яркая липкая жидкость, поглощаемая затем разгоряченным ртом. Он создавал из этих осязаний такие диковинные букеты, которые можно было сравнить только со смесью тончайших ароматов или пряных насыщенных запахов, или терпких волнующих благоуханий, какими одни духи отличаются от других. Мысленно он записывал формулы этих сочетаний, создавал новые формулы и опять претворял их в наборы прикосновений, расширяя возможности своих ощущений за пределы того, что могли дать пять каналов, связывающих его с внешним миром. Он творил различные комбинации, варьируя касания не только по интенсивности, но и по длительности. Вот он исполняет глиссандо первого знакомства, пробегаясь подушечками пальцев сверху вниз по обнаженному телу. И замирает, упиваясь страхом жертвы. Теперь прижался передней частью туловища к покрывшейся испариной боли спине, и вонзился в мякоть чужого живота. Далее, не ослабляя захвата, впитывает в себя толчки конвульсий, подстегивая их медленными движениями рук в развороченной утробе.
Зверстр поднимался над воображаемой картиной и созерцал ее астральным зрением со стороны, откуда грудь, спина и бока его несчастного партнера виделись под прямым углом.
Для него не существовало ни дня, ни ночи, ни тьмы, ни света, не было ни снегов за окном, ни цветущих лугов в памяти о прошлом, отсутствовали ароматы, потеряли вкус вещи, ахнув от ужаса, отлетели прочь звуки. Во внутреннем мире Зверстра обитали только прикосновения, их причудливые смеси, их неестественные соединения, мелькающие калейдоскопом впечатлений. Там перемежались разрозненные точки, переживаемые сначала по отдельности, затем они увлекались в вакханалию осязаний большими участками тела, которое затем погружало туда себя целиком.
Так он тешился и час и два, пока в душе не возникло состояние то ли усталости, то ли пресыщения. Оно было подобно окончанию горячего южного дня, проведенного у моря: вот наступил момент, когда истомленное солнцем оцепенение медленно спало, замершая под раскаленным небом жизнь проснулась и продолжается дальше. Прелюдия яростного жара закончилась, волна нетерпения отступила, скопище скачущих демонов угомонилось.
Внутренняя битва, гладко и мягко обволакивающая его судорожной сладостью во всех концах разбухшего, налившегося похотью тела, отгремела. Зверстр наполнился одуряющим душевным спокойствием.
Он поднялся и стряхнул с себя усладное наваждение, расправил плечи, гордо и высокомерно озирая свое отражение в зеркале, свой уютный уголок, свои владения. Ему казалось, что кромешная тьма, воцарившаяся за окном, отменила над миром не только власть других людей, но и власть законов природы. Внезапно стены его квартиры раздвинулись вдаль, и он увидел созданную и покоренную им беспримерную империю, разрушающуюся к утру и вновь возводимую к ночи его прихотью, расширенную потеснившимся солнцем до неизмеримости и огражденную полной разрухой и нищетой общества от любого посягательства. Здесь не имело значения ничего, кроме его воли, воли бога ли, изгоя ли – все равно. В эти минуты он не хотел выверять себя ни требованиями внешней морали, ни внутренней нравственностью, истребив на время миазмы пресного, лукавого прошлого, доставшегося его памяти от бабушки.
Он спустился с высоты, на которую поднялся, чтобы там перестроить, перековать свое творение – себя самого – в того, кто проведет эту ночь не по законам людей, и вновь принял личину, маскирующую его под их внешний облик. Предстояла настоящая бальная ночь, и он испытывал некоторое утомление от подготовки к ней. Он выпил разогревающую его порцию насыщения, чтобы тогда, на балу, не сгореть от первых чувствований, а растянуть их надолго, не спеша, медленно наполняясь экстазом. Он не корил себя, что в последние минуты не прокручивает в голове план замысла, не старается учесть все детали этого дерзкого, беспримерного наслаждения. Нельзя предусмотреть все, исключить момент опасной случайности, нельзя планировать жестко и пытаться провести безукоризненное деяние, потому что тогда оно, как все совершенное, навеет скуку, притупив опьяняющее чувство риска и импровизации. Пусть что-то останется недодуманным, недоучтенным, не вполне подготовленным, пусть будет простор для экспромта, ведь неординарность или хотя бы непривычность обстановки сообщали пикантность его эмоциям.
Соседская дверь вновь загрохотала. Черный морок затаился у глазка, выжидая, когда Елена Моисеевна справится с замками и уйдет на вокзал встречать сыновей. Псы за дверью жалобно поскуливали, срываясь на завывание.
Минутой позже Зверстр выглянул в окно и увидел в свете фонаря, как соседка заспешила к трамвайной остановке. Теперь она не вернется, даже если что-то забыла. Он совсем выключил телевизор и прислушался к звукам, обитающим в доме.
К пожилой чете, жившей наверху, видимо, приехала в гости дочь, у которой были две девочки дошкольного возраста, такие живые и резвые, что своими прыжками и возней над спальней Зверстра доводили его до слез, и он желал им одного – поломать ноги и остаться обездвиженными на всю их дальнейшую бесполезную жизнь. Скоро эти гости будут уходить домой, надо постараться не пересечься с ними в подъезде.
Рядом тоже гостил внук, только-только научившийся ходить, но уже освоивший игры с мячом. Он ударял им о стенку, за которой размещалась гостиная Зверстра, а потом ловил назад, смеясь и шлепаясь о пол. Этого малыша Зверстр любил больше: во-первых, это был мальчик, а во-вторых, потому что в гостиной он проводил время редко и этот шум его не раздражал. Об этих гостях можно не думать – входная дверь той квартиры выходила в соседний подъезд, так что встреча с ними ему не грозила.
С другой стороны, за стенкой спальни, у Сухаревых было тихо, только из коридора через пустое пространство подъезда доносился сначала тихий и жалобный, а затем громкий и безысходный вой Рока и Бакса.
Только сейчас Зверстр подумал о том, что надо что-то сделать с собаками. Выпустить их на волю? Но их, во-первых, будут видеть, что нежелательно, а во-вторых, они никуда не убегут, а будут сидеть на лестничной площадке и проситься в квартиру, что еще хуже, так как переполох поднимется раньше допустимого срока. В квартире же их нельзя оставлять тем более, потому что они своим собачьим умом сразу поймут, что он собирается сделать с их хозяевами, и разорвут его на части раньше первых его телодвижений.
Значит…
Пока он собирался с мыслями как поступить с собаками, у него в квартире раздался телефонный звонок. Он взял трубку.
– Это Лидия Пархомовна тебя беспокоит, – сказала соседка снизу, не выдержавшая душераздирающего собачьего воя. – Что там у твоих соседей происходит, что собаки так воют?
– Не знаю. Наверное, они одни дома. Лена поехала на вокзал встречать мальчишек.
– Они часто остаются дома одни, но обычно так не воют. Что-то там не то.
– Да, вроде, все нормально. Днем я их выгуливал, ничего подозрительного не заметил.
– Ох, не к добру это…
– Ну что вы! Без хозяев они, в основном, остаются днем, а ночью, пожалуй, впервые. Вот и воют.
– С ума можно сойти! Утихомирь их как-нибудь, у тебя же есть ключи от квартиры.
– Нет, Лена забрала, когда с работы пришла, – соседка продолжала молча сопеть в трубку, и он прервал возникшую паузу: – Потерпите немного, они скоро вернутся.
– Когда точно, не знаешь?
– Лена ушла минут десять назад, а вот когда прибывает поезд, я не знаю.
– Выходит, что они вернутся не раньше чем через полтора часа!
– Вы думаете, так долго? – искренне удивился Зверстр.
– Считай: полчаса на дорогу туда да столько же обратно. Ну и накинь полчасика на то, что она загодя поехала.
– Действительно, – произнес он уставшим голосом; ему вдруг показалось, что он перемечтал, перегорел и в результате потерял форму, что ничего у него не получится. – У меня температура, голова раскалывается. Сейчас попробую выйти, поговорю с собаками через дверь. Может, это подействует. А если нет, то заткну уши ватой и постараюсь уснуть. Вы уж меня извините, Лидия Пархомовна, если вдруг не услышу вашего звонка.
– Я больше не буду, звонить выздоравливай с Богом. Если что – сам звони, а то – стучи по батарее, – она заговорщицки засмеялась и попрощалась.
Это судьба, – подумал Зверстр, кладя трубку, только сейчас вспомнив, что у него есть запасные ключи от квартиры соседей. Он тут напланировал, что поступит и так, и эдак: позвонит к ним, Лена откроет и он… А если бы открыла не Лена? Беспокоился: как сделать, чтобы их чертов пронзительный звонок, особенно зловредный в ночной тишине, не зафиксировался в памяти других жильцов; как бы сделать так, чтобы не гремела их дурацкая бронированная дверь, до сих пор не обитая деревом, если он не будет звонить в дверь, а предварительно позвонит по телефону, придумав к тому предлог. Лучшее, что он смог придумать, это капнуть накануне на скрипящие дверные петли машинным маслом. Это как-то решало проблему скрипа.
Оказывается, можно сделать все гораздо проще, потому что у него есть ключи.
***
Около пяти лет назад ему впервые доверили эту квартиру на целый месяц. Елена Моисеевна, тогда уже работавшая в своей «крутой» фирме, щедро заплатила вперед за хлопоты, с лихвой оставила денег на корм для собак. Николай Антонович тут же занял у него большую их часть под предлогом, что не успел накопить заначку на отпуск, выпавший внезапно раньше планируемого срока.
– Я там на ее покупках сэкономлю и по приезде сразу же верну, – поклялся он. – Понимаешь, просто не хочу нервничать, хочу быть уверенным, что у меня имеется копейка на ежедневный стопарик.
Деньги, взятые в долг, он таки вернул в срок. Но обозленный Зверстр, пострадавший ради того, чтобы сосед на отдыхе «не нервничал», вынужден был весь месяц кормить собак на свои деньги, и он, черт знает зачем, изготовил дубликаты их квартирных ключей. Бывают же такие необъяснимые порывы! Он принес их домой, бросил в посудный шкаф, и с тех пор ни разу не взял в руки даже для того, чтобы проверить, подходят они к замкам или нет.
Запасные ключи нашлись между мешочками с крупой. Зверстр смахнул с них пыль, достал масленку к швейной машинке, взял мощную стамеску, толстый деревянный брусок, тщательно собрал все необходимое, чтобы в течение ночи ему ничего не потребовалось, и вышел из своей квартиры.
Закрывая дверь, он начал обзываться к собакам, голосом отвлекая возможных свидетелей от звяканья ключей в его замках. С той же целью он пару раз постучал по гремящей двери соседей, выкрикивая успокаивающие фразы, адресованные взбунтовавшимся тварям.
– Рок, Бакс, что это вы разволновались? Успокойтесь, сейчас придет Лена, привезет Эдика и Гошу, и вам будет хорошо и весело, – приговаривал он, постукивая по двери.
Между тем, деревянный брусок положил перед открывающейся створкой соседской двери, ровно посередине ее ширины, отступив от порога сантиметров на десять. Затем поддел нижний край этой створки отточенной стамеской, ввел острый ее край в щель между порогом и дверью, опер стамеску о брусок и слегка надавил на ее свободно свисающий край ногой. Дверь, оставаясь закрытой на все замки, легко приподнялась миллиметра на три-четыре, на столько же обнажив ось петель, на которых она висела. Он капнул из масленки по пару капель на каждую из петель. Смазка так жадно поглотилась сухим соединением деталей, что даже не дала потеков, неизбежных в таких случаях. Дело было сделано. Смазывать петли при открытой двери он не решился: воющие псы могли выскочить на площадку, и тогда он был бы разоблачен со своими запасными ключами.
Зверстр снял ногу с примитивного рычага, убрал стамеску, брусок дерева и с величайшими предосторожностями открыл замки. Ключи идеально подошли к ним, не издав ни единого скрипа или звона. Послышались лишь слабые щелчки язычков, но они утонули в нарочитых звуках, искусственно издаваемых преступником.
Дверь отворилась совершенно бесшумно. Зверстр приоткрыл ее на ширину щели, в которую не смогли бы протиснуться готовые вырваться наружу собаки. Он сразу же загородил эту щель своей фигурой и проник в чужую квартиру. Закрывал дверь смелее, потому что аналогичные звуки сопровождали бы закрывание и его двери, если бы он возвращался домой после «переговоров» с собаками.
За дверью Сухаревых на какое-то время залегла тишина. Затем послышалось сдавленное рычание и глухие удары тяжелых, но мягких лап о пол. Однако это никого не насторожило бы в любом случае: мало ли какие звуки издают кувыркающиеся в играх псы. Скоро прекратился и этот шум. Наступила настоящая ночь, определяемая не тем, что за горизонт свалилось безвольное солнце, а тем, что начали укладываться спать уставшие, издерганные люди.
***
Утром он чувствовал себя совершенно разбитым, опустошенным: сказывалась еще не отступившая простуда. По нервам, тронутым тленом, пронесся вихрь страха и шока, изморив ганглии, истрепав их вялые, ужасотворящие материи. Но самое главное заключалось в том, что на этот фон вырождения, на полотно не только физической, но и сознательной психической деградации он всю ночь наносил контрастные, яркие, бьющие на смерть мазки чувствований. Он изнасиловал собственную плоть до последней ее атавистической периферии. И теперь болели, высвободившись от запредельных нагрузок, не только кости, суставы, жилы, но болела даже бесчувственная морская вода, на шестьдесят процентов заполнявшая это сатанинское существо. В ней колыхались растворенные соли и минералы, она била о стенки содержащих форм, накатывала на них валом вспененной стихии, подымала со дна отравленных ДНК муть и тину и разносила по всему паразитическому организму бешеного вампира.
Без стона он не мог подняться, без хрипа не мог дышать, без крика не в состоянии был выбросить из себя чужую плоть и кровь, переварившиеся в его адской утробе и превратившиеся в темные шлаки, напоминающие человеческие отходы, как будто он был человеком. В нем воспалилось все, что могло воспалиться, за исключением успокоившихся центров мозга, больше не толкавших алчное тело садиста и каннибала на поиски наслаждений. Теперь эти центры трезво взвешивали ситуацию: утомленно, с ленцой вспоминали адекватно отразившееся в них прошлое; с убийственной бесстрастностью планировали близкое будущее, ясно представляя мотивы и последовательность своих поступков.
Его мозг, словно в эпилептическом припадке выбросивший из себя энергию уничтожения, зарядившись грозовыми молниями порока, функционировал в хорошем, здоровом темпе, ничего не упуская из прошлого, но и не опережая события. Он диктовал покорной воле Зверстра именно такое поведение, которое оградило бы его от разоблачения и сняло причиненную усталость, переросшую почти в болезнь.
Зверстр лежал бледный, похудевший, мокрый от горячечного пота, который волнами выжимался из пор, словно внутри шли катарсисные процессы обратного порядка – выбрасывались последние человеческие, светлые и чистые субстанции, утрамбовывая на дне изъеденные червями его навозные реалии.
Когда приблизилось время рассвета, опять же определяемое не тем, что озябшее солнце немощно осветило землю, переведя стрелки лучей на начало дня, а тем, что стали пробуждаться не избавившиеся от озабоченности люди, он потревожил свою соседку.
– Что-то меня всего ломит, будто я разваливаюсь на части. Но температура к утру спала. Может, надо поставить мне горчичники, как вы думаете?
– Думаю так же, как и ты, что это никогда не помешает. Надо, значит, надо. Чего скромничаешь?
– Неловко мне. Но все равно сдаюсь: грудь обклею сам, а спину подставлю вам, так и быть, – он выдержал дипломатическую паузу, а потом встревожено добавил, словно на миг забылся, а теперь опомнился: – Я вас не разбудил? Может, вы хотите еще полежать, понежиться? Так не спешите, я на работу не иду. Попробую еще денек поваляться в постели.
– Рано ты вчера на улицу вышел, – назидательно проворчала Лидия Пархомовна. – Нянчишься с этими псами, словно с детьми малыми. Женился бы лучше, а то женило совсем засохнет.
– Скажете такое… – застеснялся Зверстр. – Несчастные животные постоянно находятся без присмотра. Жалко их – сами мучаются и окружающим мешают.
– Жалостливый больно. Ладно, щас поднимусь, отворяй калитку, – распорядилась она.
Странные отношения их связывали. Зверстр почти ни с кем из соседей не общался, кроме семьи Сухаревых да этой «старухи» Биденович Лидии Пархомовны, похожей на ведьму. Но без Сухаревых он мог сто лет обойтись, они ему не были нужны. Болезненное влечение к Эдику и Гоше он мог и преодолеть, если бы их родители сами не набивались к нему так часто. Они шли на сближение, а он не противился.
Другие соседи его просто не замечали. Если бы у кого-нибудь из них спросили, что они думают о соседе из пятой квартиры и каким он им представляется, то большинство сначала удивились бы, что такой вообще тут есть, а потом, вспомнив, сказали бы, что не думают о нем ничего, а представляется он им жирным, белым, мерзким глистом. Бр-р! и ни его неизменная аккуратность – каждый день свежая сорочка и наглаженные брюки, – ни приветливая улыбка, ни наклон головы с трогательным «Извините, если что не так» не спасали положение. Его сытая мордочка молочного поросенка, толстые нервные пальцы, квадратный сундук жирной задницы, под тяжестью которого он на согнутых коленях как бы заваливался назад, вызывали неприязнь. Было в его внешности что-то непреодолимо одиозное, что живописать соседи, однако, затруднялись.
Точно так же они относились и к Биденович. Правда, не за ее внешность, вполне сносную, если не считать ног – две палки, растущие враскорячку из гарцующего ягодицами седалища, – а за пристрастие к оборотной стороне жизни. Гнездилось в ней нечто садистское или некрофилическое, сразу не разберешь. Нет, она была отличной медсестрой, сиделкой, санитаркой. Но во всем этом, как казалось, ей больше нравилось наблюдать не то, как человек выздоравливает, а как умирает. Ни в коем случае не следовало предполагать, что она способствовала второму, а не первому. Нет, она старалась помочь больному человеку. Только получалось, что выздоравливающие переставали ее интересовать, она даже проявляла к ним элементы ненависти. А тяжелобольные, безнадежные пациенты всецело поглощали. О сострадании тут и речи быть не могло. Возле них она просто сидела и с жадным огоньком в глазах наблюдала ход событий. А когда кто-то собирался оставить сей мир, то тут она и вовсе появлялась с абсолютной неизменностью – званная и не званная, – и оказывалась кстати, как нельзя более, потому что обнаруживалось, что обряд обмывания и одевания усопшего выполнить как раз и некому.
Мужья возле Лидии Пархомовны не задерживались по многим причинам, из коих очевидными были три: неспособность создать полноценную семью из-за бесплодия; жестокое пристрастие к любовным авантюрам, которых она не скрывала, а наоборот, гордилась, что умеет соединять приятное для себя с полезным для семьи, так как все ее ухажеры были людьми сановными и, как ни странно, в самом деле, не тяготились ее вымогательствами; и, наконец, назойливое однотемье в разговорах.
Последний муж продержался возле нее дольше других – около двух лет, – и то только потому, что последний год сидел дома без работы. Но как только работа у него появилась, он сразу же определил себя в другие руки.
Сейчас Лидия Пархомовна жила одна. Но это не означало, что она страдала. Отнюдь, хотя у нее были свои представления о приличиях. Не стесняющая себя строгими правилами в замужестве, она совершенно не допускала даже малейшего флирта, будучи «разведенкой». При этом открыто и с чувством законной дозволенности оставляла у себя на ночь кого-нибудь из бывших мужей, буди такое случалось.
Третья ее особенность – однотемье в разговорах – тяготила и сослуживцев, и соседей, и всех, кто ее знал. Соседям приходилось особенно тяжело, ведь они не могли уклониться под тем предлогом, что у них много работы и разговаривать некогда, как делали коллеги. Раз уж вышли во двор погулять с внуками, домашними питомцами или сами по себе, то уж вынуждены были слушать ее рассказы о различных «случаях». «Случаев» Лидия Пархомовна знала неисчислимое множество, и все они сводились к тому, кто как умирал, что обнаружилось при обмывании покойника, и во что его одевали подлые родственники. Биденович смаковала подробности агоний, рассказывала об этом истово, подбирая сухие бесцветные губы. Она не рассуждала, не комментировала, не строила догадок – просто живописала. В ее рассказах можно было лишь уловить симпатию к тем, кто расставался с жизнью долго и тяжело, и неприязнь к отошедшим внезапно.
– Этот, как подлецом жил, так подлецом и умер, – говорила она о последних. – Улизнул, как трус, ни попрощаться не удосужился, ни покаянное слово сказать, ни распоряжение семье оставить, – негодовала она. – Никакой ответственности! Плюнул на всех и перекинулся, а вы живите теперь, как хотите. Ох, не я ему жена! – то ли радовалась, то ли запоздало похвалялась она.
Со временем соседи все же нашли способ уклоняться от бесед с Биденович – уходили подальше от двора на пустырь, где вскорости после заселения жилмассива поднялись деревья-самосейки, образовав нечто вроде реденького и робкого подлеска.
И только Зверстр мог ее слушать не перебивая. Порой тетя Лида, как он по-соседски называл ее, уставала от собственного словоизлияния, а он все слушал и слушал, слова не вставлял, лишь уточнял вопросом то одно, то другое. Впрочем, то были риторические вопросы, задаваемые из вежливости.
– И глаза его устремились в небо, – рассказывала тетя Лида о том, как однажды ехала из Москвы и одному пассажиру стало плохо как раз на остановке в Курске. Его вынесли и положили прямо на перроне. – Тело уже умерло: руки-ноги мягкие, податливые, как веревки, нижняя челюсть отвисла и, когда его выносили на воздух, болталась из стороны в сторону. А глаза – живые. Смотрят в небо и все там видят. А потом и они стали мутнеть и тухнуть, пока совсем не погасли.
– Закрылись? – уточнял Зверстр.
– Не-ет, так открытыми и остались, но мертвыми.
– Странно, – все, что мог внести своего в общий разговор ее терпеливый слушатель.
Сейчас тетя Лида нашла Зверстра тяжело больным.
– Что с тобой сталось за ночь-то?! – удивилась она.
– Озноб извел меня, температура, – тихо отчитался он.
– Температура сама сошла или принимал что?
– Малину пил с вечера, а попозже – чай с медом.
– Переломилась, значит, болезнь. Ну, теперь жить будешь, – соседка потрепала его по обвисшему подбородку. – Щас горчичнички поставлю, выгрею тебя, а потом куриным бульончиком напою, и – спать.
– Спать, спать… – мечтательно закрыл глаза Зверстр.
12
К вечеру он проснулся отдохнувшим, исцелившимся, умиротворенным. После крепкого сна первые минуты не мог осознать, где находится, какое время года стоит на дворе и сколько ему лет. Показалось, что сейчас войдет бабушка и скажет, что пора собираться в школу. Ему привиделось ее лицо, счастливое и печальное, будто она знала его судьбу.
***
Свою мать он не помнил совсем, так – что-то смутное иногда пролетало мимо, сотканное из ласки и нежности. Не более того.
Фаина Филипповна Хохнина замуж вышла поздно. Она была старшим ребенком в семье, нелюбимым – родители все внимание отдавали младшей, Наталии, но это не испортило ее воспитание. Примерная школьница, она после восьми классов поступила в строительный техникум и успешно окончила его, получив направление в Объединение «Сельстройиндустрия». Там ее, молодого специалиста, зачислили на должность прораба и командировали в село Бигма на строительство животноводческого комплекса. Со служебными обязанностями она справлялась.