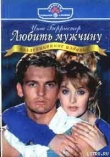Текст книги "Убить Зверстра"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Маньяки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Женщина-жена, даже если у нее нет детей, все же естественнее, гармоничнее и совершеннее матери-одиночки, ибо адекватной женщину делает общение с мужчиной, а не исполнение множества других жизненных функций в отрыве от ее неотъемлемого природного партнера, без которого она физиологически неполноценна.
И поэтому здоровая его часть – не уязвленная оценками женщин и собственными самооценками – тянулась к нормальному, не ущербному варианту, он старался не проводить время со свободными искательницами приключений. Постулат марксистской философии о единстве и борьбе противоположностей примирял его с этой раздвоенностью в себе.
Втайне он стеснялся своего холостяцкого положения, коплексовал по этому поводу, так как считал его тоже ненормальным ходом вещей, и подумывал, вопреки выстраданным принципам и скоропалительно данным себе зарокам, о второй женитьбе.
Его нельзя было назвать бабником, он не стремился утвердиться в сердце каждой мало-мальски подходящей женщины, как это делают многие холостяки, да и ходоки из женатых, не бросался от одной юбки к другой, не старался «понадкусывать все яблоки». Был постоянен в связях, не любил частых перемен.
На что уже в свое время его не устраивала Тля, но и ту он «уступил» другу только потому, что знал о ее ближайшем отъезде из города.
Оставался без пары после этого не долго, почти сразу появилась Ленка. И со временем он к ней начал все больше и больше привязываться, потому что была она нормальной бабой, которой не очень повезло с мужем. Естественное охлаждение первых чувств сменилось у них отчуждением из-за его постоянных командировок по работе. В конце концов, каждый научился жить собственной жизнью, лишь внешне соблюдая приличия. Нет, разумеется, они не перестали быть супругами. У них росло двое прекрасных мальчишек, и дом, семью надо было беречь. Но сколько в тех стараниях оставалось искренности?
А теперь, когда ее муж оставил работу геолога и засел дома, она увидела, что он не просто чужое ей существо, но еще и пьяница, сломленный человек, и она ему тоже чужая.
Игорь Сергеевич старался держать определенную дистанцию с Леной, не подавал ей надежд, не манил, ничего не обещал. Но для себя решил подождать, пока подрастут ее сыновья, устроятся, а потом зажить с ней под одной крышей. Ему казалось, что Лена это понимала, была уверена в нем, в их будущем и это поддерживало ее, помогало жить.
Он знал, что сегодня Лена дома одна: муж на заработках, дети на соревнованиях. Можно спокойно провести время вместе, причем всю ночь, чего они никогда себе не позволяли. Боже, это такое блаженство – спать с женщиной под одним одеялом. Не просто перепихнуться и разбежаться, а, утомившись от любви, рядом проспать до утра.
Его смущало только то, что на прошлой неделе они уже виделись, то есть Лена была у него на работе, где и происходили их любовные встречи. Он выдерживал два принципа: встречался с нею вне дома – ее и своего – и не делал этого чаще, чем раз в две недели. Все из тех же соображений: не торопить, не обещать, не привязывать к себе раньше срока.
Сегодня хотелось плюнуть на эти принципы, и он решил позвонить ей и забрать к себе на всю ночь.
Как потом все обернется?
Вдруг он понял, что годы не стоят на месте, они уходят, и их остается в запасе все меньше и меньше. Он почувствовал, что где-то впереди есть край, черта, к которой он приближается, ускоряя движение с каждым ушедшим годом. Ради чего он обкрадывает себя, отказывает себе в том, чего хочется? Или ради кого?
Предположим, есть люди, интересами которых он может объяснить ущемление себя, своих желаний. Но будут ли они вполне счастливы, принимая от него эти жертвы? Они ведь от него их не требуют, даже не просят, вовсе не ждут. Зачем же он им навязывает их? Чтобы потом сказать «Ради вас я многим пожертвовал» и услышать в ответ то, что слышат многие в таких случаях, – «А кто тебя об этом просил?». Он думал о своей дочери, о том, что ей надо еще несколько лет помогать. Но разве кто-то может помешать ему в этом, если он будет чуть счастливее, чем сейчас? Разве ей приятнее принимать помощь, зная, что из-за этого он себе отказывает не в еде, не в одежде – в человеческом приюте? Нет, конечно. И значит, он – не прав.
Игорь Сергеевич набрал знакомый номер телефона. Ему никто не ответил. Он включил телевизор, убедился, что уже закончилась программа «Время». Значит, было довольно поздно для зимней поры, Лена могла уже спать.
Решение забрать на эту ночь ее к себе, возникшее спонтанно, только упрочилось, и он вновь позвонил, долго держал трубку, представляя, как гулко разносится его призыв по ее квартире, как она от него просыпается, спешит к телефону, берет трубку. Но ничего этого вновь не произошло.
Он знал, что Лена больше не пользуется снотворным, а естественный сон ее чуток и отзывчив, она не может не проснуться от телефонного трезвона. В нем проклюнулась тревога. Врачу, исцелись сам, – напомнил он себе. И тут же решил, что через несколько минут еще раз позвонит. Если она не ответит, поедет и выяснит, что могло стрястись.
Ответа по-прежнему не было и Дебряков начал торопливо, лихорадочно, с необъяснимой внутренней дрожью собираться в дорогу. У него появились дурные предчувствия и в полном соответствии с неврозом, воображение рисовало картины одна ужаснее другой.
Что я делаю? – останавливал он себя, продолжая напяливать одежды. Ей ведь могли отключить телефон за неуплату, только и всего. Значит, разбужу звонком в дверь, – подгоняла его испуганная мысль.
Возле ее квартиры он появился через сорок минут, путь с Рябиновой улицы на массив Сокол был неблизким. Но и на эти звонки в квартиру никто не отвечал. Сердце Игоря Сергеевича начало учащенно биться, кожа покрылась противной испариной страха.
Прислушиваясь, он старался различить за дверью возню или хотя бы дыхание собак, но там стояла тишина.
Сдвинув шапку на затылок, он в раздумье, не спеша, спустился на первый этаж. Зачем-то постоял на площадке, все так же прислушиваясь: нигде никаких звуков. Здесь тишина свернулась испуганным клубочком и, затаившись в полуосвещенности подъезда, дожидалась рассвета. А над ней витало что-то зловещее, алчное, страшное.
Дебряков поспешил шагнуть за порог. Вдохнув свежего морозного воздуха, шире расправил плечи, словно избавился от кошмарного наваждения. Оглянулся, отметил абсолютное отсутствие освещения на улице, во дворе, вообще в ближайшем квартале. Здесь также отсутствовали звуки, слышался лишь свист ветра, выскакивающего на простор двора из-за угла дома.
И вновь безотчетная жуть разлилась по телу горячей волной, проникла в кровь, разогнав ее ток, застучав усиленно работающим сердцем. Зачем он спешил сюда? – повис бесполезный вопрос. На окраину ночного обезлюдевшего города, по непонятному побуждению, в холод и непогоду – что погнало его: чувство или предчувствие?
Он не мог заставить себя возвращаться домой, не выяснив, где Лена, что с ней. Но что еще можно было предпринять, не знал. Так и продолжал стоять во дворе, разглядывая редкие светящиеся окна домов.
Прошло еще какое-то время. В нерешительности он принялся вышагивать взад-вперед вдоль подъезда, не теряя надежды, что ситуация прояснится. Сколько так намотал метров или километров, сколько прошло времени с момента его приезда сюда – всему этому он потерял счет. Казалось, что его существом завладела некая тайная сила, превратившаяся теперь в инерцию, диктующую свои законы его помыслам и поступкам. От него больше ничего не требовалось, кроме одного, – не нарушать в себе эти законы, подчиниться им, отключив на время собственные порывы к корректировке.
Идея, замысел, установка, довлеющая над ним, не имела ничего общего с человеческими возможностями и качествами. Она являлась продуктом сил более высокого порядка, и он это понимал – не умом, а неразумной плотью. Поэтому и не уходил, а продолжал протанцовывать на нетронутом покрове снега свою стежку, не имеющую ни начала, ни конца – ниоткуда не начинающуюся и никуда не ведущую, двигаясь по выродившейся в отрезок окружности, когда одно ее полукольцо совместилось со вторым и вытянулось вдоль прямой на всю свою длину.
Подтверждение истинности сказанного не замедлило явиться. Он вначале услышал голоса, среди которых выделил ее оживленный и звонкий, а затем и увидел группу фигур. Не выясняя, кто идет с нею рядом и почему, не думая о приличиях, об обоснованности своих притязаний, безотчетно устремился навстречу.
– Где ты ходишь? – обнял ее за плечи, заслоняя от порывов ветра и отстраняя от остальных.
– Подожди, Игорь, – она неловко улыбнулась и показала на спутников. – Познакомься, это мои сыновья. Эдик, Игорь, – каждый из них слегка наклонил голову, отводя взгляд в сторону. – Мальчики, а это Игорь Сергеевич, мой друг.
– Поняли уже, – пробасил Эдик.
– Узнали по голосу, – добавил Игорь.
– Вот и хорошо, – обрадовано, с облегчением в голосе сказал Дебряков. – Минуточку, – вдруг заторопился. – Простите, – он повернулся к Лене. – Можно тебя на два слова?
– Что случилось?
– Ничего, но… Пойдем сейчас ко мне. Я приехал за тобой.
– Ты чего? – удивилась она. – Что с тобой?
– Ничего. Понимаешь, ничего. Если ты сейчас же не поедешь, случится ужасное. Я чуть не умер, пока ждал тебя.
– Давай зайдем в дом, – предложила Лена.
– Что ты? Нет. Оставь этот дом.
– Мам, – потянул ее за рукав незаметно приблизившийся Гоша. – Мы с Эдом все понимаем, мы уже взрослые.
– Да, мам, – подошел к ним и старший сын. – Ты иди с дядей Игорем. Мы ведь уже дома.
Она растерялась, молчала, переводя взгляд с Дебрякова на сыновей, с сыновей на Дебрякова.
– Вот и славно, – заторопился мужчина. – Спасибо, мальчишки. Мать у вас не очень решительный человек. А завтра мы встретимся и обо всем поговорим серьезно. Идет?
– Да ладно вам, – покровительственно тронул его за рукав Эдик. – Разбирайтесь без нас. А со стариками мы все уладим, а то сами они никогда не решатся.
– Что ты себе позволяешь? – возмутилась Елена Моисеевна, интуитивно пытаясь сохранить «приличия». – Что за намеки?
– Пока, мама. Утром не звони рано. Дай отоспаться, – он чмокнул ее в щечку, стыдливо, стесняясь привычки, оставшейся от детства.
Игорь лишь помахал на прощанье рукой, не допуская мысли, что мать, получив их благословение, не воспользуется этим. Сыновья забрали сумки, и пошли к подъезду: рослые, стройные, уверенные в себе.
– Пошли, – подтолкнул ее в другую сторону Игорь Сергеевич.
– Ты считаешь, что так будет лучше?
– Пошли, – повторил он.
***
Квартира Игоря Сергеевича располагалась на восьмом этаже дома для малосемейных, где преобладали однокомнатные секции. На каждом уровне в коридор выходило по восемь дверей с каждой стороны.
Сложная система переходов с закрытой со всех сторон лестницы на площадки практически не работающих подъемников, делала мучительно опасным даже днем отрезок пути от входа в подъезд до порога квартиры, не говоря уже о ночном времени.
На первом этаже, как и на всей лестничной клетке, царила кромешная темень, не разбавляемая даже отчаянным сиянием безлунного звездного неба. Настрадавшись от множества треволнений, Игорь Сергеевич и Елена Моисеевна робко взглянули друг на друга, прежде чем отважиться войти в подъезд. Оставалось сделать последний рывок к теплу и свету, к привычным, милым вещам – ему, и к новым впечатлениям, о чем мечталось давно, – ей.
Они взялись за руки и со смешанным чувством стыда за страх и самого страха стали подталкивать друг друга вперед. Затем остановились. Он приоткрыл входную дверь и прислушался к звукам внутри. Там было тихо. Тишина не дышала присутствием живого, была спокойной и равномерно рассредоточенной по узкому длинному коридору с дверями лифтов по обе стороны. Ощупью он отыскал ближайшие из них и включил вызов.
Им повезло. Лифт, запрограммированный работать только на подъем, неожиданно выдал на кнопку тусклый огонек отклика и затарахтел откуда-то сверху. Спасительно распахнулись двери, предоставив им пустую кабину, в которой – о, чудо! – горел свет. На восьмом этаже они, снова нырнув во тьму, повернули направо и пошли по коридору.
– Моя дверь последняя в правом ряду, – сказал Игорь Сергеевич. – Там светится лампочка. Не бойся, попадем правильно, – заверил он.
– У тебя квартира на сигнализации?
– Нет, – понял он смысл ее вопроса. – Я специально выбрал маленькую лампочку и просто прикрепил к отверстию в дверном косяке, чтобы и освещение иметь и воров отпугивать.
– Они сейчас пугливостью не страдают.
– Все равно спокойнее. Собственное спокойствие тоже не последнее дело, верно?
– Да уж. Имеешь три пользы.
– Ах ты, милый мой бухгалтер, – обнял он ее у самой двери.
Квартира ей понравилась. Встроенные в прихожей платяные шкафы позволили не загромождать лишней мебелью небольшую комнату с нишей для кровати. Напротив ниши располагалось окно и выход на длинную лоджию, что была общей для комнаты и кухни. Обстановка комнаты свидетельствовала о пуританском образе жизни хозяина. Кроме спального дивана в комнате стоял журнальный столик с двумя креслами по бокам и телевизор. На свободных стенках висели книжные полки.
Столь же крошечная кухня со стандартным интерьером поражала почти стерильной чистотой, и Елена Моисеевна не сразу поняла, в чем тут дело.
Она опустилась на стул, стоящий между окном и обеденным столиком, и облегченно вздохнула, как путник, что после долгой дороги, прибился, наконец, к родному порогу.
– Нравится? – спросил хозяин.
– Хорошо, чисто.
– Чисто? – переспросил он. – Я давно не убирался. Но у меня же нет собак.
– И газовой плиты.
Мелькнуло неясное мгновение, принесшее ей понимание того, что у нее никогда не будет такого уюта и благоухания в квартире. Стало жалко себя, ее взгляд сделался обреченно-затравленным.
– Давай, удивляй дальше, – сказала, чтобы скрыть нахлынувшее настроение.
– Лена, – он поставил свободный стул рядом с нею. – Давай сегодня все решим. Давай поговорим серьезно.
– О чем ты беспокоишься весь вечер?
– О нас с тобой. Сколько можно? Мы уже не так молоды, чтобы продолжать встречаться в рабочем кабинете, пусть это и кабинет врача.
– Но там удобнее! – перебила она его, имея в виду, что живут они далеко друг от друга, от центра города, где оба работают.
– Не перебивай. Не уводи разговор в сторону. Оставь этот тон.
– Игорь, ну о чем ты говоришь? У меня дети, их надо выучить, устроить. А как быть с Сухаревым?
– А как с ним быть? Разведитесь.
– Не знаю, – устало развела она руки. – Сразу возникнет масса проблем.
– Это сейчас у тебя масса проблем, а тогда их, наоборот, станет меньше. Мы оставим ему квартиру, собак.
– Не говори, – мечтательно произнесла она. – Собаки и Сухарев меня действительно добивают.
Он решил, что сегодня хватит муссировать эту тему. Пусть она привыкнет к его предложению.
– Помоешься?
– Устала я сегодня, – виновато намекнула Елена Моисеевна. – Надо было чухнуть домой да отоспаться до утра.
– А чем тут хуже? Падай и отсыпайся.
– А ты?
– И я с тобой.
Он достал чистое белье и отнес в комнату. Затем поменял в ванной полотенца и повесил на крючок еще один махровый халат.
– Давай, не засиживайся, – шутливо шлепнул ее по ягодицам, отправляя мыться.
Елена Моисеевна преодолела первую неловкость. О ней давно никто так не заботился. И это лишь добавляло к ощущениям новизны места, мужчины и отношений новизну самоощущения. Вдруг показалось, что она совсем девчушка, и о ней печется кто-то родной – мама, бабушка? Пока стояла под теплыми, ласкающими струями, почувствовала себя любимой, очень дорогой другому человеку и это наполнило ее особой значительностью в собственных глазах.
Так устроена жизнь: если тебя любят – обращаешься памятью к родителям, если любишь ты – вспоминаются дети. Сегодня любили ее, и она купалась в потоках внимания, вскоре, однако, как и должно быть, забыв родителей, но и не вспоминая о детях. Елена Моисеевна насыщалась нежностью, излучаемой на нее мужчиной, не веря его словам и сомневаясь, что такой вечер повторится когда-нибудь еще. Хотелось взять из него побольше, так, чтобы этого счастливого ощущения хватило надолго.
Но сомнение было подспудным, наяву же ее быстро заполонила иллюзия, что это счастье с нею уже давно, как будто и не было долгих лет женского сиротства, тяжких трудов в одиночку и изнуряющего чувства долга перед детьми. Эти годы исчезли из памяти, уступив место ощущению свободы, сердечной незанятости, бесконечно долгого светлого будущего. Как было в юности.
Она быстро освоилась с этим ощущением и вышла из ванной совсем другой – легкой, молодой, уверенной в собственной неотразимости. Игорь Сергеевич успел приготовить легкий ужин, состоящий из гренок, подсушенных в тостере, абрикосового варенья и чая.
Ночь, что приняла их под свои крылья, они провели безгрешно.
Ей казалось, что она попала в сказку, где у нее, маленькой и настрадавшейся, нашелся добрый покровитель, защитник, возле которого можно отдохнуть. Она перестала чувствовать себя матерью, женой, к ней вернулись безмятежность и покой юности. Уснув, она по-детски, как после затянувшейся обиды, всхлипывала и тяжело вздыхала.
Он тоже предавался невольным иллюзиям. Мнилось, как о том мечталось на заре жизни, что он стал сильнее всех и теперь согревает своей опекой слабых и обиженных. Из этой мечты выпала ему в реальность умная, прекрасная женщина, но такая обольстительно беззащитная, что щемящее чувство ответственности за нее до утра не давало ему уснуть, рисовало в воображении или в полусне картины другой, более правильной жизни, в которой он с нею никогда не расстанется.
Утром, уже на работе Елена Моисеевна вернулась к обычным заботам, подумала, что надо бы позвонить домой, узнать, как там дети. Но, посмотрев на часы, отметила, что еще только начало дня, а дети просили дать им возможность выспаться, не будить рано. Пофилософствовала: десять часов – это рано или не рано, и решила перестраховаться и позвонить позже.
Привычная суета тут же закружила ее в своем бессмысленном танце, и она снова вспомнила о доме лишь после обеда, где-то около трех часов. Но там не отвечали. Это не встревожило ее – детям не терпелось побежать к друзьям и рассказать о поездке. Могли бы, правда, и сами ей позвонить.
– Девушки, мне не звонили из дому? – без тени тревоги спросила она, ни к кому конкретно не обращаясь, высунувшись из своего кабинета в бухгалтерский зал.
– Я не помню, – ответила Вика, бухгалтер, обрабатывающая данные кассовых аппаратов, работающих на немецких марках.
– Нет, не звонили, – уверенно отозвалась Зинаида Андреевна, нервно массируя виски. – Сегодня вообще день тяжелый, голова болит до изнеможения.
Елена Моисеевна вновь потянулась к аппарату. После нескольких очередных безрезультатных попыток набрала номер Дебрякова. Он откликнулся сразу, как будто ждал ее звонка. Ее потянуло снова расслабиться, пожаловаться, получить его поддержку.
– Не могу дозвониться к мальчишкам. И они не звонили. Я начинаю волноваться.
– Успокойся, пацаны взрослеют, это нормально, что им все меньше хочется обсуждать с тобой свои дела.
– Нет. Пока мы ехали с вокзала они успели мне в два голоса обо всем рассказать. Ты не прав, Игорь, дети возле матери всегда чувствуют себя маленькими. Это, знаешь, приятно, добавляет силы и задора, – вспомнила она свое вчерашнее настроение.
– Когда ты уже взрослая, то так оно и есть, но не тогда, когда только спешишь стать взрослой.
Говоря это, он поймал в себе какое-то воспоминание, имеющее прямое отношение с Лениной тревоге, оно мелькнуло и пролетело мимо, не прорисовавшись в конкретных образах.
– Ты как сегодня? – спросил он, имея в виду вчерашние планы.
– Работы много. Хотела еще посидеть часиков до девяти. Но теперь придется ехать домой, – она вздохнула. – Чой-то у меня начинают кошки на душе скрести.
– Я провожу тебя. Позвонишь, когда будешь выходить?
– Ладно.
Он положил трубку и почти в ту же секунду вспомнил, что его преследовало все это время, не всплывая отчетливо, и не без колебаний позвонил ей сам.
– Лена, ты только постарайся не волноваться…
– Говори, – насторожилась она.
– Давай я тебя прямо сейчас отвезу домой, – предложил Дебряков неожиданно для себя.
– Ты что-то знаешь?
– Ничего конкретного, – он подбирал слова, боясь выглядеть излишне мнительным. – Твой муж не мог в ваше отсутствие забрать собак к себе?
– Как это? Куда?
– Не знаю. Я в принципе спрашиваю. Мог он это сделать или нет?
– Нет, конечно. Он в селе, где-то далеко за городом. Зачем ему там собаки? А почему ты спрашиваешь об этом?
– Понимаешь… Вчера я звонил в вашу квартиру, еще когда вас дома не было.
– И что?
– Там было тихо.
– Ты же сам говоришь, что нас дома не было.
– Обычно собаки реагируют на звонок. Подходят к двери, например, и можно услышать их дыхание. Тем более что у вас их двое. Иногда они возятся возле двери и это тоже слышно.
– Было тихо?
– Едем, Лена, – тихо, но настойчиво повторил он. – Там что-то случилось.
Он был рядом, когда Елена Моисеевна открыла дверь в квартиру и между нею и кошмаром исчезла дистанция. А за спиной стояла судьба.
17
Разумеется, я вернулась в больницу с опозданием. Дверь была уже заперта, и пришлось звонить. Хорошо, что несколько человек находились в холле – досматривали передачу по телевизору, а может, украдкой любезничали. Они-то и открыли мне. Дежурная сестра делала уколы на ночь. Доведись мне оторвать ее от этого, не помог бы и авторитет Ясеневой.
Сама Ясенева на мое появление не отреагировала, сидела у окна, отрешившись от временной и мелкой данности – реальности. Где она витала – в прошлом ли, в будущем? – один бог знает.
Стараясь не шуметь, я сняла пальто, сапожки и подошла поближе, заглядывая через ее плечо на листок бумаги, лежащий на подоконнике.
…не сняла еще мантии мрака.
В серебристую кутаясь шаль,
На стремительных детских салазках
Переехала в синий февраль.
Все, раз начались стихи, лечение терпит крушение. И ни при чем «предощущение чужой беды», которое якобы негативно сказывается на ее здоровье. А разговоры с Гоголевой о том, что надо научиться эту беду «вычислять» и тогда не будет приступов, – примитивный бред для тех, кто верит в мистику. Причина вот в этом, что находится сейчас у меня перед глазами: в ленивой неподвижности ее фигуры; во взгляде, что-то различающем в черноте ночи; в строках, косо упавших на листок, и в том, о ком она сейчас думает.
Но вот Ясенева начинает ощущать мое присутствие, и я представляю, как крутой волной от берега ее сознания отходит поэтическое наваждение и освобождающееся место медленно-медленно заполняется нежелательной для нее действительностью. Вот она передернула плечами, как будто по ее телу прошел озноб, – ей не по душе то, что происходит. Она силится ухватить уходящее состояние, удержать его в себе, еще не понимая, что это я тому причиной и с моим приходом ее попытки тщетны. Я вплелась в атмосферу комнаты со свежими впечатлениями, со своим возбуждением и нарушила ее однородную структуру.
И я не жалею об этом, хотя, если бы и было наоборот, то моей силы воли явно не достаточно для того, чтобы превратиться в бесплотное создание, не влияющее собственными фибрами на картины поэтических полей. Более того, я рада этому, потому что я – часть программы лечения, обязательный его параметр. Пусть один из многих. Но на меня возложена миссия и лежит ответственность, и я должна соответствовать даже вопреки.
Мои мысли о «должна» и о «вопреки» мгновенно материализовались и хлестанули Ясеневу обнаружением меня. Но она еще не поворачивается ко мне, еще обманывает себя и делает вид, что находится одна в блаженном покое завоеванного пространства, что беспрепятственно выбрасывает из себя генерируемую сердцем боль, боль, боль… и этого никто не видит.
Ее рука снова тянется к рукописи, и я невольно начинаю вчитываться в то, что там написано. О ком это? «Мантия мрака…» – так возвышенно об этой промозглой темени? Конечно, сидя в комнате, возле батарейки отопления, оно приятно наблюдать ночь и февраль. А побегала бы так, как я, тогда другое бы запела.
Стоп! – одергиваю я себя. Она отбегала свое, прошла все положенные пути. И возможно, совсем одна, не было у нее такого дружочка-Ясеневой, какой есть у меня.
Под ее бегущей рукой быстро появляются новые строки:
Те слова, что не созданы болью,
Умирают в кромешной дали.
Мы одни меж зимой и судьбою,
Победить только их не смогли.
Наброски нового стихотворения. Сегодня ему не суждено родиться на свет, потому что ее уединение нарушила я.
– А-а, так это о зиме! Я-то думаю, что за «мантия мрака»?
Я предвижу, что Ясенева сейчас поставит точку и выльет на меня кислоту раздражения. Так уж лучше я сама перейду ей дорожку, собью напор. Меня она уже не только интуицией, но и умом обнаружила как досадную помеху, нахально вторгшуюся в сокровенный процесс.
– Брысь, малявка!
А что я говорила? Это еще ничего, я вовремя сориентировалась, бывает хуже. Не зря я первой разыграла гамбит вечера.
– Эта малявка, между прочим, мышку поймала.
– И в зубах принесла?
– Мяу, – утвердительно кивнула я.
Меня прямо распирало желание похвастаться новостями. Но Ясенева затеяла долгие сборы, чтобы покормить меня, а затем вдвоем попить чайку. Она молча курсировала между холодильником и столом, между водопроводным краном и кипятильником, и мне ничего не оставалось, как слинять в душевую.
Когда я вернулась, распаренная от горячей воды и остывшая от своего азарта, а заодно и от задумчивости и безразличия Ясеневой, она уже накрыла стол и сидела, дожидаясь меня, листая «Черного ворона» Дмитрия Вересова, из чего я заключила, что в мое отсутствие приезжал Павел Семенович, и этим объяснялось обилие яств на столе.
Мне показалось, что она совсем перегорела затеей со старушкой, и я решила не надоедать ей. Дальнейшее ее поведение только еще больше убедило, что я была близка к истине. И одновременно далека от нее.
Как жаль, что я напрасно трудилась весь этот день, старалась и совершала подвиги. Все напрасно. Я сокрушалась по этому поводу, разжевывая холодную тыквенную кашу на рисе, заедая ее бутербродом с творогом. Да, такая у нас вечерняя диета. Не мудрено, что я поспешила покончить с этими деликатесами и приступить к чаю.
– Ты долго собираешься с мыслями, – начала доставать меня Ясенева после первых обжигающих глотков чая.
– Это вы о чем?
А что мне оставалось делать? Сначала меня не замечают, потом истязают молчанием, а затем предают остракизму посредством язвительных замечаний.
– Как знаешь, – равнодушно согласилась она с моим желанием повалять ваньку.
С тем я и легла спать. Чтобы успокоиться, мысленно повторила банальную истину о преимуществах утра перед вечером, сделав вывод о том, что раз эту пословицу придумали люди, то они проверили ее на себе. Злорадная мысль, что Ясенева к вечеру тоже, стало быть, глупеет, не успела согреть меня, как я тут же обнаружила, что и со мной происходит то же самое. И следовательно, она сейчас спасла меня от демонстрации воочию этого неутешительного факта.
К утру я поумнела, и мои достижения уже не казались столь значительными. Изложив Ясеневой все по порядку, я замолчала, отметив в конце рассказа, что она меня ни разу не перебила вопросом, как это бывало, когда ее интересовал предмет изложения.
– Хорошо, – подытожила она. – Ты – настоящий молодец.
Тоже мне, новый Колумб, – подумала я, ибо это мне было давно известно. Но вслух сказала другое:
– Я что-то не так сделала?
– Все так. Говорю же, что ты молодец. Спасибо тебе.
– И что теперь? – спросила я, потому что вдруг поняла, что ни на один из наших вопросов не нашла ответа.
– Ничего. Мы сделали все, что смогли. Первое – узнали, что старушка умерла и ей уже ничем не поможешь. Второе – узнали ее имя и то, что от ее смерти никто впрямую не пострадал, так как от нее, слава Богу, никто не зависел. Третье – узнали, что у нее есть внучка и даже сделали так, что теперь ей сообщат о судьбе бабушки. Что же еще? По-моему все. Спасибо и проехали.
– А как же чья-то беда?
– Посмотрим. Возможно, собака зарыта в другом месте.
Она лукавила и что-то скрывала, но мне не на чем было ее поймать. Если бы были новые данные, она бы мне о них сказала. А если бы у нее начисто пропал интерес к этому делу, то она наутро, то есть именно сейчас, и вспоминать бы о нем не стала. Что я, не знаю ее, что ли?
– Знаешь, Ирина, я выкарабкиваюсь из болезни и не хочу ничего слышать о том, что ее спровоцировало, – так она мне могла сказать, и была бы права.
Но она так не сказала.
С чувством славно исполненного долга я глубоко вздохнула и, выбросив все из головы, отправилась на процедуры.
Да, Ясенева шла на поправку. С каждым днем все меньше лежала, дольше гуляла на воздухе, больше читала. Я наконец-то, получила возможность оглянуться вокруг и рассмотреть, куда меня занесла нелегкая.
Это был остров, на котором собрались потерпевшие кораблекрушение люди: кого-то зашвырнула сюда неравная схватка с противником, кого-то вынесло житейскими бурями и неурядицами, кто-то выпал за борт из корабля благополучия. Все они искали здесь спасения.
А сколько же тех, – думала я, – кто не доплыл до острова, утонул в пучине болезни, задохнулся в ворохе проблем и стрессов, насмерть расшибся о рифы? Мне стало страшно. За бледными лицами совсем молодых ребят, которых здесь было много, стояли толпы тех, кому повезло еще меньше.
Раньше я думала, насколько у меня это получалось и как часто этот предмет приходил на ум, что неврозами болеют только женщины: разные там обмороки, мигрени, депрессии, бессонницы, страхи и ахи – это порождение их природной мнительности. Оказалось, ничуть не бывало. Даже наоборот. Если говорить о том, что неврозы провоцируют гипертонию, то тут мужчины явно занимают первое место.
Были здесь и совсем молодые ребята, долечивающиеся после травм и потрясений, полученных на постсоветских войнах. Война была у каждого своя: Афганистан, Туркмения, Приднестровье, Чечня, Югославия. А теперь добавились и местные потасовки: киевский майдан, крымские сражения, забастовки горняков. Да разве все их перечислишь? Случалось, здесь сталкивались ребята, воевавшие на одних баррикадах, но по разные стороны. Странно, но люди привыкли к таким ситуациям и, встретившись, не выясняли отношений, не продолжали бои словесными перепалками, а просто старались обходить травмирующую их тему молчанием. Здесь они были по одну сторону фронта, ибо воевали против болезни, и это примиряло и объединяло их. Они были очень мудрые, эти рано повзрослевшие юнцы, и кажется, что теперь не только личные убеждения, но даже соображения государственного порядка не толкнут их больше на силовой конфликт. Отпелись, с нервами не стоит шутить.