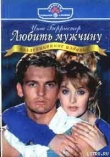Текст книги "Убить Зверстра"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Маньяки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Странным было то, что, обладая хорошим умом, накопив знания и опыт, в повседневной жизни, в общении она производила впечатление дебильной особы неопределенного возраста. Впечатление усиливала ее некрасивость, граничащая с уродством: большая голова с реденькой пушистой растительностью, через которую просвечивала кожа; огромный, вечно мокрый рот и усеянное множеством мелких коричневых родинок лицо, отчего оно казалось рябым и темным. Фаня была нормального роста и даже при всем перечисленном не выделялась бы из числа других дурнушек, если бы не приклеенная к лицу придурковатая улыбка, усохшие груди и непропорционально большой размер стопы.
Такая внешность была чистым обманом, ибо в Фаине Филипповне по существу ничего ей не соответствовало. Как специалистом и работником, так и человеком она была замечательным, покладистым, рассудительным, умеющим мягко отстоять свое мнение.
Сельское окружение быстро разобралось во всех ее противоречиях, прониклось к ней симпатией и приняло в свои ряды без трений и конфликтов. Правда, кое-кто срывался на жалость, сокрушаясь, что, мол, какая несправедливость судьбы: хорошему человеку, видно, на роду написано коротать жизнь без пары.
Но постепенно и они успокоились, когда у Фани появился ухажер – парень не выдающихся достоинств, но пригож внешне и сносен нравом. Вскорости колхозный конюх Ваня, став женихом Фаины Филипповны, уже именовался Иваном Петровичем, а при регистрации брака взял ее фамилию, сменив неблагозвучную Хряк на Хохнин.
Образованность (для деревни средне-специальное образование было верхом учености!) и городское происхождение Фаины Филипповны уравновешивались теми достоинствами молодого супруга, которых у нее не было, и вместе они представляли хоть и странную на вид, но, по мнению сельчан, удачную пару. Их брак считали по всем статьям равным, особенно, когда после первых посещений тестя и тещи, родителей Фани, которые в село ни разу не приезжали и их никто здесь не знал, Иван умылся, почистился, привел в порядок кудрявую, торчащую во все стороны шевелюру, и, вообще, стал выглядеть как инженер, получивший заочное образование.
Молодые с первых дней зажили отдельно, так как Фаина, притянув за уши право молодого специалиста, ко дню свадьбы получила от колхоза двухкомнатную квартиру, разумеется, служебную – на время работы на колхозной стройке. С родителями Ивана у них сложились прохладные, почти отчужденные отношения. Внешние приличия, конечно, соблюдались: на праздники они ходили друг к другу в гости, дарили подарки, справлялись о здоровье. Но насчет искренности ни одна из сторон не обольщалась, внутреннего тепла в их отношениях не было. Фаине не нужны были в дополнение к мужу, из которого еще следовало сделать человека, забитые, озабоченные тяжелым крестьянским бытом родители и многочисленные сестры и браться, что называется, бедные родственники. Его же родители, со своей стороны, не жаловала «приблуду»: Иван вполне мог высватать работящую местную красавицу – хоть проще, но поприглядней.
Когда же выяснилось, что Фаина не в состоянии забеременеть, дипломатические отношения быстро пошли на убыль и, без пересудов и кривотолков, а как бы нормальным порядком сошли на нет.
Тем временем колхозный долгострой, продолжавшийся шесть лет, завершился и перед Фаиной Филипповной встал вопрос: уволиться из объединения и остаться жить здесь, распрощавшись с работой по специальности, или уехать на место нового строительства, куда укажут в объединении. Она колебалась: хотелось оседлости, определенности, жалко было покидать обжитую квартиру, которую, в случае чего, обещали оставить ей в вечное пользование. Но были обстоятельства, гнавшие ее прочь, прочь и навсегда из этих мест! Она их осознавала, муж – догадывался, но вместе они старались не касаться этой темы при обсуждении будущего. Достаточно, что ее истинные колебания имели понятные всем причины. Оказалось, что ей тяжело сделать выбор, потому что раньше жизнь складывалась по типовой схеме, требующей от нее не столько самостоятельности, сколько работоспособности, чтобы быть в числе лучших и получать лучшее из того, что предлагалось то родителями, то учителями в школе, то преподавателями в техникуме. После окончания учебы государственная комиссия по распределению молодых специалистов продолжила эту традицию принимать решения за нее. На работе то же самое делало вышестоящее начальство. Она привыкла лишь быть добросовестным исполнителем, ее это устраивало.
А тут впервые речь шла о том, чтобы собственным выбором повлиять на дальнейший образ жизни, среду обитания, карьеру. Своим решением она могла закрыть перспективы на будущее или оставить открытой возможность добиться от жизни большего.
Чем дольше она сомневалась и чем дольше взвешивала, тем мучительнее ни к чему не склонялась. Незаметно истекли три года до ее замужества, и вот уже близилась трехлетняя годовщина свадьбы – радостное время без огорчений, неудач и потерь. Она понимала, что так будет не всегда, но понимала также и то, что здесь, куда мало-помалу вросла привычками и привязанностями, неудачи и потери еще долго ее не достанут.
Муж старался не вмешиваться в ее проблемы. Он ничего не терял, чтобы она ни решила. Единственное, о чем позволил сказать, это то, что привык гордиться своей женой, ее ученостью, положением в обществе, к которому они принадлежали. Здесь, мол, в селе она – присланный специалист, почетный человек, нужный, который хоть и засиделся надолго, так ведь делает нужное дело, окончания которого все ждут. А останься она тут одной из многих, будучи как все… Э-э-э… Чем же она тогда возьмет перед местными красавицами да хозяйками? Кто знает, как к ней переменятся местные жители.
Как часто бывает, решение пришло быстро и с наименее ожидаемой стороны. Фаина Филипповна, наконец-то, почувствовала, что станет матерью. Обращаться в местную больницу за уточнением она не стала – поехала в город к родителям. А три дня спустя уже была уверена, что случилось долгожданное событие: да, у нее будет ребенок. Обрадованные родители и слушать не хотели о том, чтобы молодые оставались в глуши.
– Фаня, доченька, – просила мать, – приезжай домой. Мы с Филей найдем тебе место в городе. Ты отработала по направлению положенное время и теперь ничем не связана. У тебя шестилетний опыт работы, авторитет. Это хороший багаж.
И тут впервые заявил о себе осчастливленный будущий папаша, причем в категорической форме:
– И не думай! Не желаю быть холуем твоих стариков.
Ситуация, так хорошо приближавшаяся к определенности, вновь повисла в воздухе. Но, когда камень уже стронулся с высокой горы, то не остановится, пока не скатится в самый низ. Так и тут. Раз накопилась сумма перемен, стронувшая чаши весов с положения равновесия, то одна из них обязательно перевесит другую. Пока родители Фаины Филипповны искали компромиссный вариант, в селе произошел случай, потрясший всех жителей. Собственно, это был очередной из таких случаев, но за ним открылось кое-что новое. Оно-то и явилось самым сильным потрясением.
А началось это три года назад, когда в селе и прилегающих хуторках с дьявольской регулярностью повторялись несчастные случаи с детьми. За это время несколько человек утонули летом, купаясь в ставках. Три человека по непонятным причинам ушли под лед зимой. Дети срывались с обрыва местного глиняного карьера и разбивались насмерть. Две девочки сгорели в стоге сена, видимо играя там в куклы. Но как они подожгли его? Четыре человека в разное время попали под поезд. Были и такие, что, похоже, покончили с собой. Их находили повешенными в посадках, в приусадебных садах, на чердаках домов. При них обязательно имелись записки примерно одного содержания, что они распорядились собственной жизнью сами, по своему усмотрению. Записки ничего толком не объясняли, но являлись поводом трактовать трагедию суицидом и соответствующим образом списывать ее.
Несчастья происходили почти ежемесячно. Перепуганные жители ударились в религию, язычество, мистику. Одни усиленно посещали церковь, крестили детей, святили дома. Другие – водили детей к бабкам и ведунам. Третьи – призывали на помощь духи умерших родственников. Беда, однако, не отступала, будто кто-то проклял эту землю или этих детей. Людская молва не замедлила проявить настоящую неистощимость в изобретении объяснений, измыслив «феномен проклятия», как его успели назвать журналисты.
Никто, ни те, что писали об этом, ни те, кто опасался этого, ни даже те, кто пострадал, не знали подробностей происшествий, известно было лишь, что расследования заканчивались заключениями либо о несчастных случаях, либо о суициде. И ни разу нигде не обнаружился, не объявился свидетель. Оно и понятно, будь свидетель, он помог бы ребенку сам или вовремя вызвал бы помощь. Именно отсутствие свидетелей и настораживало больше всего. Что тут можно было сказать?
И вот впервые очередная смерть детей носила явно насильственный характер. В семье Курносовых их было трое: старшая Лена девяти лет, первоклассник Коля и самый младший – Ваничка, едва научившийся ходить. Дети росли при бабушке и дедушке, составлявших с их родителями, Степаном Васильевичем и Галиной Евгеньевной, одну семью.
В тот вечер дети неожиданно остались дома одни. Они были привычны к этому, так как родители работали в районном центре, и из-за перебоев в работе транспорта зачастую приезжали домой поздно. А дедушка с бабушкой иногда позволяли себе развлечение – сходить в гости. Поэтому ничего необычного в том не было.
Злополучный день выпал на последнюю пятницу перед Рождеством. Степан Васильевич с женой, отработав день, решили смотаться электричкой в областной центр за рождественскими подарками, никого из домашних о том не предупредив. А домой планировали вернуться проходящим пассажирским поездом, что шел по удобному расписанию. Они знали, что дедушка и бабушка, старшие Курносовы, никуда не собирались уходить, и потому ни о чем не волновались.
Наступили сумерки, и в дом Курносовых неожиданно прибыл гонец из соседнего села, где жил родной брат дедушки, с известием, что тот находится при смерти и созывает к себе родных для последнего свидания: эту ночь ему-де не пережить. Старики, не подозревая о решении сына и невестки задержаться после работы, полагая, что те через час-полтора объявятся дома, накормили внуков и отправились по вызову, понимая, что ночевать они останутся там, около больного.
О том, что с их внуками случилось непоправимое, они узнали на следующий день, находясь у гроба почившего.
На первый взгляд казалось, что дети погибли от жарко натопленной печки – в плите еще краснел жар, а вьюшка была полностью закрыта. В крови погибших обнаружили смертельную дозу угарного газа, но там обнаружили и снотворное. Зачем дети пили снотворное? Кто им его дал? Отвечая на эти вопросы, патологоанатомы пристальнее осмотрели ротовые полости погибших. Это утвердило в правдивости их подозрений: таблетки детям в рот запихнули насильно. У Леночки были ранки, свидетельствующие, что она пыталась что-то выплюнуть, но ей рывком зажали рот, и она сильно прикусила язык. О том, что девочка догадалась о покушении на убийство, говорило и расположение трупов. Маленького Ваню нашли в сенцах, куда его, спасая от чада, видимо, вынесла Лена, преодолевая в себе сонливость и дурноту. Все говорило о том, что девочка тоже долго находилась в беспомощном состоянии и принялась исправлять ситуацию, когда было уже поздно. Ваня умер раньше, чем попал на свежий воздух.
Колю Лена успела лишь столкнуть с кровати, но дотянуть до свежего воздуха уже не смогла – так и застыла в порывистом движении, устремленная к выходу, сжимая братика за предплечье.
И в этот раз следствие снова не выявило виновных. Чужих в селе никто не видел. Местные жители, из тех, кто мог попасть под подозрение, в то время находились на людях, имея, выражаясь языком следствия, полное алиби. На кого грешить?
Пока проверяли людей, о которых заранее знали, что они не могут быть причастны к трагедии, на что ушел не один месяц, страшные случаи прекратились.
Фаина Филипповна, имевшая в юности крепкие нервы, а теперь – впечатлительная и ранимая, узнав о случившемся, пришла в ужас. Стресс был таким сильным, что у нее начались серьезные неприятности со здоровьем. В тот же день, когда по селу разнеслась весть о трагедии в доме Курносовых, у Фаины Филипповны начались боли внизу живота и ломота в пояснице – явные признаки подступающего выкидыша. Ее срочно отвезли в районную больницу на сохранение беременности, где она пробыла до декретного отпуска.
Перед выпиской чувствовала себя нормально и готовилась провести последние месяцы перед родами в милом безделье родительского дома и приятных заботах о себе. Однако перенесенное потрясение не прошло для нее даром, едва она вышла из-под наблюдения врачей, как у нее развились преждевременные роды. Через два часа после того, как «скорая помощь» доставила ее в роддом, 21 июня, в день летнего солнцестояния, она родила семимесячного мальчика (впоследствии с легкой руки журналистов получившего прозвище Зверстр – зверь-монстр).
В село она больше не вернулась. Муж передал ее квартиру колхозу и, насобирав с миру по нитке, где в долг, а где в виде родственной помощи, купил на окраине их районного центра Михайловки дом на три комнаты с верандой. На том само собой пришедшем решении они и остановились.
А что можно сказать о бывшем Хряке, а в браке – счастливом Хохнине? Он был отцом Зверстра и тем «заслужил» внимание к себе. Человеческие странности не обошли его стороной. Способный к учебе, любознательный, все схватывающий на лету, он тем не менее прошел в школе лишь курс неполного образования и дальше учиться не захотел. А так как в ту пору ему было всего пятнадцать лет и без паспорта его на работу нигде не брали, то он подался в колхозные конюхи.
Правда, в конюшне оставалось незначительное поголовье лошадей, и для ухода за ними достаточно было трех человек, ни на что другое не пригодных стариков, но в просьбе Ивану не отказали и взяли туда четвертым. Так и получилось, что дед Онисько и дед Карп фактически исполняли при лошадях обязанности ночных сторожей, за которыми закреплена была также уборка и чистка конюшни и стойла, а Иван да дед Феофан работали на выездах. При этом дед Феофан держал на контроле исправность сбруи и телег, всего ездового инвентаря, а Иван зато водил табуны в ночное, где лошади отъедались на целебных травах, дышали волей и спаривались.
Наверное, ночная романтика способствовала тому, что Иван стал спокойнее, сосредоточеннее и мечтательней. Он полюбил одиночество, мог часами сидеть где-нибудь на пригорке и наблюдать безмятежный мир. Окружающие чувствовали в нем невыговоренность, скрытую от постороннего ока жизнь. Им казалось, что Иван только делает вид, что принимает участие в разговорах, в работе, вообще, в жизни, а на самом деле его здесь как бы и нет вовсе.
За год, проведенный при лошадях, когда подоспел срок получения паспорта, он вытянулся, налился телом, похорошел лицом, обогнав своих сверстников и внешним видом, и силой. Стал отличаться от них неторопливой рассудительностью, приятной мужской обстоятельностью. Угловатая и нескладная его фигура выровнялась, волосы потемнели и закудрявились, глаза затянулись синим туманом, необыкновенно загадочным и притягательным.
Вопреки ожиданиям родителей и бывших учителей, Ваня, получив паспорт, из колхоза не ушел. И правильно, рассудили они. Все равно до наступления совершеннолетия на приличную работу не устроишься. А чем идти лишь бы куда, так лучше перебиться в колхозе среди своих.
Дожидаться совершеннолетия Иван не стал, взял да и загулял с бывалыми молодицами во всю прыть. И так ему это пришлось по вкусу, так соответствовало природной предназначенности, что в любви он проявлял небывалую фантазию, необузданность и неутомимость.
Пройдя практику у искушенных соблазнительниц, он быстро заскучал с ними. Приключения начали повторяться, больше не удивляя его ничем. Мужское начало, рано созревшее и развившееся до уровня искусства, требовало иного качества взаимоотношений. Больше не хотелось перенимать чужой опыт. Появилась потребность не удивляться, а удивлять; не брать, а отдавать; не учиться, а учить. Ваня сам стал соблазнителем, находя особое удовольствие не в раскованности партнерш, не в их всеопытности, а наоборот, в застенчивости, робости, но и в жажде первых ощущений. С удовольствием и энтузиазмом брался он покорять совершенно неприступных девушек. И странно, ему это удавалось без труда.
Подошел срок собираться на службу в армию, и Иван с облегчением вздохнул. Он привык к легким победам над слабым полом, научился без усилий отбиваться от назойливых вдовушек и разведенок. Как та, так и другая категория претенденток на особое внимание начали его раздражать, первые – уклончивым неумением, а вторые – настырным усердием.
Его романы на некоторое время прекратились, и в селе стали поговаривать, что племенной Хряк – слава тебе, Господи! – выдохся. И то правда: уже бегали по улицам детишки, подозрительно скроенные на одно лицо. Причем, не имело значения, были ли их матери замужем или нет. Сколько можно, да еще начав с такого юного возраста, давать себе волю?
Мужики собирались не раз «начесать Хряку рыло». Да беда была в том, что никто из них точно не знал, когда именно был оставлен Хряком в дураках. А махать кулаками наобум, сбивая рога с головы соседа, никому не хотелось.
Ване уже вручили повестку, и через неделю он должен был явиться на призывной пункт. По обычаю тех лет, родители затеяли проводы: составляли список гостей, закупали продукты, договаривались с кухарками. Новобранец уволился с работы и пропадал целыми днями в опустевших полях и расцвеченных подступающей осенью посадках.
– Пусть прощается с околицей, с детством, – говорила мать. – Вернется, и ему все покажется другим. А может, после армии и не вернется сюда. За ум возьмется да где-то среди людей зацепится.
Тогда такое вполне было возможно, более того, так многие и делали. Это считалось признаком наступившей самостоятельности молодых парней. Но надеждам матери не суждено было сбыться. Потому что Ваня вовсе не с околицей прощался: бродил в поисках зазевавшейся бабенки – напоследок придумалось ему попробовать применить грубую силу, преодолеть настоящее, непритворное сопротивление. Заломить руки, искусать губы и, разорвав одежды, вломиться в напрягшееся, отторгающее его тело своим подрагивающим четвертьметровым орудием. Заплескать уворачивающуюся женскую утробу давящим содержимым своего вопящего естества – и раз, и два, и три… Не выходя из мокрых розовых теснин, разверзшихся между раскинутыми ногами жертвы, получать усладу чередой оргазмов, следующих друг за другом, много раз. И снова: еще, еще! Избить, заласкать, напугать – все, что угодно, но добиться, чтобы заслезившаяся промежность выкинула разъяренный бутон клитора, потянулась навстречу бичующим ударам оплодотворения, чтобы безвольно запрокинулась голова, дугой выгнулось тело и, издавая рычание, стон или вой, забилось в конвульсиях, втягивая в вакуум плодоносящего лона его звериное семя.
Он так давно не был с женщиной, так мечтал об этом, так ясно представлял все детали того, чего намерен был добиться, что не произойти этого не могло. Женщину Иван заметил, едва она появилась на горизонте. Это была Галя-дурочка.
Эх, жизнь: крючочек да петелька…
***
Когда-то давно Галя страстно влюбилась в парня, Володю Сосика. Он ответил ей взаимностью. Это была сжигающая, неистовая любовь, замешанная на страсти. У Гали она еще только достигла апогея, когда Володя вдруг – неожиданно, без видимых, казалось, причин – бросил ее. Свой поступок объяснил тем, что такая пылкая любовь не создана для семейных уз, что ее идеалы изуродуются в примитивных и тупых хлопотах быта и превратятся в свою противоположность, изменив чувства и отношения. Жизнь, мол, станет адом, сотканным из ненависти друг к другу за улетучившиеся, растворившиеся в буднях мечты, за то, что из нее не получилось замечательной сказки, а вышла беспросветная черная работа.
Галя на момент разрыва с Володей сдавала выпускные экзамены на Аттестат зрелости, так тогда называлось свидетельство о получении среднего образования, неуклонно продвигалась к получению медали.
– Не хочу мешать ей, – признавался Володя более близким друзьям. – Кто я? Слесарь кирпичного завода, вечно грязный, в промасленной спецовке, с руками, в кожу которых навсегда въелся металл. Нет, – мечтательно прикрывал он глаза: – ей нужен другой. Галя выучится, станет большим человеком. Она будет еще благодарить меня, что я от нее отступился.
Нельзя сказать, что Володе легко далось такое решение. Первое время он ходил чумной, грустил, даже пытался прикладываться к рюмке. Но Гали избегал твердо и однозначно.
Девушка разрывалась между чувством и долгом, между ним и необходимостью закончить школу. Она действительно хотела уехать в мир более интересных дел, туда, где происходят важные, значительные события, хотела принимать в них участие, быть рядом с людьми, от которых зависит их исход. Но она даже помыслить не могла, что это ей нужно без Володи. Во всех ее планах ему отводилось особое место – почетное и ответственное.
Рассудив, что Володя просто устал от шквала чувств, от наплыва эмоций, от сильных и острых молодых ощущений, что ему надо отдохнуть от сияния и света, которыми ослепила их любовь, Галя сосредоточилась на получении Аттестата зрелости.
– Володя, не делай окончательных выводов, – просила она его. – Подожди, пока я окончу школу, и мы вместе во всем разберемся. Эта пауза нам обоим пойдет на пользу.
Володя ничего не отвечал, не гасил ее надежду сразу, а в душе был то ли рад, то ли разочарованно уверен, что Галя психологически адаптируется к разрыву, что теперь с нею ничего не случится и она перенесет его достойно и безболезненно.
Все же иногда у него вырывались горькие сетования:
– … скажет спасибо… А может, будет проклинать, что чистоту свою отдала мне – грубому работяге. – Он умолкал, а затем снова пытался предугадать будущее: – Как по-разному у нас все сложится… Она будет стыдиться меня и постарается забыть то, что между нами было. А я буду гордиться, буду век помнить ее, как праздник, который никогда не повторится. Я буду страдать, что о нем нельзя вспоминать вслух. И только эти страдания будут единственным, что во мне – вьючном животном – останется человеческого.
В тот день, когда Галя, сдав последний экзамен, дошивала платье для выпускного вечера, готовила – единственная медалистка, пусть и «серебренная» – текст для выступления на торжественной церемонии, в тот жаркий день, выпавший на третью пятницу июня, Володя без праздничности и помпы расписался с дальней родственницей – неразвитой, бесцветной, вечно сонной девахой с угрюмым квадратным лицом бульдога.
– Как же так, Володя? – тихо отвела его в сторону председатель сельсовета, которая должна была скрепить их союз официально. – А Галя?
– О Гале разговор окончен! – вспылил жених, резко оборвав сердобольную женщину.
– Ты хотя бы жену выбрал такую, чтобы Гале не обидно было! – с досадой воскликнула та. – На кого ты ее променял? Да она рядом с Галей – уродка! Бог покарает тебя...
– А мне от нее не много надо: чтобы работала да детей здоровых рожала, – сказал Володя уже без вызова, но все так же резко.
На выпускной вечер Галя не попала. Известие о женитьбе Володи перенесла спокойно. Невозмутимо выслушала новость и вновь склонилась над белым платьем, пришивая к нему последние бусинки бисера. Покончив с этим, повесила платье в шкаф и села к столу, принялась что-то писать. В открытую дверь комнаты мать видела ее спину, напряженно склоненную над столом, да руку, что быстро-быстро перемещалась поперек листа. Слава Богу, – подумала мать, – не плачет, не убивается. А что письмо прощальное пишет, так это не беда. пусть избавится от стресса, выльет его, скорее забудет. А молодая жена сей факт переживет – знала, какую любовь разбивает.
А Галя все писала и писала до позднего вечера. Первая тревога зародилась у родителей, когда дочка продолжала писать и в наступающих сумерках.
– Ты бы свет включила, – крикнула ей мать. – Темно уже.
Не реагируя, дочь продолжала заниматься своим делом. В комнате совсем потемнело, и мать, войдя туда, сама зажгла свет. Заглянув через плечо дочери на то, что она пишет, женщина в ужасе отшатнулась. Галя выводила, торопясь и нервничая, одно слово: «Вернись». Этим словом были исписаны и те листки, что стопкой лежали на столе по правую руку, подготовленные, как думала мать, к отправке адресату.
– Доченька! – закричала бедная женщина. – Что с тобой?
Но на звук голоса Галя не отреагировала, так же как не обращала внимания на свет и тьму. Мать интуитивно поняла, что разум дочери умер. А вместе с ним погибли слух и зрение. И ее надежды!
Конечно, Галя прекрасно все видела и слышала, но больше не отвечала на эти раздражители. Со временем родители убедились, что она перестала различать вкус пищи и ела все, что ей подавали. Чувства голода и насыщения также покинули ее, и она могла обходиться без еды неопределенно долго, и могла бы, наверное, съесть сколько угодно много. Но экспериментировать не решились и просто начали строго присматривать за ней. Благо, что сама она инициативы к приему пищи не проявляла, как впрочем, и ни к чему другому, и это хоть чуть-чуть облегчало уход за ней, ибо устраняло опасность, что она наглотается гадости.
Годы лечения результатов принесли мало, сняли с нее лишь запредельную угнетенность, но не вернули прежнюю полноту жизни и разума. Каждого нового человека, появляющегося рядом, Галя, словно собачонка, пристально изучала, исследовала, не Володя ли это. Так она поступала с врачами, родственниками, которых редко видела, всеми чужими, кто приходил к ним в дом. Женщины, естественно, не вызывали ее интереса, а мужчины… Галя подходила к незнакомцу и, протянув к нему голову, знакомилась с его запахом.
– Это не Володя, – сообщала вслух.
Затем принималась незряче ощупывать лицо, голову, плечи, руки, прислушиваясь к чему-то внутри себя, словно сличала добытые впечатления с теми образцами, что хранились у нее в памяти.
– Это не Володя! – волновалась она еще больше, впадая в панику.
Она начинала плакать и стенать, как будто сейчас только ей открылось, что она его потеряла. Родители поспешно уводили девушку в другую комнату, успокаивая прозрачно лживыми обещаниями, и она, поддерживая их игру, постепенно успокаивалась. Горе ее никогда не утихало, не ослабевало, а было новым и мучительным, как в первый момент.
Когда Галя начинала бродить по селу и искать Володю, когда, найдя его, заходила в дом и спрашивала, как он живет, не жалеет ли о своем выборе, просила беречь себя, признавалась, что ради этих встреч еще живет, то есть, когда она проявляла признаки ясного ума, ее увозили в больницу, ибо то были опасные симптомы: у Гали мог развиться буйный этап болезни, и его стремились предупредить.
А Володя? Он не стал заводить детей. С женой жил в ладу и согласии, но… Ее, вечно сонную, это вполне устраивало. А вот мать Володи боролась с его настроениями и негодовала.
– Какие дети? – огрызался Володя на упреки матери. – На моих руках Галя.
– У Гали есть родители, она не пропадет. Что же теперь делать? – сокрушалась его мать. – Ты же хотел для нее лучшей доли. Не ломать же теперь еще и свою жизнь, Володя!
– Да? А с кем она будет, когда родителей не станет? Нет, мать, это – мой грех. Мне и расплачиваться.
В глубине души его мама понимала, что сын прав, что поступает по совести. Но как же ее любящее сердце не хотело родному человечку такой судьбы! За что?
В состоянии ремиссии, когда болезнь отступала, Галя при встречах с Володей слабо улыбалась ему и заговорщицки подмигивала, мол, держись, казак, – атаманом будешь. Она очень постарела, сделалась седой. Конечно, не следила за собой, и если не успевала вмешаться мать, ходила неопрятная и измятая. Недуг, которому она отдала теперь больше лет, чем помнила хороших, брал свое – было видно, что это больное и беспомощное существо.
Она часто уходила в поля: ничего там не искала, просто старалась удалиться от людей. Гуляла, собирала цветы, рассматривала травы, созерцала небо. И научилась знать о том очень много полезного – начала разбираться в травах целебных и отравных, по виду звездного неба могла сказать не только месяц года, но и точное время суток.
***
Иван подпустил Галю поближе, обошел ее стороной и напал сзади. Неожиданность, однако, не застала врасплох ее, в которой как раз активнее всего и жили сторожевые центры, охраняя девушку от окончательного помешательства. Навеки ушедшая в себя, она не кричала, не стонала, а молча, с повадками загнанного зверя, отбивала атаки насильника.
Началась драка. В свернувшемся клубке тел трудно было узнать людей: на них были разорваны одежды, в кровь разбиты лица, искусаны руки и плечи. Несмотря на то что уснувший разум Гали отдал свою активность телу, увеличив физическую силу, она ослабевала быстрее. Она теряла азарт, и сопротивление ее становилось все более вялым и пассивным. Но и Иван измотался так, что энергии в нем поубавилось. Он скорее почувствовал, чем уразумел, что его не хватит на то, что он задумал, даже если одолеет девушку – Галя не сдастся, пока ее не оставят последние силы. А тот безвольный, податливый комок, который после этого от нее останется, заранее не вызывал у него энтузиазма.
Инстинкт хищника подсказал ему перемену тактики. Он отвалился от девушки в сторону и, раскинувшись на спине, попытался достучаться до ее сокровенных ценностей.
– Галя, Галя, как ты могла не узнать меня? Это же я, Володя. Зачем ты дерешься?
Девушка словно очнулась. Она замерла, впервые так явственно взволновавшись от человеческой речи, а затем подползла к Ивану и, осязая его, зашептала:
– Ты? Ты?
Она расслабилась, потеряла бдительность, тогда он снова атаковал ее. Опрокинув навзничь, коленями разъял сжимающиеся ноги девушки, вот-вот собираясь завладеть ею со всей накопившейся в его плоти неистовостью.
И тут что-то черное опустилось на его голову.
Как в темноте ранних осенних сумерек пришла домой измотанная, обессиленная Галя, трудно сказать. Добралась незаметно, неслышно, вполне осмысленно привела себя в порядок, затаилась. Залечила раны и царапины, назавтра напрочь забыв и о нападении, и о том, кто его совершил. Происшествие не произвело на нее никакого впечатления, хотя она и старалась не попадаться никому на глаза, пока не исчезли следы борьбы на ее теле. Родители напрасно задавали ей вопросы, требовали ответа, они ничего не могли добиться. «Володя… Володя…» – твердила она в бреду беспокойного сна, и они не знали, как это понимать. Возможно, заподозрили бы в диком поступке этого несчастного виновника их горя, если бы не узнали через несколько дней, что в полях нашли избитого до полусмерти Ваню Хряка. У него обнаружили переломы конечностей и ребер, и, что самое опасное, сильнейшее сотрясение мозга. Он находился в беспамятстве.