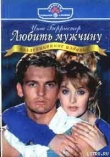Текст книги "Убить Зверстра"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Маньяки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Короткая стрижка на реденьких волосах который день не имела укладки.
Женщина была в трауре, на ней все было черным. Узкая длинная юбка, блузка с претенциозным острым вырезом, кофта, с небрежно расстегнутыми пуговицами, скрывающая и неуместное в данной ситуации декольте, и детали талии – все несло на себе приметы глубокой печали: где-то было подмято, где-то перекосилось на фигуре, где-то испачкалось мелом.
Из всего, что охватывал взор, лишь глаза были безукоризненно ухоженными. Это казалось странным и выдавало, что женщина в охватившем ее оцепенении автоматически делала то, чему раньше уделяла много тщательного внимания. Но и глаза, выделяющиеся на всем противоречивом облике, в соответствии с общей закономерностью не имели цвета, он как будто здесь и присутствовал, и как будто не было его. Потерявшие цвет, глаза широко глядели поверх людей и предметов. Преступив порог, женщина не сделала попытки осмотреться, выбрать место, разместить свои вещи.
Следом за ней показался, а затем, увидев, что мы с Ясеневой одеты, вошел смелее моложавый благообразный мужчина. Он держал в руках свое пальто и пальто женщины. Неяркая, без отличительных черт наружность, невысокий для мужчины рост, такой, что он был почти вровень со своей спутницей, неуловимая благообразность черт, манера держаться оставляли впечатление умеренности, доброжелательности и мягкости. Он был полной противоположностью Елене Моисеевне, ибо это была она, даже терялся на ее фоне, но вместе они составляли какую-то высшую гармонию, хотя и не ту, которую сразу видят и отмечают люди.
– О, кого я вижу, – он положил вещи на стул и пошел в сторону Ясеневой, раскинув руки. – Дарья Петровна, и вы здесь? Сколько же лет я вас не видел?
– Да, поди, уж лет девять, – подымаясь ему навстречу, сказала она. – Да, точно девять. Приятно, что вы меня узнали. Вы ничуть не изменились, дорогой Игорь Сергеевич. Все так же молоды.
Они дружески обнялись. Вновь прибывшая больная стояла, не шелохнувшись, и все так же созерцала что-то недоступное остальным.
– И часто вы здесь бываете? – спросил Дебряков. – Интересуюсь как ваш участковый психиатр, правда, бывший.
– Перемены в деятельности?
– Перешел на работу в частную клинику.
– Понимаю. Я здесь не так часто, как надо было бы. Но раз в два года отмечаюсь. А вы какими судьбами?
– Вот, – он показал на Сухареву. – Привел к вам новенькую, дорогого мне человечка. Прошу любить – Елена Моисеевна. – Он подошел к женщине, взял ее за руку и подвел к Ясеневой.
– Леночка, познакомься. Это моя давняя пациентка Дарья Петровна Ясенева, поэтесса, коллекционер талантов, умница. Тебе рядом с ней будет хорошо.
– Да, – неопределенно отозвалась она, не поменяв выражение лица.
– Занимай эту койку, – он показал ей на свободное место.
Сухарева прошла туда и села, отвернув уголок покрывала.
Дебряков поговорил с Ясеневой на вежливые темы еще минут пять, и стал прощаться.
– Леночка, ты попала в окружение знакомых и хороших людей. Чувствуй себя здесь свободно, я буду приезжать как можно чаще. Хорошо?
Она не ответила. Игорь Сергеевич надел пальто, а ее вещи разместил на вешалке.
– Лена, ты мне что-нибудь скажешь?
– Не уходи, – прошептала она, прижав к себе его руки.
Ее слова прозвучали так горестно и обреченно, что надо было быть именно мужчиной, чтобы не поддаться просьбе.
– Милая, я не могу находиться возле тебя все время. Ты в больнице, возле тебя наши друзья. Тебе нечего опасаться. Ну же, очнись, я прошу тебя.
Она молчала, глядела на него с мольбой и отчаянием, но его руки не отпускала.
– Ты видишь эту женщину? – он показал на Ясеневу.
– Да, – она даже взглянула туда, куда он показал.
– А ее имя запомнила?
– Ясенева. Я знаю ее стихи.
– Что же ты сразу не сказала? – подхватил он. – Помнишь что-нибудь?
Прости.
Я говорю «Прости!»
За скупость слов,
За краткость встреч,
Что удалось тебя найти,
Но не сберечь.
Сухарева декламировала срывающимся на плач голосом и Дарья Петровна увидела в этом надежду. Она незаметно показала Дебрякову знак одобрения и взмахом руки дала понять, что он может спокойно уходить. Подойдя к Елене Моисеевне, Ясенева присела перед нею на корточки и, привлекая к себе ее внимание, сказала:
– Спасибо. Вы сделали мне приятный подарок. Позвольте и мне вам отплатить тем же?
– Как это?
Она отзывалась на текущие события! Ее интерес следовало поддержать.
– Об этом мы поговорим позже. И, поверьте, вы не будете разочарованы. А сейчас давайте отправим Игоря Сергеевича на работу, его ждут пациенты. Мы же займемся своими делами.
– Какими? – Елена Моисеевна отпустила руки Дебрякова.
– О, их у нас много и все они не терпят отлагательств.
Я приблизительно представляла, о чем говорила Ясенева: в последнее время мы созерцали темное мартовское небо и гирлянды светящихся на нем точек, любовались слегка потеплевшим мерцанием звезд.
– Ох, и огнище полыхает в их недрах! – воскликнула я, проникшись масштабами неба.
– Ха! Не обязательно, – приземлила меня Ясенева. – Вон видишь у самого горизонта, – показала она на запад, где, едва опустилось солнце, загорелась огромная звезда, – это Венера. Она состоит из твердого вещества. И хотя температура там выше, чем на Земле, но огонь все же не полыхает.
– Чего же она светится?
– Она отражает свет Солнца.
– Ха! – подражая ей, удивилась я.
– Венера имеет одну особенность, отличающую ее от других планет Солнечной системы, – я навострила ушки, ожидая услышать что-то таинственное, известное только узкому кругу посвященных. – Она имеет самую плотную атмосферу из всех планет, окружающих наше Солнце.
– Это как-то видно отсюда?
– Нет, отсюда этого не видно.
– А, – разочаровано вздохнула я.
Затем наступил более глубокий вечер, переходящий в ночь, и она показала мне Плеяды, Тельца, Орион. В Тельце она учила выделять Альдебаран, в Орионе – самом замечательном созвездии неба – Бетельгейзе. Она говорила, что эта звезда – красный сверхгигант. Во! Потом показала Ригель, еще более яркую звезду в Орионе, хотя я видела мало разницы между Ригелем и Бетельгейзе.
– В звездах, да, бушует огонь, – рассказывала она.
– А почему тогда планеты мерцают, раз там ничего не горит, и они лишь отражают солнечный свет?
– Потому что этот свет проходит через нашу атмосферу, и она влияет на него.
– И на звездный свет влияет?
– И на звездный.
– Значит, они мерцают не от своего огня, а от нашей атмосферы?
– Конечно.
Это меня совсем разочаровало, но зато заставило в очередной раз пожалеть о пропущенных школьных уроках.
Днем Ясенева подводила меня к деревьям и заставляла слушать движение сока в их стволах. Я прижимала уши к холодной шершавой коре и действительно слышала слабые шорохи, как будто внутри притаился кто-то живой и сдержанно дышал там.
– В марте деревья уже просыпаются и начинают гнать сок из недр земли к самым дальним точкам кроны, ведь именно там появятся ростки новых веток.
Вообще она умела найти в обычном мире растений, животных, даже неживой природы – примелькавшемся, живущем рядом с людьми – интересные детали, то, мимо чего мы проходим, не придавая ему значения.
Когда сошел снег, она водила меня в посадку и показывала, где может вырасти новый муравейник. Я и старый-то найти не могла!
Вечный круговорот рождения и смерти, обретения и потерь – вот что, наверное, она хотела показать Сухаревой. Человек живет этими циклами, отмечая года. Но есть и другие, более длительные по времени циклы. Рождение и воспитание детей происходит в самом замечательном из них – детородном. И пока он не завершен, все еще можно наверстать, все можно повторить.
Да, но я отвлеклась.
– Видишь, как все хорошо складывается! – обрадовался Дебряков. – Ты меня проводишь, Лена?
Она отрицательно покачала головой.
– Иди, – только и сказала.
В это время в палату вошла местная достопримечательность – садистка Ася – с наполненным шприцом и по-хамски, как ей и положено, заорала:
– Кто здесь Сухарева?
Ясенева отошла от Елены Моисеевны, дав ей возможность самой отреагировать на вопрос.
– Я, – чуть слышно ответила та с ноткой страха в голосе.
– Больная, – припечатала ее Ася. – Оголите локоть, приготовьтесь к уколу! – не сбавляла она темп. – Посторонних прошу покинуть палату! – гаркнула в сторону Дебрякова.
– Лена, я завтра приеду, – пятясь к двери, он несколько раз кивнул головой, видимо, по количеству женщин в палате – я не считала – и, наконец, закрыл дверь со стороны коридора.
Внутривенная инъекция седуксена валила Ясеневу в сон ровно на шесть часов по швейцарскому времени, начиная от момента выхода Аси из палаты. Сухарева же сидела еще с четверть часа та том же стуле, на который ее усадила Ася, так же уставившись в одну точку, недосягаемую для остальных смертных. Пришла пора и мне появиться на сцене.
– Меня зовут Ира, – прервала я грезы о прошлом, из которого ее надо было вышибать чем круче, тем лучше. – Я хочу помочь вам лечь в постель.
И тут же хватко взбила подушку, сбросила покрывало, водрузила подушку в изголовье, отогнула край одеяла.
– Вам ведь хочется спать, не так ли? – я таки научилась навязывать свою волю больным и слабым.
– Хочется? – переспросила Сухарева.
– Да, – безапелляционно заявила я. – Вы будете спать долго, почти до вечера. А когда проснетесь, вам захочется покушать, – я замахивалась на самый расчудесный вариант.
Практически так оно и произошло – Сухарева спала часов семь, и все это время мы боялись находиться в палате, чтобы не потревожить ее.
– Как она в таком состоянии продержалась столько дней? – выразила я свое удивление риторическим вопросом, когда мы с Ясеневой устроились в холле, забравшись на диван с ногами и прикрывшись пледами.
По дивану, по нашим ногам и головам прыгали два забавных котенка, уже значительно подросших, которых кто-то принес в отделение, зная, что одна из врачей – Эмма Иосифовна Бамм, жена областного гинеколога – заядлая кошатница, и обязательно отстоит их право на сосуществование с людьми. Эмма Иосифовна не обманула ожидания неизвестного доброхота и надела на шеи котят противоблошиные ошейники, от чего они выглядели еще забавнее и смешнее. Им дозволялось все, тем более что котята быстро освоили пользование благами цивилизации и отличались щепетильной чистоплотностью. Они ходили в туалет туда же, куда и люди, а после посещения туалета орали благим матом, бегая за дежурной сестрой, пока та не вымывала им лапы и пятачки под хвостиками.
Итак, котята были чистыми, прыгали по нам, а мы рассуждали о счастье и несчастье.
– Сколько дней прошло после трагедии? – свалилась с Луны Ясенева.
– Десять, вчера у них были поминки девятого дня.
– Вот именно. Еще же надо было делать и поминки. Как ей повезло с Дебряковым! Не будь его, страшно подумать, что бы с ней стало.
– Да, уж, – поддержала я разговор классической фразой. – Нашелся бы кто-нибудь из друзей, родственников, знакомых, кто не оставил бы ее.
– Думаю, первые дни ее состояние не было таким тяжелым. Пока детей не предали земле, она ощущала их рядом, не принимая факт смерти. А вот после этого, потеряв возможность заботиться о них, даже мертвых, впала в ступор. Это тяжелое состояние, но спасительное, ибо означает, что нервная система затормозила сползание сознания в сумасшествие.
– Остановилась на грани.
– Да. И только когда она начнет плакать или вспоминать вслух, рассказывать о детях, тогда можно будет сказать, что дело идет на поправку: свершившийся факт осознан, освоен умом и начинается адаптация к новой действительности. Во многом это зависит и от нас, как от ближайшего ее окружения на этом этапе.
Когда она проснулась, было уже темно, и не обнаружив возле себя живых людей, Елена Моисеевна пронзительно и страшно закричала. Мы поспешили в палату. С этого дня и все последующие семь, которые нам оставалось провести в больнице, по ночам у нас горел ночник. Спящую Сухареву мы больше не оставляли одну.
За день до нашей выписки с ней произошла перемена, о которой говорила Ясенева. Елена Моисеевна, правда, не плакала, но, раскачиваясь из стороны в сторону и кивая головой, будто утверждая что-то, причитала:
– Мальчики мои, зачем же я вас пустила на свет? Родненькие мои, какие муки вы приняли.
В последнюю ночь мы проговорили до рассвета. Елена Моисеевна вспоминала свою жизнь и рассказывала, рассказывала. Ясенева только успевала незаметно менять кассеты в диктофоне. Я понимаю, что у нее выработалась журналистская привычка слушать людей с включенным диктофоном. Но зачем это ей понадобилось в данном случае, понять не могла.
Часа в четыре утра она предложила подремать.
– Вот и вы от меня уходите, – обреченно сказала Сухарева.
– Напротив, теперь мы всегда будем вместе с вами.
– Это все – слова, они не изменяют фактов.
– Но помогают осознать и принять свершившееся, – уточнила Ясенева. – Но мои слова не пустые. Я буду навещать вас.
– Что же я без них буду делать? – снова запричитала Сухарева.
– Жить. Жить и не думать ни о чем ином. Бог вам послал Игоря Сергеевича, о нем и думайте.
– Вы мне обещали сделать подарок, – напомнила Сухарева, превратившаяся в маленького ребенка.
– И выполню свое обещание. Но для этого вам надо поправиться. Я выполню его, не сомневайтесь.
– Это будет не скоро, – бедной Сухаревой хотелось ухватиться за жизнь.
– я постараюсь сделать его как можно быстрее. Не все от меня зависит, но действовать я начну уже завтра.
Нам удалось поспать часа три. А затем настало утро с обычными заботами, но в этих стенах они нас уже не касались. Оформив бумаги и сдав белье, мы вышли на улицу, где нас ждал Павел Семенович.
Сияло мартовское солнце, в его лучах серебрились кристаллики влаги, взвешенные в морозном воздухе. От низкой температуры обнаженные руки прилипали к металлическим предметам, слипался нос, и из него вместо пара вылетали потоки белых мелких снежинок.
Однако это были первые дни весны. Спустя неделю мороз ослаб, разразившись сильными снегопадами. Крупные густые хлопья неторопливо слетали с неба и приземлялись. Длилось это с небольшими перерывами почти до конца месяца.
Я немного забежала вперед, потому что события этих дней прошли мимо меня.
В магазине скопилось много неотложной работы. Я должна была познакомиться с новыми поступлениями, рассовать их по местам, потому что Валентина свалила все в кучу, пришпандорив к ней надпись: «Новинки». Она не успевала кодировать книги и вводить новые коды в кассовый аппарат, а также выводить оттуда то, что продалось. Как диверсант, заготовила бомбочку под Ясеневу и приманочку для налоговиков.
Настя из-за нашего отсутствия вынуждена была целыми днями находиться в торговом зале, подстраховывать Валентину, и развела повсюду пыль-пылищу несусветную, а по углам – паутину.
У нас был еще бухгалтер – Марина Ивановна Сац – вечно озабоченная своей работой. Ее сетования на то, что много времени уходит на налаживание внешних связей, на отслеживание перемен в законодательстве было слушать да не переслушать. Лично на меня бухгалтерия наводит скуку. От одних только терминов можно с ума сойти, легче выучить английский язык, чем ее термины.
– Восемнадцать видов налогов! – трагически восклицала Марина Ивановна в конце каждого квартала.
Был еще и директор магазина – Вера Васильевна Роща – жертвовавшая своей жизнью ради наших добрых отношений с ЖЭКом, обслуживающими и контролирующими конторами: зеленстроем, экологической милицией, пожарной инспекцией, санстанцией. Я не говорю уже о тех, кого к ночи не поминают. Толку от нее было чуть, если забыть на минуточку, что она обеспечивала нам относительное спокойствие в работе.
Я боюсь накаркать и никогда не произношу этого вслух, но на бумаге признаюсь, что Валентина, я и Ясенева занимаемся в магазине самой приятной работой – книгами и покупателями. Все! – никаких паразитов на нашу голову.
Что касается марта, то Ясеневу можно было бы смело опустить из этого списка, потому что в магазин она приходила редко и в основном тогда, когда ее никто не ждал. Она писала стихи. Однажды такой же март застал ее… Нет-нет-нет, все сначала: однажды такой же март она застала в Москве.
Живу у кромки синей тишины.
Твои шаги все четче мне слышны,
Сквозь мерехтящий от снежинок свет
Знакомый различаю силуэт.
Сейчас приблизишься, сейчас, сейчас…
И будет праздник губ и праздник глаз.
Я счета дням и мартам не веду:
Ты все идешь, а я – стою и жду.
Обычно она читает стихи с листа, держащего в левой руке, на носу – очки. Правой, свободной рукой – иллюстрирует состояние души, жестикулируя сдержанно, но трогательно. При чтении голос ее немного садится, становится глухим, с надрывной хрипотцой не от интонаций или актерских приемов чтения, а от сдерживаемого волнения, глаза становятся темными и бездонными. Даже странно, что светлые ее глаза, напоминающие ряску на сельском пруду, могут становиться двумя омутами в морской пучине.
Ах, март!
– Пятница, – почему-то вслух произнесла я.
Да, сегодня была пятница, и, что немаловажно, – мартовская. Этот день недели я вообще любила как предвратие чего-то приятного. Наверное, в этом сказывалось затянувшееся детство или память о нем. Ведь когда-то мои пятницы наполнялись ожиданием и предвкушением выходных дней, планированием вместе с родителями наших скромных развлечений и подготовкой к ним.
Но сетовать причин не было – и теперь был тот самый заветный день недели, который вдобавок сулил скорое (уже не обманешь меня, зима) тепло. И кое-что из былых роскошеств, а именно – субботу, дивный праздник, ибо я знала, что завтра родители будут свободны от работы, и, значит, я вернусь домой на все готовенькое как человек, усердным трудом заработавший право пофилонить от домашних дел.
Я послонялась по пустому торговому залу, натыкаясь глазами на книги, чинно-важно стоящие на полках корешками к читателям. Иногда эти застывшие миры казались мне солдатами, стерегущими тут покой Ясеневой, именно ради этого намертво вставшими между нею и беспокойным племенем покупателей, а пуще того – проверяющих всех мастей. По отношению к последним, правда, термин «беспокойный» представлялся неуклюжей попыткой сделать им комплимент, что при определенном угле зрения граничило с издевкой. В самом деле, вы же не придумаете называть чеченских террористов «беспокойным племенем». Как бы после этого вы выглядели со стороны? А им от этого станет кисло, будто вы хотите заподозрить их в потере квалификации, да и вам сделается не по себе то ли от показной дерзости, то ли от дебильного непонимания людей, если отбросить подозрения в вашем подхалимстве, конечно.
Хотя, чего там миндальничать, – эти простодушные бандиты, бегающие с бомбами по городам и селам, приносящие много слез и горя, тем не менее просто дети по сравнению, например, с налоговиками. Ведь принцип у них один: убей того, к кому тебя послали. Но дети есть дети, шалят безыскусно: где-то постреляют и удерут, куда-то исподтишка взрывчатку сунут и затаятся в надежде увидеть, что-то оно теперь станется. Другие, глядишь, кого-то в заложники возьмут и рисуются вместе с ним на всех телеэкранах, довольные своей выдумкой: открытость намерений, чистосердечие заверений, никаких подтекстов и двусмысленностей.
Иное дело человек проверяющий, бдящий и то, как он шифруется (придуряется то есть, скрывается под маской) под казенный интерес. Его оружие не стреляет, не взрывается, не убивает сразу. Нет, он сначала вымотает из тебя все нервы, затем под видом спасения от неприятностей обберет до нитки, а уж после этого сыпанет и обвинения, и штрафы, и всякие другие виды удушения. И все это с улыбочкой, без маскхалатов и намордников – интеллигентно, культурно. Высший пилотаж терроризма! А ведь проверяющих и количественно больше, чем всех чеченцев разом.
Да-а, чего это меня занесло черт-те куда? Вы правы, если думаете сейчас, что книги – никудышные солдаты и защитники. Таки да, книгами не берут. Да и Ясеневой вот уже который день нет в магазине. Как выписалась из больницы, так и глаз не кажет. А без нее тоска, друзья мои, скука. И книги кажутся мне, как и я сама, одинокими узниками в пыльной сухой тюрьме.
Где-то клацнул металл. А-а, это Настя тащится убираться тут. Значит, тюрьма для книг через полчаса станет менее пыльной и сухой, а я отброшу хандру и возьмусь за дело.
Тем более что за окном мелькнула чья-то голова и по ступенькам зачастили шаги. Я загадала: если этот посетитель что-то купит, то скоро Ясенева выдернет меня отсюда, и я снова буду рядом с нею, буду искать на вольных ветрах правду и защиту от зла. А если зевака погреется и уйдет восвояси, то пылиться мне здесь, как бредятине Горбачева, до новой аферы, которую для приличия именуют перестройкой. И то сказать, не будешь же писать детям в учебниках по истории, что, мол, меченный нечистый, вовремя не распознанный людьми, разыграл крупную партию, начав черными и выиграв с сухим счетом, что есть ни что иное, как невиданное доселе разорение и ограбление.
Но из крутящегося барабана моих предположений выпало ни то, ни другое, а нечто совсем иного рода. И я подумала, что это просто ворота в рай: на пороге магазина возник Алешка. Трудно описать, какой у него сделался фейс растерянный, какой взгляд ищущий, какая улыбка виноватая, когда он увидел меня! Сбросив скорость, парень застыл в нерешительности. Похоже, голубчик не рассчитывал так быстро остаться со мной наедине, приготовился маленько поломать комедию на потеху зрителям и для разрядки моей злости, а потом уже приступить к объяснениям. А тут – ничего и никого: ни арены, ни аншлага, ни приборов для разрядки. Только я с отчаянными намерениями.
Мне даже жалко его стало. Но я вовремя нашлась. Как бы повела себя Ясенева в такой ситуации? – подумала я, намереваясь воспоследовать ее примеру. Мое воображение разогналось и тут же затормозило, не в силах изваять образ обиженной Ясеневой (каковой я чувствовала себя в душе). И я пошла окольным путем. Я представила, что Дарья Петровна сидит на своем месте, просматривает книги, делает выписки или строчит очередной роман. Ни на минуту при этом не упуская из виду попавшего в капкан магазина покупателя. А раз так, то мне вполне позволительно надуть губки и отвернуться к окну. Оно у нас французское, до пола, через него многое можно разглядеть.
Я не расстраивалась – уловка воплотиться в Ясеневу не удалась не столько из-за отсутствия во мне воображения или актерских способностей, сколько от крайней непохожести моего Алешки на ее Мастера (не прошло, видать, для меня даром общение с Гоголевой, вот вам и забылась, назвав мелкого в моих глазах засранца Мастером с большой буквы). Невозможно даже предположить, чтобы тот говнюк вот так топтался и мялся в нерешительности, как это я наблюдаю боковым зрением за избранником моего сердца. Но состроить обиженный вид у меня вполне получилось, вот пусть и понервничает немного.
Алешка продолжал молча пялиться на меня, будто перед ним возник оживший соляной столб. И тут я хлопнула себя по лбу: так забыться! Так глупо перепутать мечты свои с реальностью! Так непростительно заиграться ясеневскими стихами. Какой Мастер? Откуда? Ведь Алешка ничегошеньки не знает, ни о чем не подозревает и ни во что не посвящен! Он же не знает о моих чувствах! Он не подал ни полповода, чтобы мне удобно было выказать свое отношение к нему. А без этого как же я могла намекнуть и как же он мог догадаться о своей столь высокой миссии в моем воображении? Вот стоит и думает, наверное, до чего же пошло эта великовозрастная дылдище строит мне глазки.
Не скрою: я тут же похвалила себя за проворность соображалки и гибкость поведения. А затем ловко подобрала расквашенные губы и с улыбкой повернулась к нему: если у него напряг с инициативой, то не попробовать ли мне? Тем более что я при исполнении.
– Алешенька! – дала я волю языку. – Что же ты так долго не заходил к нам?
– Привет, – отозвался он через силу, так странно и непонятно было ему наблюдать мои придуманные обиды и намеки на необоснованные претензии. – Почему ты злишься? У тебя неприятности?
– Пустяки. Не обращай внимания. Это к тебе не относится. А ты как поживаешь?
Он снова странно замялся и покосился в сторону стола, за которым обычно работала Ясенева. Я даже испугалась: ведь то, что она там сейчас сидит, я придумала для себя. Так почему он ведет себя так, будто это правда?
– Честно говоря, у меня возникли проблемы.
– Проблемы? – кажется, в моем вопросе звучала скрытая радость от догадки, что он так квалифицирует события, связанные с рыжей кондукторшей. – Что за проблемы? – я не могла скрыть нетерпения.
Вот сейчас он поведает мне, как эта мерзавка обманула его, насмеялась над ним, обнесла его квартиру, стибрила его накопления и улизнула восвояси.
– Да все Артемка, брат мой.
– Артемка? – я опешила, выронив из горсти бусинки надежд.
Братьев Звонаревых – Алексея и Артема – воспитала бабушка. Теперь она была в преклонном возрасте, и за пятнадцатилетним непоседой присматривал старший брат. Я знала, что Артемка – шустрый мальчишка, самостоятельный. Не без шалостей и озорства, но и не такой оторвиголова, какой в его возрасте была я. Не мог же он в одночасье испортиться!
– Заболел? – неподдельно встревожилась я, так как слишком давно и слишком талантливо вошла в роль его старшей родственницы.
Ох, долго я еще буду пожинать плоды своего легкомыслия. Не сотвори себе кумира, девочка (если в нем нет надобы, как у Ясеневой, и если у тебя мозгов не набралось управляться с ним)! Или, другими словами, что позволено Ясеневой, то не позволено ее подражательницам.
– Кажется, влип в неприятности, – остановил поток моих саморазоблачений Алешка. – Я хотел бы с Ясеневой посоветоваться. Не знаю, как и быть.
А-а, так он к Ясеневой притопал! А я-то: Алешенька… Не заводись, – приказала я себе. Нет, до чего во мне много стервозности, самой противно. И ведь раньше не замечала, только думала-гадала, за что мне так часто перепадало от старших, да и от сверстников тоже. Подружки не раз грозились за косы потаскать. Облагородившись критикой, я поостыла. И тут во мне проснулся дух исследователя (я же не могу, пребывая в благородном состоянии, называть это вынюхиванием).
– Продолжай, – несвойственным мне тоном произнесла я, но на Алешку это не сразу подействовало.
– А что, Дарьи Петровны нет?
– Нет.
– Но ведь на днях она будет?
– На днях будут выходные, – продолжала я оставаться лаконичной и деловой. – А дело терпит?
– Может, и терпит. Но лучше бы мне с нею сразу повидаться, – он ничего не хотел объяснять, но, почувствовав, что зря морочить мне голову не очень тактично, снизошел до уточнений: – Это серьезно.
Если бы это был не Алешка, то, не сомневайтесь, он бы скоренько ушел отсюда, несолоно хлебавши. Но коль я взялась сделать из него парня своей мечты, то надо было проявить терпение и находчивость. Жители Новороссийска, словно почувствовав, что мне не до них, обходили наш магазин десятой дорогой, даже мимо нас, по-моему, трамваи ездить перестали. Валентина задерживалась на базаре, куда рванула за покупками на выходные дни, а Настя гремела ведрами где-то в складе. О бухгалтере и директрисе я не говорю – они несли свои кресты за пределами наших владений. Не может же быть, чтобы такое удобное стечение обстоятельств ничего не значило. Видимо, Алешке в самом деле нужна была помощь, и силы мира старались, чтобы я была свободна к его услугам.
Я, но не Ясенева. И изменить это не в моей власти. Будь она свободна, то давно бы пришла сюда или хотя бы позвонила. Да и я ей не могу позвонить просто так, с бухты-барахты. Это был тот случай, когда «Европа может подождать», – она была чем-то увлечена, а это – святое состояние, и за вторжение в него могла наступить немедленная расправа.
– Алеша, мне неудобно тебе это предлагать, но, правда, будет лучше, если ты сейчас расскажешь, в чем дело. О твоих проблемах я обязательно сообщу Ясеневой, как только она выйдет на связь. Убедила? – спросила я, чтобы отрезать ему обратный ход, и победила.
Вместо ответа он поднял сумку, которую на протяжении всего разговора не знал куда деть, и поставил на прилавок. Затем извлек из нее сверток наподобие тех, в каких сантехники или электрики носят свои инструменты, в нем в самом деле оказались инструменты: три самодельных ножа с деревянными рукоятками, сапожное шило и обрывок какого-то провода.
– Вот, – сказал Алешка.
Он очень волновался, у него даже пот на лбу выступил, и от этого взмокли волосики, падающие на лицо.
– Что это? Где ты это взял? – я уставилась на Алешку. – Ты что, как Остап Бендер, решил переквалифицироваться в… – я еще раз посмотрела на разложенные железки: – в сапожника?
– Я нашел это у Артемки, – он заторопился с объяснениями, нервно вытирая измятой тряпкой, что когда-то была носовиком, увлажненное лицо. – Два фактора, понимаешь, – пыхтел он.
– Да не волнуйся ты, отдышись. Что за факторы?
– Во-первых, он это прятал, что само по себе вызывает вопросы и подозрения. А во-вторых, этот маньяк, что по телевизору…
– Стоп! – я властно наложила лапу на то, что было разложено на грязном куске ткани, естественно, завернув свободный его край на железки, чтобы не повредить девственной информативности улик.
В том, что это улики, сомнений не было хотя бы потому, что я проникла в кокон зла, незаметно для себя где-то взломала его защитную оболочку, и теперь на меня пер поток неизбежных его разоблачений. Где, где я так удачно попала? Ведь это не может быть случайностью.
– Стоп, – повторила я спокойнее. – Ты говорил с братом? Где он это взял?
– Я же поэтому и пришел к вам! Говорил с ним, конечно. Но он, гаденыш, молчит и все. Ничего мне не рассказывает. Ты представляешь, что можно подумать? Нет, я с ума сойду. Хоть бы он мне соврал что-нибудь, что нашел сверток, например. Хотя где это можно найти? – его речь начала сбиваться, интуитивное желание сказать сразу все и самому не испугаться мешало последовательному изложению мыслей. – Вот я и хотел, чтобы Ясенева с ним поговорила.
– А он сам согласен? Может, пока ты здесь, пацан дал деру из города и поминай, как звали. Это если он виноват под завязку.
– Нет, он напуган, конечно, но бежать не станет. Дарье Петровне обещал все рассказать, если она даст ему расписку, что никому не проболтается.
– Ну дурное! Такой лоб вытянулся, а ума, что у несмышленыша.
Я призадумалась. Ситуация – глупее некуда. Но ее нельзя было упускать, иначе пацан передумает колоться даже при Ясеневой с распиской. Решение напрашивалось само: я ведь Алешке не чужой человек (плевать, что он об этом не догадывается!): не выдам и не предам. Вряд ли Ясенева готова была пойти за ним, а значит, и за его братом, в огонь и в воду, как я. Неужели плакала моя карьера следователя и светлые мечты, неужели судьба повязала меня с сомнительными людьми, и назад к добру и справедливости мне ходу нет?