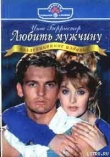Текст книги "Убить Зверстра"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Маньяки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
– Наоборот, нас заберут от нее, – успокоила меня Ясенева.
Тем временем я сама догадалась: нас переводят в четвертую – двухместную – палату, где вчера освободились обе койки. Ясенева, видя, что мне объяснять не надо, уже потирала ладошки:
– Ветер на улице поменял направление, и теперь там тепленько.
– Вам же все время жарко, – напомнила я.
– Жарко, но неуютно. А когда тепло, то уютнее, – она озорно подмигнула мне. – И мышей нет.
– О! – не сдержала я возглас удивления. – А как же воспоминания детства, вхождение в поэтический образ и ощущение материала?
– Вспомнила, вошла, ощутила. Хватит.
– Вы именно в этом смысле радовались, что имеете подругу-врача?
– Нет, конечно. Слушай, не перебивай меня. Тут такое дело, а ты…
– Уже! – посерьезнела я, сидя вытянувшись, словно изображала солдата перед командиром.
– Итак, состоялась наша вторая встреча-совещание, – начала она свой рассказ.
– Без меня, – уточнила я на всякий случай, чтобы освежить в ее памяти мысль о необходимости детального изложения событий. Я ведь знаю, что мне предстоит та еще работенка, а без знания деталей успешно задание не выполнишь, даже по самым добросовестным инструкциям.
– Именно, но мне полезно повторить все сначала, чтобы взглянуть на ситуацию со стороны.
Из ее рассказа выходило, что Гоголева, выслушав содержание тревожного сна Ясеневой, ничего нового, ошеломляюще понятного не сказала.
– Это ассоциативный сон, – был ее вердикт. – Накануне болезни ты получила двойной стресс: первый – оттого, что Ирина чуть не угодила под машину, и второй – от созерцания чужого инсульта, разыгравшегося на улице. Это произвело на тебя тягостное впечатление, нагрузило эмоционально. В результате, – продолжала логическую цепь причин и следствий Гоголева, – ты потеряла сон и по привычке свою бессонницу посвятила незабвенному Мастеру. Ты смотрела в окно на ночное небо, размышляла о вечности жизни вообще, о бренности человека в частности, сожалела, что годы уходят, а вы остаетесь далеко друг от друга – другими словами, наводила на себя грусть, не заботясь о напряженных до предела нервах. В итоге почувствовала приближение приступа: твои физические возможности по переработке внешних воздействий опять отставали от мощности их потока, сознание начало зашкаливать. И тут ты пустилась в поиски причин надвигающегося недомогания: вбила себе в голову, что они связаны с чьим-то несчастьем. Хотя по большому счету так оно и есть. Но об Ирине и этой старушке на улице ты напрочь забыла. А вот надуманное беспокойство о Мастере сыграло сложную роль: с одной стороны, оно отвлекло тебя от полученных впечатлений и, вроде бы, амортизировало запредельные нагрузки, а с другой, – продлило процесс тревожного возбуждения, переведя его в тлеющий, изматывающий режим. И ты получила то, что заработала. Но подсознание вычислило твое заблуждение и во сне подсказало конкретный повод к болезни. Оно подсунуло тебе образ старухи, мол, вот чем ты перегрузилась эмоционально. Более того, там, в подкорке, сохранился след ее слов, обращенных к тебе. Ты, человек нравственный, восприняла это как установку, что должна выполнить ее просьбу. Но так как твое сознание было занято Мастером, то есть ошибочной фигурой болезни, то подсознание в виде сна напомнило тебе об исполнении морального долга. Вот и занимайся этим. О чем она тебя просила?
– Дословно: передай, что он там. И остальное – в том же роде. При этом отдала мне рецепт, – Дарья Петровна протянула его подруге.
Гоголева долго крутила в руках измызганный клочок бумаги.
– Шестнадцать лет, – размышляла вслух. – Да, по возрасту, как ты мне ее описала, он может быть ее внуком от поздних детей или правнуком – от ранних. Ясно, что мальчик болеет. И если он остался дома один, то, естественно, она просила помочь ему.
– А вдруг хуже того – лежит дома больной старик, ее муж, и она просила передать мальчику, что он там. Старуха не договаривала, где там. Видимо, считала это само собой понятным – дома. Она силилась подчеркнуть, что он там один , но на это у нее не хватило сил.
– Да. в любом случае она указывала нам на этого юношу – И. Я. Васюту. Вот тебе и надо его найти.
– А ты уточни вопрос о старухе, авось она жива. Потом уж займемся мальчишкой, это я беру на себя.
– Годится, – согласилась Гоголева с предложенным распределением обязанностей.
Они еще поговорили о том, о сем, посудачили о мужьях, жалея их, каждая на свой лад. Гоголева приготовила кофе, предложив подруге облизаться, – тонизирующие напитки ей были надолго противопоказаны. А потом сжалилась и взамен налила полстакана теплой, выдохшейся минералки.
– Твоя статистика наблюдений над собой абсолютно верна – ты реагировала на переизбыток информации, то есть на сумму своих возбуждений, а возникали они у тебя из-за пустяков, которые ты сознанием в расчет не принимала, как не принимает их в расчет всякий здоровый организм. Такая себе инерция ощущений по ничтожным поводам, только ведь ты-то – больна, и тебе не много надо, чтобы возникла вегетативная буря. Но я хочу сказать другое: твои приступы свидетельствуют не о том, что кому-то предстоит пережить неприятности, а о твоей трактовке наблюдаемых тобою чужих проблем.
– Да-а, а теперь ты меня гасишь сибазоно-седуксенами, – сказала Ясенева. – Но у меня хоть голова перестала кружиться, а то я и ходить не могла.
– В медицине не существует такого понятия, но я рискну его сформулировать. По-моему, у тебя возбуждение не столько глубокое, снимаемое пресловутым аминазином – почему, кстати, я тебе его и не назначаю, – сколько глобальное, оно охватывает не только спящие в нормальном состоянии участки коры, но и подкорку. Волнуется подсознание, понимаешь? Как море в бурю. Отсюда и повышенная интуиция, озарения, предчувствия. Только ты не спеши радоваться. Я понимаю, что такое состояние благотворно сказывается на творчестве, но само по себе оно истощает организм, а ты еще нагружаешь его работой, эксплуатируешь собственную болезнь.
– Не радуюсь я. С чего ты взяла? Но, конечно, и обыкновенной мне быть не с руки. Ты же, как нарочно, все время призываешь меня к безмятежной жизни. А это скучно и страшно. Не хочу!
– Не хо-чу-у, – раздельно произнесла Гоголева, впадая в меланхолическую задумчивость. – Где же золотая середина? Что я должна тебе предложить?
– Не знаешь?
– Нет.
– Тогда пошли по следу: ты ищи мою старушку, а я – рецептурного мальчика.
– На том и разошлись, – закончила повествование Ясенева.
***
В новой палате нам как-то сразу стало уютнее, мы перестали вспоминать давнишние неприятности, всякие норки, мышек и так далее. А вообще иногда слишком большое пространство так же давит на человека, как и слишком маленькое. После переезда мы на радостях почаевничали, пригласив на новоселье и Дубинскую. Мы провели чисто английский вечер: не говорили о работе, о семьях. Все больше о ком-то и о чем-то. С Ясеневой же не соскучишься, если она, конечно, этого специально не хочет. Только когда заговорили о годах, неудержимо летящих в прошлое, она посетовала на возрастные неприятности со здоровьем. Затем стали собираться на ночь, спать. В последнее время я видела спокойные сны и была уверена, что у Ясеневой тоже нормализовался здоровый ночной отдых.
Но вот досада: ждешь, ждешь эту весну и вот-вот она, кажется, начнет приоткрывать свое личико, а тут снова за ночь намело снегу такую прорву, что сугробы вокруг кустов и деревьев, росших у стен нашего корпуса, доходили до второго этажа. Но, сами понимаете, нет худа… Зато воздух благоухал чистотой и был морозным до звени, отзываясь на вдох и выдох тонюсенькими голосами невидимых хрустальных колокольчиков.
Мы вышли на разминку, пару раз трусцой оббежали корпус по расчищенной дорожке, помахали руками-ногами, умылись снегом, растирая лица до появления жара, и вернулись в палату.
– Ясенева! – послышался в коридоре голос медсестры. – К Гоголевой! – она заглянула к нам через полуоткрытую дверь, оперлась о края проема, низко наклонилась, отставив назад одну ногу, и радостно сказала: – Драсьте!
Было еще достаточно рано для бесед. В это время Гоголева обычно проводила сеанс аутогенной тренировки, на которые мы с Ясеневой ходить не любили, не пошли и сегодня.
– Сейчас получим по ушам за прогул, – предположила Дарья Петровна.
– Не «получим», а «получу». Вас ведь одну вызывают, – уточнила я из чистой зловредности, тут же поняв, за что мне в детстве ни с того, ни сего, как тогда казалось, перепадало от мамы на пряники.
Ясенева округлила глаза и озадачено склонила головку – точь-в-точь как это делает ее любимчик в минуту замешательства. Господи, – помню, подумала я, – она ему так подражает, что далее дело может дойти до невозможного. В расшифровку этого «невозможного» я вдаваться не стала, в голове промелькнула какая-то глупость, но я ее в себе задавила. Дело было в том, что это он, паршивец, ей подражал, еще в те времена, когда вовсю подлизывался. Прямо все стоит перед глазами, будто это было вчера. У-ух, не моя воля надавать ему тумаков под зад!
Отсутствовала Дарья Петровна не более четверти часа, а вернулась бодрая и подтянутая.
– Итак, – произнесла свое любимое словцо, после которого последовала многозначительная пауза, а затем глубокий шумный выдох через трубочку губ. – Наша незнакомка, старушка с перекрестка, скончалась еще по дороге в больницу. Три дня она пролежала в морге без опознания, ибо никто ее не искал, а на четвертый была похоронена в безымянной могиле на Краснотальском кладбище. Кто, что, где, когда? – покрыто мраком. Одна надежда на этот рецепт, – Ясенева показала на меня, словно я стала живым его олицетворением. Я провела ладонью по лбу: там ничего не было, никаких надписей. Значит, просто имелась в виду информация, которую я должна была добыть по скудным его данным.
– Ага, это для вас Гоголева постаралась, выполнила обязательства.
– А ты идешь номером два, – ответила она, одновременно подтвердив мою прозорливость и напоминая о выданном мне задании.
Я понимающе кивнула.
– Гоголева еще здесь?
– Ушла уже.
– Ну, тогда мне пора, – обреченно засобиралась я, поглядывая на часы и прикидывая, застану ли на работе врача Лысюк Лидию Степановну. На работников регистратуры у меня надежды не было.
– С богом, Парасю, пока люди случаются, – благословила меня Дарья Петровна – знает народное творчество, тут уж не попеняешь ей.
– Фу, как грубо! При вашей утонченности… – попыталась я повыделываться.
– Сама такая, – услышала я, выходя из палаты. Да, к вашему сведению Ясенева не простая эрудитка, начитавшаяся умных книг. Она вышла из гущи простых людей и являлась воплощением народной души и мудрости. Сколько знаю ее, а все открываю в ней что-то новое. Многому из того, что она знает и умеет, научиться нельзя, просто нельзя. Это надо впитать из благоуханного воздуха детства, надо вырасти на тех традициях, что пережили века и победили тлен.
Я оказалась права, регистраторша из первого поликлинического отделения четвертой больницы фактически послала меня на фиг. По голосу чувствовалось, что этой девице в любви везет так же, как и мне. Хотя я-то имею предмет воздыханий, а у нее, видать, и того нет. Нахамила мне, нагрубила, как же – ведь я разыскиваю молодого человека. Она аж заревела от зависти, пропустив мимо ушей и его возраст, и мои объяснения. Вот дура – не понимает, что моя позиция хуже! Где я, а где – мой Алешка! Да и что ему до меня? Тискается с какой-то рыжулей, чтоб ей облысеть, и что я могу поделать?
Замолчавший телефонный аппарат навел на меня грусть – состояние благостное и плодотворное. Я любила грустить, когда душа то ли утяжелялась собственной значимостью, то ли болела бессодержательностью бытия. Но все равно в этом состоянии она овеществлялась во мне продуктом сознания – глубокими мыслями. Кроме шуток, не все же время мне так весело и беззаботно, как вы можете подумать, читая мои записки.
Уставившись на кусок черной пластмассы, я корила себя за то, что в душе часто подтрунивала над Ясеневой. Да и в разговорах с нею иногда допускала перебор дозволенного. Ох, нарвусь когда-нибудь на ее плохое настроение, мало не покажется!
А ведь ей бывает неизмеримо больнее, чем мне. Так невыносимо больно, что она не в состоянии молчать. И она кричит, надрываясь. Кричит! Это не просьба о помощи, не желание добиться внимания, заявить о себе людям, это безотчетный крик живого страдающего существа. Так кричит раненный заяц, скулит побитая собака, воет затравленный волк, трубит олень, когда его добивают. А она пишет стихи. То крик чисто человеческой сущности, где душа переросла в тело, а тело перевоплотилось в эфемерную душу, где накал этих взаимопроникновений и соединений высокой звенью отзывается на то объективное, что ее затрагивает.
Ее «объективное затрагивало» имело известное имя, высокий социальный статус и было запретным для произношения, поэтому друзья Ясеневой придумали для него свои имена. Кто называл его кумиром, кто бывшим соратником, а я чаще – паразитом, засранцем, гадюкой. Разными другими именами, причем с маленькой буквы. И лишь одна Гоголева относилась к нему с почтением и именовала неизменно – Мастер, вы уже на это должны были обратить внимание. Ибо дурной пример заразителен, вскоре так именовал его уже весь город. Но моя фантазия в этом смысле еще не исчерпана, посмотрим, кого будут называть Мастером спустя время, лет эдак через тридцать. Ведь я доживу, а? Не буду ничего утверждать относительно жанра и тематики, но поэзия и любовь – бессмертны. И значит, у Ясеневой – больше шансов. Вот так-то!
А он ведь знал о ее чувствах – ох! – знал, проходимец. И нуждался в них. По-своему отвечал на них и поощрял, как змей.
Так вот, сравнивая себя не с девочкой из регистратуры, повергшей меня в эти размышления, а с Ясеневой, я понимаю, что Дарья Петровна права и прекрасна в своих терзаниях, ибо имеет для них повод и талант выражения. А я?
Мне вдруг показалось, будто что-то прояснилось в моей голове, открылось, что Алешка тут вообще ни при чем. Просто я начиталась ясеневской поэзии и переложила свои впечатления на него. Да, моя болезнь называется ясеневщина. А переносилась она разноликой бациллой, которая в одном случае зацепит тебя словами:
Я словно в юность звонкую спешу,
Не жизнь, но словно поезд провожаю…
Ах, как я жду вас! – тем лишь и живу.
И выживу ль, сама не знаю.
В другом случае – ударит разудалым словом и развернет тебя лицом к небу, и ты почувствуешь, что все тебе под силу:
Что хочешь ты? Я все перекрою,
Переберу и все переиначу.
Мне равных нет теперь! Смеясь и плача,
Над горизонтами неясными встаю.
Эх, да что там… Я плачу – верите? – читая ее строки. И знаете, что он ей однажды сказал? Признался, что не читает ее стихов.
– Почему? – заподозрила Ясенева, что они ему не нравятся.
– Потому, что после них мне плохо. Я теряю работоспособность.
Ну, не гадюка? Значит, пусть она там хоть треснет, а он себя бережет. И она – сказать бы, да не хочется – еще подготовила и выпустила к его юбилею два поэтических сборника. Так мало того! Когда через год после такого роскошного подарка – кого еще так поздравляли в день юбилея, я что-то не припомню из истории всемирной литературы? – он ей преподнес это гнусное признание, она знаете что сделала? Она сказала:
– Значит, не читай.
И не думайте, что в тех словах была обида или вызов, поза какая-нибудь. Ничего подобного!
– Не читай, я не хочу, чтобы тебе было плохо, – сама любовь говорила ее устами.
А вот не писать она не может, такого удовольствия для него сделать не хочет. Так ведь и он этого не хочет!
Нет, это можно вынести, скажите мне? Хоть бы и на моем месте, глядя на это со стороны?
Бурлящая, нерастраченная ее любовь прорывается к жизни, как одуванчик из-под асфальта. Она живет не только в поэзии, но во всем ее отношении к миру, к людям или событиям. Она выливается на всех, кто соприкасается с нею, потоками благодати. Люди не замечают этого. Только почему-то, уйдя от нее, начинают крепче любить, строже беречь, нежнее лелеять то, что имеют в своей жизни.
Их поражает бацилла ясеневщины – единственная счастьетворная заразная болезнь.
Думаете, я не отдавала себе отчет, что бацилла счастьетворная мутировала в бациллу злоискореняющую, отчего Дарья Петровна и болела? Думаете, я не понимала, что сейчас вирус Дарьяна-А преобразовался в вирус Дарьяна-В и пошел по кругу с очистительной миссией? Отдавала. Не знаю только, как назвать свою роль в этом процессе, но она была не второплановой, это точно.
Долог путь человека к умной мысли, а родится она в один миг, и, не дав рассмотреть свой лик, унесется, оставив после себя лишь осознание долга. Этот долг велел мне не рассиживаться с умным видом в чужом кабинете, а звонить и искать нужного нам человека. Для исцеления Ясеневой.
Лысюк Лидию Семеновну я достала дома. Регистратура поликлиники мне ничем не помогла. Через адресное бюро и справочную службу телефонов, потратив два дня, я ее все-таки нашла.
– Да, это я, – с облегчением услышала я в трубке, набрав добытый номер телефона.
– Простите, – замешкалась я. – Собственно, у меня тут заготовлена легенда, но, может, лучше обойдемся без нее?
– Какая легенда? Кто это говорит? – обеспокоились на том конце.
Я почувствовала, что она боится. Этого только не хватало! Пришлось назвать себя и кое-что к этому добавить. Причем, правдой было только мое имя и то, что мне от нее требовалось, а все остальное – сплошная импровизация. Ну, не любят люди правды, боятся ее. Что делать…
– … работаю в морге, – спокойно тек мой голос. – На самом деле я студентка, учусь в мединституте, а там – только подрабатываю, – продолжала я настаивать на достоверности выбранной версии. – У старушки при себе был только рецепт, – далее я излагала содержание рецепта, подписи, надписи, печати.
Когда, наконец, до нее дошло, о чем я толкую, я спросила, не помнит ли она подростка И. Я. Васюту.
– Помню, конечно, но по телефону ничего сообщать не собираюсь. Приходите ко мне на работу с официальным письмом, и мы поговорим.
– Какое письмо? Ну что вы усложняете? Я по своей инициативе хочу помочь в установлении имени покойной, а вы… Ведь ее кто-то ищет, а без этих сведений никогда не найдет.
– Приходите ко мне на работу, – заладила она.
Что ж, тоже правильно. Сколько в городе И. Я. Васют шестнадцати лет от роду? Думаю, не очень много. Конечно, я бы его нашла и другим путем. Но этот, через Лысюк, короче.
Делать нечего, придется ехать. Мы договорились о встрече, и я вернулась в палату, где теперь Дубинская заботливо потчевала Ясеневу домашними припасами и рассказывала о своей дочери.
– … и остался жить у нее, – закончила она фразу и осеклась, увидев меня.
Мне не было дела до проблем с Алиной Ньютоновной, меня больше заботило то, чем мы занимались с Ясеневой.
– Вы не хотите прогуляться на свежем воздухе? – это я предложила Дарье Петровне.
– Как дела? – она еще перебирала, идти гулять или не идти, и связывала это с моими розыскными успехами.
– Голова еще цела, – ответила я словами ее придурковатого гения.
– Тогда вперед.
Не раз я уже упоминала, но так до конца самой в это не верится – погода в конце февраля переменчива. Три дня Ясенева не выходила на улицу, и теперь, ступив в чавкающую снежно-водянистую жижу, невольно воскликнула:
– Такой снег пропал!
– Ничего, – утешила я ее. – Синоптики пообещали, что температура пока повышаться не будет, а дня через два-три так даже усилятся морозы.
– Хорошо, если через два-три.
– Чем? – я не понимала ход ее мыслей, поэтому и спросила.
– Вода успеет уйти в землю, а снег отфильтруется и прикроет ее слоем, защищая от образования льда в почве.
– О! Чувствую влияние большого знатока сельскохозяйственных проблем, ветеринара-строителя мадам Жанны.
– Чуча! – засмеялась Ясенева. – Ты забыла, что это я родилась в деревне и росла там до восемнадцати лет, а не Дубинская. И вообще, что это за тон?
Пришлось признаться, что я зарываюсь и заслуживаю выволочки, но, зная снисходительный нрав поэтессы Ясеневой к выпендрежной молодежи, очень надеюсь, что таковая не последует. Тем более что в работе я добросовестна и неутомима.
– Значит, завтра ты встречаешься с Лысюк, – задумчиво констатировала она. – Во сколько?
– В десять утра.
***
В кабинете сидела особа трудноопределяемого возраста, где-то между тридцатью и пятьюдесятью годами. Невысокая, средней полноты. Обращала на себя внимание крупная голова с короткой стрижкой. Светлые волосы естественного окраса были крайне жидкими, и сквозь их торчащие кустики просвечивала розовая лоснящаяся кожа.
Лысюк сверкала очками, за которыми трудно было разглядеть глаза, но мне это и не надо было.
– Это я вам вчера звонила. Извините, конечно. Меня зовут Ира, – начала я ломать комедию.
– Зачем вам Васюта? – резко спросила Лидия Семеновна, не обращая внимания на мою вежливость.
– Возможно, он нуждается в помощи, если умершая, например, его бабушка или какая другая единственная родственница.
– С ним все в порядке, а тем более с его бабушкой. Что вы задумали? – начала она наступление. – Зачем морочите мне голову?
– Это ваш рецепт? – больше я не изображала простушку, а в свой вопрос вложила скрытое обвинение в чем-то нечистом, короче, решила не церемониться с этой овечкой.
– Да. А что?
– Он найден в кармане умершей. Как он к ней попал?
– Не-е, не знаю. А кто умер?
– Это мы и пытаемся установить. И в свете сказанного, как не трудно убедиться, это как раз вы морочите мне голову, а не я вам. Подумайте также над тем, что старушка могла умереть и не по собственной инициативе, может, ей помогли в этом. А? Кто этот подросток? Где его искать? Почему вы скрываете правду?
– Почему я… то есть почему вы обратились ко мне?
– Меня интересует, как рецепт попал к пострадавшей. А рецепт выписали вы. Так?
– Да.
– Ну, вот. Конечно, можно найти мальчишку и по другим каналам, но тогда с вами буду говорить не я и не здесь, а официальные лица и в другом месте. И разговор они начнут совсем с другого вопроса, – я сделала многозначительную паузу.
– С какого?
– О вашем участии в этом деле.
– Какое участие? Этот рецепт я лично отдала в руки Ивану.
– Ивану?
– Ване Васюте. Я была у них дома, по вызову. У него был жесточайший бронхит.
– С кем живет? Где? Он до сих пор болеет? – посыпались из меня вопросы, как будто я только то и делала раньше, что допрашивала полулысых женщин, лысючек.
– Теперь уже нет, ведь прошло две недели.
– Точнее, десять дней.
– Пускай. Но он уже посещает школу, – она замолчала и выжидательно посмотрела на меня.
– Ну? – деликатно напомнила я о других вопросах. Девушка оказалась понятливой.
– Бабушка с ними живет.
– Отец, мать?
– Да, он у них один.
– Что за мальчик?
– Хороший ребенок. Занимается, правда, посредственно, но это потому что не дано. Хотя он старается, много просиживает над уроками.
Я молчала.
– Еще что-то? – Лидия Семеновна переменила опасливость на отвагу.
Теперь она задешево сдавала мне своего пациента все с тем же видом истово исполняемого долга. О, люди!
– Конечно, мне по-прежнему нужен его адрес.
– Ах, – она по-старушечьи приложила руку ко лбу. – Видите ли, они живут рядом со мной. Мне не хотелось бы… Соседи.
– Портить отношения? – догадалась я, она кивнула. – Я им не скажу о нашем разговоре. Вы забыли? Ведь я могла найти его по официальным каналам.
– Спасибо, – скомкано проговорила она. – Когда, вы говорите, умерла женщина?
Я назвала дату.
– Ага, – она еще раз взглянула на рецепт и протянула его мне, дополнительно указывая на многострадальную бумажку пальцем другой руки. – Этот рецепт я выписала на следующий день после того, как была у них по вызову, – она заискивающе посмотрела мне в глаза, вызвав недоумение переменами своих настроений. – Мальчик был тяжело болен, он не мог сделать ничего дурного.
Ах, вот она о чем!
– Спасибо, – поспешила успокоить ее я, понимая, что без разговора с домашними Вани мне не обойтись.
Информации было чуть. Ясно, что старуха – не бабушка мальчика.
– До свидания, – говорила я уже почти сердечно. – Как вы понимаете, нам тоже ни к чему огласка этой беседы.
Лидия Семеновна беззвучно закивала, не спрашивая, кому это «нам».
На улице стоял морозец. Не такой, чтобы совсем было невмоготу от холода, но достаточный для того, чтобы влага, находящаяся в воздухе, кристаллизовалась и сверкала, бликуя в лучах смелеющего к весне солнца. Мельчайшие кристаллы не воспринимались глазом как материальные объекты, они казались точками света, рассыпанного в воздухе и медленно оседающего на землю не под влиянием силы тяжести, а от желания поклониться ей – бело-торжественной, мудро-ждущей, многострадальной, терпеливой.
Неразличимые глазом снежинки все прибывали, спускаясь вниз. Люди не успевали истоптать, изломать их новые слои, невесомой пеной укрывающие все вокруг.
Я боялась спешить, боялась идти быстро, делать энергичные движения. Казалось, что это было бы кощунством. Двести метров, отделявшие поликлинику от дома, где жили герои моих поисков, я прошла не свойственным мне тихим, вкрадчивым шагом.
Дверь открыла роскошная блондинка. Другое определение к ней трудно подобрать. Крутые формы в соединении с пышными объемами, рыжие волосы в соединении с их густотой, лоснящееся лицо в соединении с сытостью в глазах, халат, домашние туфли… Я на минуточку прикрыла веки, пытаясь стряхнуть с себя накатившую виртуальность, но все существовало в действительности. Без преувеличений я попала в мир осуществленных мечтаний, в сказку.
Какой толк описывать ее приметы? У каждого своя сказка. Эта была очень похожа на мою, потому что лучшей я себе представить не могла. Из сбивчивого рассказа все равно квартиру Васюты не представить, и я лишь травила бы себе душу, попытайся предложить вам это сделать.
Веки мне пришлось поднять и пошире открыть глаза, отвечая их немым удивлением на любезно прозвучавший вопрос, сказанный прокуренным дамским голосом:
– Ну?
Что ж, я сама иногда бываю столь же лаконична. Передо мной возникло лицо бедной Лидии Семеновны, пытающейся найти ответ на мое короткое «Ну?».
Видимо, пауза онемения, вызванная открывшимся в дверном проеме великолепием, слишком затянулась, что в сочетании с моей простецкой внешностью вызывало недоверие и протест. Не желала бледно-крупнолицая Васютиха, чтобы к ней в квартиру названивали молодые, пригожие скромницы. Что поделаешь? Мне тоже общаться с нею как-то расхотелось. Это удлиняло паузу, и, наконец, ее длительность перевалила за критическое значение.
В тот момент, когда блондинка попыталась захлопнуть дверь, я вставила ногу в ссужающуюся щель и сунула ей под нос сногсшибательный рецепт.
– Ага! – вскрикнула она, едва взглянув в бумажку. – Так ты внучка этой проходимки? Тогда возвращай мне деньги, а не рецепт. Спасибо, обошлись. Мошенница какая! Мальчик умирает, а она пропала с несчастной сотней. Да подавись ты! – отмахнулась она от моей попытки открыть рот.
Тирада продолжалась еще четверть часа. Из нее я узнала, что подлая Евдоха, пользуясь безвыходным положением семьи Васюты, выманила у них сотку и скрылась в неизвестном направлении. Но не на тех напала.
Грозный муж этой красавицы навестил квартиру беглянки и, не застав ее дома, оставил там записку категоричного содержания с изложением своего личного мнения о ее поступке и возможных санкций, которые будут к ней применены, если она не возвратит деньги.
Когда запас воздуха в необъятных легких Васютихи иссяк, и она остановилась, чтобы произвести вдох, настал мой черед. Тем более что я уже пришла в себя, поняла, с кем имею дело, и изысканный интерьер квартиры в моих глазах переменился на кричащую, наглую бездуховность, аппетитная блондинка превратилась в белесую, расползающуюся жабу, а благоухание достатка, ранее щекотавшее обоняние, засмердело упитанными телесами его обитателей.
– Я из морга, – еле успела отчеканить я, выбрав самую короткую шокирующую фразу, иначе бы торчать мне здесь еще долго.
Ха-ха! Теперь пришел ее черед хлопать ресницами. Белизна ее лица стала еще белее, от него отхлынули живые токи. Помертвевшее, оно сделалось серо-белым, напоминая мучнистую поверхность пресного теста.
– Что с ним?
Вот это совсем другое дело!
– С ним – ничего. Я пришла по поводу старушки. Кажется, вы назвали ее Евдохой?
– Евдокия Тихоновна Жирко.
– Кто она? Адрес?
– Это подруга моей мамы, бывшая сотрудница моего отца, живет по улице Крутогорной, – она четко и кратко отвечала на вопросы, как будто давать показания – ее основная профессия. При этом у нее абсолютно исчезло любопытство. Она перестала интересоваться мной, и я, естественно, не стала распространяться о том, чья я внучка.
– Как мог этот рецепт попасть к Евдокии Тихоновне?
– Она иногда помогает нам по хозяйству.
– За деньги?
– Да, мы ей оказываем материальную помощь.
– Это теперь так называется?
– Ну, мы платим ей за выполненную работу.
– Понятно. Дальше.
– Заболел Ванечка, и она взялась купить лекарство.
– В какой аптеке она делала покупки?
– Не знаю, у нас тут рядом масса аптек.
– Вы говорили, у нее есть внучка?
– Да, но она живет в Киеве. Я ее почти не знаю.
– Кто у нее еще есть?
– Никого. Дочь давно умерла, оставив ей малолетнюю девочку, то есть эту внучку, которая теперь в Киеве.
– А муж, зять?
– Никого, – повторила она. – У них повелось рожать без мужей. У Евдохи его никогда не было, так это и не удивительно. Тогда мужей на всех не хватало, война выкосила. А дочь? Мы с ней ходили в одну школу, только я младше ее. Она сразу после школы родила, а потом болела лет пять и умерла.
– Вам оставить рецепт? – спросила я, собираясь откланяться.
– Зачем он нам? Ваня уже здоров.
– Ну и хорошо, – подытожила я. – Всего доброго.
Я спустилась на один пролет лестницы, но чувствовала, что дверь квартиры не закрылась, словно она была заговорена нахальным жестом моей ноги. Я обернулась.
– Ваша знакомая умерла, – сообщила я. – Не вините ее, она просто не успела помочь вам.
Не хотелось, чтобы о покойнице думали плохо. После этих слов послышался звук закрываемой двери. Как это она удержалась, не спросила, где же ее сотка или лекарство для сына? Неужели постеснялась?
День выдался тяжелым. Мне приходилось и раньше бегать с поручениями от Дарьи Петровны, но так, чтобы с миссией дознания – впервые. Причем я же напрягалась и импровизировала! А это – сплошная неизвестность, нервотрепка и перегрузка мозгов. Насмотревшись в отделении неврозов всякого, я теперь бережно к ним отношусь.
На улице успело стемнеть. Жалея себя, я попутно раздумывала, как мне лучше поступить – ехать в больницу или переночевать дома, а туда отправиться утром. Второе было предпочтительнее, потому что дом-то, считай, рядом. Но Дарья Петровна будет волноваться. Дарья…