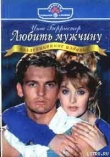Текст книги "Убить Зверстра"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Маньяки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Следствие, проведенное в отношении избиения Хряка, так и не узнало, что этому предшествовала попытка изнасилования Гали. Сам Хряк, придя в сознание, сообщил, что ничего не помнит, что он возвращался домой после прогулки, и вдруг на него что-то налетело. Что? – он сказать не может. А так как в ту пору по округе шастали цыгане, то на них все и списали, закрыв дело за отсутствием улик. Хряк понимал, что его кто-то избил, заступаясь за Галю, но кто и сколько их было, он в самом деле сказать не мог.
Так и получилось, что в армии служить ему не пришлось. Тот осенний призыв он пропустил по болезни. А позже, провалявшись в областной травматологии, затем в отделении неврозов психиатрической клиники в общей сложности почти полгода, получил инвалидность по поводу черепно-мозговой травмы и как следствие – статью о непригодности к строевой службе, как говорится, выгорел ему белый билет. Не было бы счастья…
Кто знает, как сложилась бы жизнь этих троих, столь разных молодых людей. Но, воистину, миром правит случай. На следующее за этой осенью лето на полевом стане погибла Володина жена. Ее зацепило въезжающим во двор стана на отстой комбайном. Это был типичный несчастный случай во время жатвы, какие происходят почти каждый год в период, когда полеводческие бригады сутками не покидают жнивное поле. То ли комбайнер, очумевший от жары и усталости, задремал за рулем и не увидел в лунной темени спящую на обочине под липами женщину, то ли она, патологически сонная в состоянии бодрствования, а во время сна и вовсе отключающаяся, слишком близко скатилась к дороге, завернувшись в охапку сена так, что различить ее очертания в этой охапке было невозможно, – трудно сказать.
Просто ее нашли утром у самого въезда на полевой стан под тремя развесистыми липами. Здесь хлеборобы устраивались поспать несколько часов ночью, но любили отдыхать и днем, там было много густой и влажной тени. Застывшие останки были перемешаны с соломой так, что если бы не кровь, то никто бы не обратил на них внимания до следующего полуденного отдыха. Комбайны через час-другой снова вышли в поле, и обнаружить на их вытертых стеблями пшеницы поверхностях следы трагедии не удалось. С разрывом в десять-пятнадцать минут двадцать комбайнов прошло по этой дороге на отстой, а через короткое время столько же их отправилось обратным порядком. Когда и под какой из них скатилась спящая женщина, и сколько колес по ней прошлось, осталось невыясненным. Кстати, остальные кухарки, умостившиеся на ночной отдых под теми самыми липами, так и проспали до утренней зари, ничего не слыша и не подозревая.
Нелепое стечение обстоятельств, приводящее к трагедии, всегда вызывает обилие вопросов. Но все они, большей частью, риторические, потому что непродуманность деталей в этих обстоятельствах и их независимость от воли человека слишком очевидны.
Спустя полгода, выждав срок траура, отпущенный ему требовательно-снисходительным общественным мнением, Володя забрал к себе Галю. Родители ее, закрыв глаза и обхватив голову руками, согласились на это, ибо то был шанс изменить что-то в судьбе дочери, кажется, в лучшую сторону. А худшая – смирительная рубашка да голые стены психиатрических карцеров – дай Бог, чтобы не пришла. Они оказались правы.
За два последующих месяца Галя посветлела лицом, затем незаметно ожили ее глаза. Из пустых и бесстрастных они стали внимательными и осмысленно сосредоточенными. Через полгода она уже узнавала близких и родственников. Впрочем, у тех никогда и не было сомнений, что она их узнает. Просто они были ей не нужны, они находились за пределами ее иллюзорного мира, они, в самонадеянных усилиях воспринимающие жизнь всерьез, представлялись ей смешными и незначительными, не стоящими внимания.
А далее не прошло и года, как Галя превратилась в тихую, светящуюся изнутри особенным светом незатейливого счастья женщину. Болезнь, сразившая ее в одночасье, долгие годы гнувшая и подавлявшая ее, теперь отступала медленно. Но, видимо, не смогла окончательно утвердиться в молодом организме, раз подалась все-таки, начала пропадать, уходить от Гали. Галя стала женой Володи, дождалась осуществления мечты, идущей к ней такими страшными, покрученными тропами.
***
После лечения Иван Хряк очень переменился, и кто видел его редко, вполне мог бы и не узнать теперь. Его смуглое лицо с правильными чертами вытянулось и приобрело выражение, плохо считываемое с него окружающими. Нос заострился и почти навис над поджатыми посиневшими губами. Подбородок из массивного и волевого сделался тяжелым и зловещим. Больше всего метаморфоз произошло с глазами, провалившимися в землистые, словно присыпанные пеплом глазницы. Из бархатисто-темных, мечтательных и умных, потеряв глубину, они превратились в два отточенных клинка, почерненных холодом неведомых намерений. Их хищный, ненавидящий взор, казалось, больше не излучал мыслей. По выражению глаз было ясно, что в глубине черепа, уменьшившись и измельчившись, потеряв широту и размах, обитают не мысли, а мыслишки – издевательское подобие ума, они зачехлились дополнительным твердым панцирем, разлившись по его объему переродившейся студенистой массой. Там почивала инерция, не приемлющая ни скорости, ни легкости, там свил гнездо морок, изгнавший свет и светлость, там, в душных закоулках тупиков, затаился подстерегающий зверь. Сильные руки удлинились и доставали, как у гориллы, чуть ли не до колен.
Безусловно, в Иване произошло внутреннее перерождение, самой малой долей отразившееся на внешности. Никто тому не придал значения, приписав перемены болезни и потрясению.
А вскоре в его судьбе появилась Фаина.
Может быть, местные девчата завидовали бы ей, попытались отбить, увести от нее потенциального жениха. Но их останавливало как его неуемное непостоянство в связях, так и травма, последствия которой могли отразиться в будущем самым неожиданным образом. Интуиция, неосознанное ясновидение нормального ума.
Хотя поначалу, когда Хряк, а позже Хохнин, зажил с Фаиной жизнью примерного семьянина, у многих скребло на душе, что упустили-таки завидного парня. Позже, узнав, что в этом браке может не быть детей, черви сомнений повыздыхали, оставив после себя белое забытье.
Лишь древние старушки, провожая чету Хохниных взглядом, бывало, покачивали головами и предрекательно рассуждали:
– А ведь фамилию-то Хряк носило не одно поколение его предков. И не зря – натерпелись бабы от этих Хряков: что плодовиты, что до слабого полу охочи – одна страсть. В ей наследственная судьба содержится, рок.
– Да-а, – поддерживала разговор какая-нибудь другая бабенка. – Производитель он, на то и создан. Гляди-ко, сколь в селе детишек на него похожи бегают.
– А с законной женой дела не идут. Может, породы не совпадают?
– У людей все породы едины. Тут другое – Фаня-то неполноценна, видно же сразу. Так, не человек, а брак человеческий.
– Иди ты! – удивлялись те, кто ее не знал. – Как же она учение осилила?
– И-и… Ученье – от ума, а дебильность – от неправильной команды мозгов организму человека.
– Так не бывает, – гляди, подавал голос друг вечных сомнений.
– Еще как бывает! Выдрессировать можно и медведя.
Такой спор возникал не единожды и длился, затухая или разгораясь, в зависимости от того, много ли тем стояло на повестке дня. Заинтригованные старички тоже не гнушались присоединиться к спору, чуть ли не пари заключали:
– То в ней причина! – указывал куда-то в сторону дед Феофан, который на правах коллеги Ивана претендовал на особое мнение. – С Иваном все ґуд, бабы. Он еще себя покажет, заделает ей под самое никуды. Помяните мое слово!
– Не спорь. Завял он, однако. Опять же, заметь, – волочиться по бабам перестал.
– Женат же, – возражали моралисты. – Чего ему теперь надо?
– И-и… Что ему раньше одна юбка была? Тьху! – и растереть.
– Смотря, что в той юбке. Фаина, видать, злая до этого дела, аж жуть. Не поверите, в конюшню к нам прибегает.
– Да ну!
– А то! Сам видел не раз. А однажды не удержался и подглядел все от начала до конца. Ой, что мне открылось! Сказать – и то стыдно.
– А ежели не говорить, а самому попробовать?
– Да мне-то уж куды пробовать-то, – он с грустью покивал головой. – Дурные мы были в молодости. Сколько всего не знали.
– А греха не боишься? – крестился кто-нибудь на эти признания деда Феофана.
– Какой на мне грех? – вскидывался дед. – То у них грех: на глазах у голодных кобылиц выделываться. А я чего?
– Верно бабы говорят, что Фаина крепко повернута. А этим дебильшам, знамо, и днем и ночью – только подавай кобеля усердного.
С годами эти разговоры забылись. И когда Фаина Филипповна понесла, никто уже не радовался и не удивлялся.
***
Зверстр устало прикрыл глаза, расслабился и остался лежать удовлетворенный до опустошения. Он ничего о родителях не помнил, даже не знал их по воспоминаниям или рассказам бабушки.
Внезапный всплеск образов из глубины забытого вынес на поверхность памяти потускневший лик матери, ощущение ее присутствия и тут же вновь погрузил все в непроницаемые воды забвения. Игра в прятки с прошлым ему понравилась, и он попытался продолжить ее, попытался вызвать оттуда звучание ее голоса, ее аромат. Но тщетно. Появлялись лишь отдельные фрагменты внешности: широкий, низко сидящий зад, шаркающая походка, оскал смеха – голоса нет, – в котором отчетливо видны крупные желтые зубы в обрамлении мокрых липких губ.
Оказывается, глаза помнят крепче и вернее иных органов чувств. Но вот прорвался из вязкости прошлого утонувший туда голос отца, низкий и резкий. Звучал как бестелесное эхо далекого и чужого. Ничего больше нет. Нет этих теней, нет их отзвуков.
Зверстр мало видел отца, мало для того, чтобы запомнить. Наверное, отец не любил его и не умел с ним общаться. Вспомнился подслушанный однажды разговор родителей, когда они думали, что остались одни.
– Что хочешь, то и делай, но рожать больше не смей, – говорил отец.
– Один ребенок – это сирота, Иван. ты не имеешь права обрекать его на одиночество.
– Не умничай! – прикрикнул отец. – Хватит рожать уродов.
– Зачем ты так? С ним все в порядке.
– Разуй глаза! Он же, как паралитик, в судорогах бьется от любого невинного удовольствия. А что будет дальше?
– Он перерастет. Это особенность его психики, – возражала мать.
– Психики, – передразнил отец. – Достаточно посмотреть на тебя в постели, чтобы понять, как эта «особенность психики» перерастет в «особенность физиологии».
– Иван…
– Хватит! Сказал: родишь – убью обоих. Все.
Вскоре после этого разговора маленького Гришу забрала его городская бабушка. Это были его первые школьные каникулы, новогодние. Бабушка устроила в доме елку с огнями, пригласила соседских детей, деда Мороза, Снегурочку.
А потом она долго и тихо плакала, повторяя: «Я знала это. Я подозревала. Так и должно было случиться». Сколько прошло дней или месяцев между счастьем праздника и этими ее слезами, сказать Зверстр не мог.
Помнит лишь, что как-то вечером позвонила мама, чтобы справиться о сыне. Бабушка говорила, как обычно, – ровно, рассудительно, короткими фразами. Она всегда так говорила со старшей дочкой, словно не высказывала мысли, а программировала слушательницу на определенные представления или действия. Таков был ее метод воспитания, видимо, объясняющийся особенностями действительно неполноценной дочери.
Она ничего не сказала Фане о своих слезах. Спросила только:
– Ты уже выписалась из больницы?
Там, видимо, ответили утвердительно. Бабушка уточнила:
– В гости никуда не собираетесь, ночевать дома будете?
Да, родители планировали быть дома.
Неужели бабушка все знала?
В эту ночь она не спала. С вечера бродила по квартире, выходила во двор и долго дышала свежим воздухом, а под утро стояла перед иконами, жгла лампадку и молилась. Бабушка, в отличие от деда, была из христианской семьи. Она носила свою девичью фамилию, на которую потом записала и Фаину, и которую теперь носил Зверстр. Наутро притихшая, полностью ушедшая в себя, скорбная, бабушка разбудила деда странными словами:
– Езжай, отец, к Фаине. Там что-то случилось.
– Куда ехать, что ты опять выдумала? – возмущался сонный дед.
– Езжай, – терпеливо повторила она. – И не убивайся. Знай, было мне предсказание свыше о свершившемся возмездии, – она перекрестилась при этих словах и зашептала, обращаясь к иконам: – Благословен, Господи, карающий меч Твой, и суд Твой, и судьи Твои. Спаси и сохрани, Господи, и помилуй чадо из чрева преступного. Да избави, Господи, от греха во грехе рожденного из семени нечестивца.
Далее Зверстр ничего конкретно не помнил. К родителям он не вернулся и никогда больше их не видел. А, повзрослев, обнаружил, что все формы памяти о них уничтожены: нет ни фотографий, ни вещей, ни документов: дипломов, справок, писем – ничего. Бабушка Раиса, мамина мать, отвечая на его вопросы, рассказывала лишь о школьных годах Фаины.
То же самое было и у бабушки Соломии в селе, куда он приезжал на лето. Она скупо, по-крестьянски неохотно, говорила о его отце, вопросы же о матери вообще игнорировала:
– Спроси в городе, – неопределенно кивала головой. – Она городская была, с нами знаться не любила. Что же я могу о ней сказать, если, почитай, не знала ее?
Все, что в это утро вспомнилось ему из дальнейшей истории родителей, он узнал от сельчан, охочих до задушевных вечерних воспоминаний, тем более о его родителях, составивших особую страницу в летописи села. Но и они не знали и не могли рассказать полную правду.
Но и от узнанного он ужаснулся. Нет, не стоит забивать себе голову этими воспоминаниями. Начинается день. Хороший день. После этой упоенной ночи у него будет много хороших дней и спокойных ночей.
13
Николай Антонович Сухарев был геологом по призванию, образованию и опыту большей части профессиональной деятельности. Кочевая жизнь, работа до упаду, костры и песни под гитарное бренчание, мороз и ветер, неустроенный быт и воля – вот его стихия. До тридцати пяти лет он, работая в производственном геологоразведочном объединении «Укрюжгеология», успел побывать в десятках экспедиций по разведке нефти в Тюмени и Уренгое, газа – в Харькове и Полтаве, других не менее известных и звучных месторождений. Бывал и за границей. Короче, успел повидать мир и людей.
Но с развалом Союза работа объединения пришла в упадок, не стало, по сути дела, государственного заказа, а объемы хозяйственных договоров оказались не так значительны, чтобы обеспечить весь штат занятостью. Какое-то время удалось продержаться на разной мелочевке, но потом и такие заработки закончились. Начались сокращения кадров, выжимание сотрудников из рабочих мест, невыплаты заработной платы, нервотрепка, склоки и подковерная возня.
Николай Антонович, крепко пьющий человек, не вписывался в новую атмосферу коллектива. Страдал он не долго.
– Чем ждать, что тебя вежливо вышвырнут по сокращению штатов или грубо – за пьянку, так уж лучше самому уйти с гордо поднятым хвостом, – сказал дома жене и уволился с работы.
– Куда же ты теперь? – ахнула, не ожидая от него такой прыти в принятии решений, жена Елена Моисеевна.
– Хоть куда, подумаешь, – разошелся Николай Антонович. – Вон Котька Черныш организовал строительную бригаду, приглашает к себе.
– И что он строит?
– Дачи, особняки, всяко-разно.
– Другими словами, ты хочешь сказать, что они «шабашничают»?
– Да, хочу, – с вызовом подтвердил муж.
– А трудовой стаж, больничные, а… – она не нашлась, какие еще резоны выставить. – Ты подумал об этом?
– Я хочу зарабатывать деньги. Остальное сейчас не важно. Ты думаешь, – вскинулся он, подбоченясь, – тебе твои фирмачи больничные будут платить? Как же, размечталась!
Елене Моисеевне не платили больничные, потому что она старалась не болеть. Но ей также не платили и отпускные, потому что она боялась уйти в отпуск и «выпасть из обоймы» необходимых людей. Поэтому она промолчала.
Николай Антонович зажил прежней свободной жизнью, разве что более комфортной во всех отношениях: хозяева, для которых они возводили особняки или небольшие хозяйственные постройки, кормили трудяг три раза в день, при этом наливали по шкалику. Спали шабашники тоже не в палатках. На первое время, как водится, на участок пригоняли списанный вагончик, служивший отличным жильем. А когда стены и крыша новой постройки были готовы, вагончик превращался в хозблок, а бригада перебиралась в дом, где и роскошествовала до полной его сдачи.
Если случалось доводить отделку зимой, то в доме и топить можно было, проектом предусматривалось полное автономное функционирование объекта. При нынешних-то временах только патологические оптимисты надеялись на газпром и прочие мафиозные энергоформирования.
Опять же, строили не в пустыне: даже на дачах было полно народу, не говоря уже о строительстве особняков в населенных пунктах. Девушки имелись на выбор и в любом количестве. Сговорчивые, независимые, истосковавшиеся.
Эх, была – не была! – однажды мысленно ударил о землю шапкой симпатяга Николай. И завязал роман с учительницей местной школы: разводная, воспитывает двоих детей.
Наталью Андреевну Мозуль – редкий случай! – любили в селе исключительно все: соседи, ученики и их родители, досужие кумушки, коллеги. Из-за сложных отношений между родителями у Наташи было трудное детство. Настолько трудное, что те, кто знал ее тогда, были уверены, что ребенок или не выживет, или останется калекой.
Слава Богу, обошлось. Она стала милой улыбчивой женщиной. А вот брак, подаривший ей двух девочек, не удался. Все! Ни слова о прошлом.
Ее никто не осуждал, единодушно не замечали долгожданных лучей тепла, возможно, ненадолго упавших на нее. Теперь, познакомившись с молодым еще мужчиной, она была счастлива. Не знавшая ранее настоящей заботы, не испытавшая истинной нежности по отношению к себе, она потянулась к Николаю со всей непосредственностью неискушенной души да и прикипела к нему.
Ей ничего не надо было от него. Она привыкла обходиться без сторонней помощи, своими силами. Лишь бы он был рядом. Так поддержать ее в трудную минуту, сказать в это время самые правильные слова, успокоить – мог только он.
– Ну-ну, – похлопывал он ее по руке. – Не хватало еще, чтобы ты нос повесила. Сейчас отоспишься… – и подводил к постели, а там они проваливались на ближайшие полчаса в такое блаженство, которое тоньше слов, приятнее всех придуманных для этого понятий.
Дело было не только в любви двух молодых здоровых людей, но и в редком единении душ – они по всем вопросам оказывались единомышленниками. Николай все охотнее проводил время у нее, оставаясь иногда и на выходные. Если же случалось все-таки показаться жене и детям, то он, одолжившись по традиции у соседа Гришки, грязно, по-скотски напивался и часто-густо засыпал на ступеньках подъезда, не дойдя до квартиры несколько шагов.
Тем временем они заканчивали очередное строительство, и впереди замаячила безработица – масса свободного времени. Новых заказов и не предвиделось, люди вообще перестали строиться. Население катастрофически нищало, многие сворачивали то, что успели сделать, пытались продать свои незавершенки хотя бы за полцены. На душе у Николая было муторно. Принимать решения он не привык, не умел, не желал, и… отстаньте от него!
Наконец, работы были закончены. Пришлось возвращаться домой, но перед этим он задержался у Наташи на пару недель, чтобы надышаться ею впрок и не рваться обратно.
Дома находиться он не привык. Ежегодные отпуска или перерывы между экспедициями, длившиеся более полугода, он проводил соответственно у моря, в санатории или на работе в лабораториях объединения. Где угодно – лишь бы не сидеть по вечерам у телевизора рядом с женой. Это означало бы для него наступление старости, краха надежд и, попросту, конец света.
После возвращения с шабашничанья неделю отсыпался, неделю отъедался, неделю посвятил сыновьям, а далее стал томиться. И так ему захотелось к Наташе, услышать ее голос, узнать, как у нее идут дела, провести рукой по длинным густым волосам, заплетаемым на ночь в косу, что, скорее всего, он бы уехал, поддался бы на зов души и плоти. Но Наташа опередила события – приехала в город и караулила на подступах к его дому до тех пор, пока однажды не встретила его. Как он проклинал ее за это!
До сих пор она была для него воплощением чистоты, сдержанности, гордой женской слабости. И вдруг оказалось, что это не так: она способна по своей инициативе вторгнуться в святая святых женатого мужчины – его семью. С ней было все кончено, в ту же встречу.
Несколько позже Николай понял, что над ним довлели инерция и искус, что они зависли над ним в зыбком равновесии, и достаточно было малейшего толчка, чтобы перевесило что-то одно. Что же? Николай искал повод отказаться от искуса, убедить себя в том, что ничего не менять, то есть инерция старого, – лучше, спокойнее. Как проще и быстрее этого достичь? Испытанный прием – убедить себя, что объект терзаний того не стоит, заставить себя разочароваться в нем, затоптать в грязь то светлое, что звало к себе и лишало покоя, испоганить его, похоронить. И тогда на этой могиле можно устраивать дикарские пляски, шаманя, празднуя победу собственного предательства и тайной низости.
Так он и сделал. Более того, он знал – знал! – что Наташа раскусила его замысел, а значит, готова простить и малодушие, и трусость, готова принять его такого: обанкротившегося, жалкого. Он еще и за это возненавидел ее. В гробу он видел ее великодушие!
Это была одиозная терапия, подлая душа его еще пыталась спастись и ввергала неповинное тело в один запой за другим. Николай спивался сознательно.
Через несколько месяцев пришло спасение: Костя вновь нашел халтуру. На этот раз он подрядился строить свинарник в пригородном коллективном хозяйстве, представлявшего по сути осколок бывшего колхоза, отлетевший от него при распаевке земель. Работа не ахти какая, но все же…
***
Он шел по обочине вдоль дороги, где в снегу виднелась протоптанная узкая стежка, зная, что серый «Опель» с рыжеволосым водителем за рулем проедет, возвращаясь в город, именно здесь. Расчет его строился на том, что они с молодой женщиной, переглянувшись несколько раз, поняли друг друга. Так оно и вышло.
Вскоре по укатанному снегу прошелестела долгожданная иномарка. Против ожидания Алина Ньютоновна была в машине не одна, в салоне сидела ее вездесущая матушка.
Николай чертыхнулся, потеряв надежду установить сегодня более близкий контакт с понравившейся женщиной. Машина, не снижая скорости, пронеслась мимо, обдав его ветром да снеговой, колкой от мороза поземкой. Эх! – он специально сказался больным, отпросился у Кости на недельку домой якобы отлежаться в постели. Сорвалось! Придется срочно «выздоравливать» и потом что-то придумывать снова. Черт! – день пропал.
Машина, обогнав его метров на сто, остановилась, а затем так же тихо покатилась задним ходом ему навстречу. Поравнявшись, Алина Ньютоновна приоткрыла дверь и высунулась из нее, ежась от холода.
– Вы в город?
– Да. приболел вот, – поспешно добавил Николай, простодушничая и намекая, что не отказался бы от помощи.
– Садитесь. Я как раз Жанну Львовну везу к врачу.
Жанна Львовна сидела на заднем сидении, наискосок от водителя – на «генеральском» месте. Поэтому Николай, обогнув машину сзади, открыл переднюю дверцу и опустился на сидение рядом с Алиной.
– Алина, – скрипучим, прокуренным голосом отозвалась мать. – Ты знакома с этим человеком? – Николай поежился, ощущая себя посторонним предметом, о котором как раз случайно вспомнили.
– Нет, мама. Но видела его у вас на стройке.
– Молодой человек, – обратилась к нему старшая из женщин. – Представляю вам свою дочь: Алина Ньютоновна Снежная, вдова, в настоящее время занята воспитанием ребенка. А вы, я надеюсь, отрекомендуетесь сами, – кашлянув, она замолчала.
– Да уж… – Сухарев покряхтел, не зная с чего начать.
Он назвал свое имя и добавил, что строительные работы – его неизлечимое хобби, по образованию же он геолог. Алина блаженно улыбалась и молчала.
– Многих нынче выручает хобби, хорошо, что наши люди так многогранны. Странная у нас страна, – Жанна Львовна, вбросив свою реплику в костерок разговора, предоставила молодым возможность продолжать его.
Чувствовалось, что мать и дочь отлично понимают друг друга, потому что Алина, чуть подержав паузу, неторопливо продолжила предложенную тему для необязательной беседы, словно приняла от партнерши пас и посылала его дальше уверенной рукой.
– Отсижу с ребенком положенные три го-ода…
– Не три, а шесть, – поправила ее мать.
– Ну, это, если ты возьмешься меня финансировать в последующие три года, после гарантированных государством.
– Не смеши Николая, а то он подумает, что государство тебе не только гарантирует отпуск по уходу за ребенком, но и прилично оплачивает его, а я, сволочь, к этому ничего не добавляю.
– Конечно, мама, – сразу же согласилась дочь. – Так я и говорю, что тогда оставлю свою специальность и тоже займусь исключительно хобби.
– Ха! – не унималась мать. – Нет, какова? Молодец, дочь! Умеешь себя подать.
– По-моему, вы обижаете Алину Ньютоновну, – вставил слово Сухарев.
– Да ладно тебе, – махнула она на него рукой.
– Почему «подать»? – обиделась дочь. – Я говорю искренне.
– Это мудрое решение, Алина. Действительно, почему бы тебе не отказаться от своей специальности, тем более что ты ни одного дня по ней не работала.
– Пусть так, но и работать не буду.
– Допустим, хотя тогда полагалось бы употребить другие формулировки. Но это не суть важно. Меня интересует другое: каким хобби ты собираешься заняться? У тебя их много.
– Этого я еще не выбрала.
Эти двое не ссорились, не пикировались, они даже не решали дела – просто болтали о всяком, что было возможным и невозможным. Они не вкладывали в свои слова ни эмоций, ни подтекста, как будто просто упражнялись в немолчании, в связной речи, обсуждая то, что не могло иметь никакого отношения к их настоящей, реальной жизни.
– Вся в меня! Нет, ты видишь? – Жанна толкнула Николая худым кулачком. – Я тоже скоро забуду ветеринарию и переквалифицируюсь в строителя.
Две воспитанные дамы мягко и легко приняли его в свое общество, демонстрировали заведенный в семье стиль общения, давали ему время привыкнуть к ним и перестать смущаться. Николай это оценил и не дергался, сидел, слушал, молчал. Слишком затянувшаяся пауза будет ему знаком, что пора вставить и свое словцо – ему передают пас. Поэтому после каждой реплики он делал мысленные заготовки.
Но заготовки ему не понадобились. За непринужденным разговором они докатили до отделения неврозов областной клинической больницы, стоящего чуть в сторонке от первых городских кварталов на берегу Самары, притоке Днепра.
Жанна Львовна вышла из машины, достала из багажника объемистую сумку.
– Прошу двадцать один день меня не беспокоить.
– Совсем? – улыбаясь, уточнила Алина.
– Разрешается только в крайних случаях.
И она вошла в здание.
Алина повернулась к Николаю.
– Ты понял всю эту хитрость?
– Если честно, то – нет, – озадачено насторожился он.
– Мы же не уточнили, какие случаи относятся к категории крайних, а также то, кто обладает прерогативой это определять.
– Да-а, – обрадовано закивал собеседник.
Ему было удивительно хорошо в обществе этих женщин. Казалось, что возле них испаряются проблемы и жизнь становится светлой и определенной.
– Мы, конечно, все преимущества отдадим Жанне, да? – словно советовалась с ним Алина.
– А что нам остается? – подыграл он.
– Свобода, – просто ответила женщина. – Тебе куда? Кстати, ничего, что я на «ты»?
– О! Нет-нет, – он вскинул вверх обе руки. – Мне ведь тоже позволено?
– Йес! Так куда тебе? – повторила она вопрос, лукаво глядя ему в глаза.
Сто против одного, что она меня раскусила, – подумал он.
– Вообще-то никуда, – решил играть в открытую.
– Принято, – понимающим тоном произнесла она и завела мотор. – Значит, едем ко мне.
– А это удобно, ведь там ребенок?
– Ребенок с няней и у няни. Я иногда оставляю там дочь. Тебя это удивляет?
– Я как-то не успеваю удивляться еще больше, – признался он. – Меня все в тебе удивляет.
– Давай по порядку.
– Что?
– Снимать вопросы.
– А надо?
– Что значит надо? Просто, так интереснее. Да не волнуйся ты, – похлопала она его поруке. – Я успею и тебя обо всем расспросить.
– У меня нет ничего интересного. Родился, учился, женился, работаю. Все.
– Ладно. Тогда я без вопросов начну. Первое – насчет моего отчества. Мама вышла замуж за человека с именем Ньютон Исакович Школа. Сколько помню, она его называла Тоником, Нютой, короче, все какими-то женскими именами. А как бы ты его называл? Ну вот… – согласилась она с его молчанием. – Фамилию папину мать не взяла, осталась на своей и меня при регистрации записала Дубинской. Это я по мужу Снежная.
– А муж?
– Умер. Еще нет года, скорого будет год, – уточнила зачем-то Алина. – Он был старше меня, успел побывать в Чернобыле. Видимо, хватанул облучения. Короче, я узнаю, что беременна, а он в это же время узнает, что у него опухоль мозга.
– Тяжело пришлось?
– Да! – резко выдохнула Алина. – Он решился на операцию и даже подниматься после нее начал. Но потом… два года сущего ада. Ему, конечно, было тяжелее, чем всем нам. Для него жизнь была похуже ада. Как ее назвать, такую жизнь? – Она вела машину легко, без усилий обгоняя на дороге других. – я теперь уверена, что оперироваться не стоило, он бы дольше прожил. Представляешь, сколько сил потерял организм на заживление раны?
– Наверное, ты права.
Они въехали в уютный дворик на Комсомольской улице. Машину оставили во дворе, у подъезда, и поднялись на второй этаж четырехэтажной «сталинки».
– Не боишься оставлять машину без присмотра?
– Она стоит прямо под моим балконом. Я позже загоню ее в гараж, отвезу тебя домой и загоню, – уточнила.
– Тогда можешь загонять сейчас.
– То есть?
– Дело покажет, – осмелел он. – Если надумаешь избавиться от меня, то я и без тебя домой доберусь.
– О’кей! Сейчас попьем чайку, – мечтательно протянула она. – День только начинается.
Они разговаривали без пауз, непринужденно, расковано, не чувствуя искусственности или натянутости в общении. Николаю давно не было так по-детски беззаботно. Он вспомнил Наташу и только сейчас признался себе в том, что подспудно все время помнил – там не было легко, там была серьезная, ответственная жизнь, двое маленьких детей, проблемы и тяжелый труд. А тут…
– А что с Жанной Львовной? – вдруг спросил он.
– Мы месяц назад похоронили папу. Внезапная легкая смерть, но – это для него. А нам-то каково? Мама тяжело переносит его уход, плачет. Легла подлечить нервы.
– Плачет? Мне казалось, такие никогда не плачут.