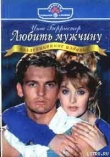Текст книги "Убить Зверстра"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Маньяки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Неужели надо обязательно навидаться смерти, чтобы перестать жаждать крови врага? Меня удручает мысль, что в человеке еще много первобытного, инстинктивного, что он далек от совершенства, от идеала, каким я нарисовала себе его, находясь под крылышком Ясеневой.
Хотя об этом можно спорить. Никто не обладает абсолютной истиной ни в понимании идеала, ни в способах достижения справедливости, ни даже в толковании понятия «справедливость». Муторно становится на душе от осознания, что справедливость каждый все еще понимает по-своему и идет к ней, торя свою дорожку. А эти самодельные тропы ведут к войнам, и выходит, что большой путь к добру должен быть один – через общечеловеческие ценности. Глядя на этих ребят, я вспоминала родителей.
Мой брат Димка, когда был маленьким, выклянчил, чтобы они купили ему игрушечный пистолет. Родители долго упирались, не соглашались, но он ревел благим матом, и им пришлось уступить. Получив игрушку, Димка выскочил на улицу и начал трещать, наводя ствол на прохожих. Мама, увидев это, немедленно отобрала пистолет и от всей души начала пороть его, приговаривая:
– Целиться в людей нельзя!
– А во что можно-о-о… – ревел брат.
– В предметы, в предметы, в предметы… – вколачивала мама эту мысль одновременно со шлепками по заднице.
– Хочу быть солдатом! – орал Димка.
Мама лупила его до тех пор, пока он не передумал воевать. А вечером у него состоялся мужской разговор с отцом.
– Ты, в самом деле, хочешь быть солдатом?
Димка долго оглядывался по сторонам, но, убедившись, что мамы поблизости нет, шепотом признался:
– Я хочу воевать на стороне наших.
– Допустим, – сказал отец. – Но оружием воюют только плохие солдаты, хорошие воюют умом.
– Да?
– Да.
– Что-то я не слышал о таких, – ехидно прищурился Димка. – В кино все стреляют.
– В кино показывают, как не надо поступать.
Брат деловито почесал за ухом, соображая, и видно было, что он старался на совесть.
– А как называются хорошие солдаты?
– Дипломаты.
Это слово ему ни о чем не говорило. От крушения прежних представлений он снова заревел, приговаривая:
– Для плохих людей не делали бы пистолеты-ы-ы…
– Их делают для хороших, например, для спортсменов.
Сошлись на том, что сейчас Димка будет готовить себя для спорта, а в более сложных материях разберется, когда подрастет.
Да-а, я была менее покладистой, чем Димка. В итоге он имеет высшее образование, а я – среднее профессиональное. Страшно подумать, как могла бы сложиться моя судьба, не попади я к Ясеневой.
Мальчики, естественно, обратили на меня внимание и пытались улучить момент, чтобы познакомиться. Пока я выхаживала Дарью Петровну да бегала по ее следственным поручениям, я была для них недосягаема. Теперь же они окружали меня стайкой и после первых расспросов стремились выговориться сами. Они знали все друг о друге, и когда после короткого общего разговора кто-то один завладевал инициативой исповеди, остальные отходили в сторонку.
В один из вечеров мне попался нескладный рассказчик, и я успевала поглядывать на экран телевизора и одним ухом слушать его.
– Вчера в Новороссийске совершено еще одно преступление. Криминалисты, с которыми мы успели встретиться, относят его к разряду серийных, направленных на убийства подростков. В пять часов вечера гражданка Сухарева Елена Моисеевна, возвратившись с работы, обнаружила в квартире уже остывшие тела двух сыновей. Подростки были зверски убиты, изуродованы и упакованные в скотч. Здесь же находились трупы двух домашних собак. Характер преступления, действительно, позволяет предположить, что его мог совершить орудующий в городе маньяк, которого пресса окрестила Зверстром. Так Зверстр или не Зверстр? Отвечая на этот вопрос, оперуполномоченный городской прокуратуры Геннадий Леонидович Полевых отметил, что в данном случае убийство является двойным и совершено в доме, а не на улице. При этом замок на входной двери не был сломан, и это позволяет предположить, что дети хорошо знали убийцу, сами впустили его в квартиру. В связи с этим органами внутренних дел Октябрьского района разыскивается Сухарев Николай Антонович, отец подростков, который за две недели до убийства скрылся с места работы и временного проживания и нигде среди знакомых не появлялся. Всем, кто…
После этого сообщения я два дня не отходила от Ясеневой, старалась не только сама не проговориться об услышанном, но и не допустить, чтобы о нем ей сообщил кто-то другой. Дарья Петровна вошла в полосу спокойного творчества. Она давно закончила статью о Раюке, и я тут же в отделении отбарабанила ее на старой «Оптиме» и отнесла в редакцию заказавшего ее журнала «Время». Больше срочных работ не было, и она позволила себе впадать в неопасные (легкие!) формы поэтического транса, развивая в них мысль о том, что февраль – холодный, неуютный месяц, он всех разъединяет, люди укрываются в жилищах и теряются в его сумрачной стихии. Только лирическая героиня да ее возлюбленный находят приют под покровом февраля, ибо теперь обезлюдившие подлунные пространства принадлежат им безраздельно.
Я не бегала по вечерам на посиделки, а терпеливо сопела, сидя на кровати и беззлобно читая роман Бушкова «Бульдожья схватка», польстилась на подзаголовок «Сентиментальный роман». Дело продвигалось с трудом, потому что там, где разговор заходил о сантиментах, перед глазами возникала Алешкина рожица, страсть как волнующая меня. Я отвлекалась от чтения, в левой части груди что-то начинало сжиматься и горячеть. Говорят, что там находится сердце.
На третий вечер к нам пожаловала мадам Дубинская, белая, как смерть, хотя лично я назвала бы смерть бесцветной, потому что она убивает краски жизни, к которым не как самая последняя относится и белая. Так вот. У нее дрожали посиневшие, обескровленные губы, и она не говорила, а сипела.
– Имела намерение подлечить тут нервы, – изрекла она от порога, словно упрекала нас в том, что это дело у нее напрочь не выгорает, так оно и оказалось впоследствии. – Знаете, как бывает после тяжелой утраты? Хочется тепла, ощущать, что тобой кто-то занимается. А тут Елизавета Климовна, сестрички – все такие внимательные. Создавалась иллюзия, что у меня все хорошо, – тянула она непонятную мне поначалу резину.
– Чего это вы, едва войдя, ударились в разглагольствования? – почти агрессивно спросила я, нам не подходили такие настроения.
– Николашу обвиняют в убийстве собственных детей, – брякнула та с перепугу, как с воза упала.
Ну почему мир так тесен! Почему-у?
Я онемела, лишь отчаянно подмигивала и, предостерегая, строила ей ужасные гримасы. Когда это не помогло, отважно шагнула навстречу, фактически это был бросок на амбразуру. Куда там! Она не способна была воспринимать окружающее, если под этим подразумевать меня, а заодно и некоторых других. Из всех нас, обитателей отделения – больных и медперсонал – ее выбор решительно пал на Ясеневу, и теперь, не отклоняясь от курса, Жанна Львовна перла к ней напролом. Ей важно было переложить на плечи Ясеневой свои неприятности, и пока она этого не сделала, – оставалась невосприимчивой к внешнему миру, как глухарь на весеннем току.
– Но я же верю Алиночке! Он был неотлучно возле нее все эти дни, все ночи. Слушайте, это только ненормальный так быстро может оставить Алиночку, она – прелесть. Они нашли удивительную гармонию друг в друге и не расставались. Поверьте, – она поднесла к яремной впадине трагически сжатые руки, – он не мог этого сделать.
Надо отдать должное Ясеневой и тому лечению, которое провела Гоголева. Дарья Петровна моментально усекла, что я скрываю от нее какую-то информацию, и словно сама отстроилась от нее: ни кивка, ни вопроса, ни порыва к сочувствию. Как сидела, так и осталась сидеть, лишь подняла голову и внимательно начала рассматривать говорившую.
Но это была маска, она отводила нам с этой дамой глаза, потому что по нервному трепету тонких ноздрей понятно было, что она впитывает услышанное с живейшим интересом.
Когда я поняла, что основная новость – о совершенном преступлении – сказана, стала и себе прислушиваться к ошарашившим меня деталям. Жанна Львовна долго плакала и причитала. Нового больше ничего не сказала, кроме того, что Сухарев Николай Антонович мог бы составить счастье ее дочери, несправедливо овдовевшей в столь молодом возрасте. Но над нею, по всему видно, довлеет рок, и теперь этого человека тоже пытаются отнять у нее самым вероломным, страшным образом.
Пока до меня доходил смысл услышанного, Дарья Петровна уже начала действовать. Она поднялась и уступила гостье свой стул.
– Присядьте. В нашей комнате это самое энергетически благоприятное место, – несла она модную околесицу. – Минуты через две вам станет легче.
С этими словами накапала в стакан с водой своих целебных настоек и подала его Дубинской.
– Выпейте.
– Голубушка, – подхватилась та, сжимая кисти рук Ясеневой, преданно заглядывая ей в глаза, пытаясь проникнуть на самые их донца. – Вы верите мне?
– Безусловно. Вы сядьте, сядьте.
– Да, да, – закивала Жанна Львовна и залпом выпила предложенное лекарство.
Она вытерла мокрые губы и облитую микстурой бороду голой рукой, отерла ее о халат и, наконец, угомонилась, взирая с преданностью и невысказанной надеждой на Ясеневу.
– Вы в состоянии ответить на два вопроса? – тихо и буднично спросила та.
– Да, конечно. Благодаря вам – вы меня успокоили. Спасибо, – из гостьи вновь посыпался горох слов.
– Кому-нибудь, кроме нас с Ирой, вы говорили о Сухареве и Алине?
– То есть, что она с ним знакома?
– Нет, что он сейчас находится у нее?
– Не говорила. Я и вам этого не говорила.
– Это неважно. А то, что Аля с ним знакома, – говорили другим людям?
– Этого тоже не говорила. А почему вы спрашиваете? Я только вам… вот как услышала сейчас по телевизору, так сразу к вам ноги и понесли.
Она бы вновь говорила долго, но Ясенева уже завладела инициативой.
– Хватит, – мягко нажимая ей на плечо и затуманенным взором вглядываясь в темноту за окном, стоя вполоборота к нему и лицом к Дубинской, сказала Дарья Петровна. – Об этом хватит. Но почему тогда, раз вы только что узнали эту трагическую новость и не виделись несколько дней с дочерью, утверждаете, что Николай Антонович был неотлучно возле нее?
– Так ведь это случилось третьего дня… так? – уточнила она у нас.
Ясенева вопросительно посмотрела на меня, и мне ничего не оставалось, как утвердительно кивнуть.
– Так, – перевела Ясенева мой кивок на язык человеческой речи.
– Ну вот. А Аля с ним накануне ко мне приезжала, – Жанна Львовна вновь скуксилась и залилась слезами. – Все щебетала о своем счастье, все радовалась. Поймите, она с первой встречи поняла, что это ее человек.
– Допустим.
– Да он никуда от нее не отлучался! Его жена работает на улице Гоголя, в двух кварталах от дома Алины. Она запросто могла столкнуться с ним, если бы он высунулся на улицу.
– Так-таки все время в квартире и сидел?
– Почему? Нет, конечно. Алина брала его с собой, когда выезжала по делам. Но тогда он все равно находился при ней.
– Может такое быть, что, возвращаясь от нас, он все-таки покинул Алю и решил наведаться домой? Допустим, взять что-то из одежды.
– Может, что же тут невозможного. Но, думаю, Алина подвезла бы его к дому, подождала в машине, пока он соберется, и увезла бы к себе. Во всяком случае, сейчас, если бы он был не рядом, она давно приехала бы ко мне.
– Да. Похоже.
Ясенева наклонилась к Дубинской.
– Вы твердо уверенны, что никому об этом ни слова не сказали?
– Я, конечно, сразу впала в панику, но ни единой живой душе не успела ничего сказать. Бог миловал.
– Надеюсь, вы поняли, что благоразумнее и впредь молчать и молчать по сему поводу?
– Да. Что за вопрос?
– А еще лучше – вообще забыть, что что-то знаете об этом человеке.
При этих словах Дубинская резко отстранилась от Ясеневой, с минуту смотрела на нее дикими глазами, а потом обреченно наклонила голову и начала рассматривать свои руки, слегка массируя их.
– С первым вопросом разобрались, – мягко продолжала Ясенева. – Теперь вопрос второй: когда к вам должна приехать Аля?
– Давно уже должна, так ведь не едет. Она ко мне через день-два приезжала.
– А вы ей звонили по вечерам?
– Да. И сейчас звоню, но их нет дома.
– С момента последнего их приезда к вам вы с нею разговаривали по телефону?
– Да.
– Когда?
– На следующий день, вечером.
– В котором часу?
– Точно не помню, перед программой «Время».
– Ничего не путаете?
– Алина не любит отвлекаться от этой передачи. Она просто не берет трубку. А после нее звонить уже поздно.
– Та-ак.
Я позволила себе встрять в разговор.
– Трагедия произошла в ночь перед этим днем, о котором она говорит, – естественно, я обращалась к Ясеневой. – До программы «Время», в которой прозвучало о преступлении, Алина Ньютоновна и Николай Антонович еще ничего не знали о нем.
– О чем вы говорили с дочерью? – не отреагировав на мои слова, обратилась она к Жанне Львовне.
– Ни о чем. Как обычно.
– Вам ничего не показалось странным? Ничто не насторожило?
– Абсолютно. Алина была спокойна, в хорошем настроении.
– Она не говорила, что Сухарев куда-то отлучался?
– Не говорила, но если б отлучался – сказала бы. Ведь это была бы новость, а Алина говорит мне обо всех новостях, вплоть до самочувствия соседской кошки. Поговорить-то хочется. А что в нашей жизни так уж часто меняется? Ничего. Вот и говорим обо всем подряд.
– Сколько времени он живет у вашей дочери.
– А вот столько, сколько я тут лечусь. Две недели.
Все выговорились, и на нас упала тяжелая тишина, прерываемая доносившимися из коридора голосами больных и грохотом водопроводных труб, возникающем тогда, когда в соседней палате открывали кран. Затем ее горестным вздохом прервала Дубинская.
– Что делать? Ума не приложу.
– А вы зачем ко мне-то пришли?
– Так ведь… Как зачем? Вам виднее со стороны. Может, чего подскажете. Вы меня извините. Я знаю, что вам волноваться нельзя, а я… – она сделала попытку встать и уйти.
– Подождите, – остановила ее Ясенева. – Мы еще чайку не попили. Ира, сегодня чай за тобой.
Я промолчала, что он и вчера был за мной, и позавчера. Кому повем печаль свою?
– Если вам угодно прислушаться ко мне, то вспомните, что я вам сказала – никому ни слова. С дочерью будете говорить, делайте вид, что вы ничего не знаете. Хорошо бы мне с нею поговорить, – мечтательно произнесла Ясенева.
– Как мне ей об этом сказать?
– Познакомьте нас.
– Вы думаете, все будет хорошо?
– Я думаю, вас не обманывает интуиция.
Гостья сидела у нас еще часа два. Дарья Петровна плела небылицы к случаю, пока не убедилась, что нервное напряжение Жанну Львовну отпустило совсем.
Я откровенно клевала носом и удивлялась, что женщины старше меня возрастом так долго бодрствуют. Не забывайте, что нам регулярно вдувают в вены всякую муть, от которой хочется спать.
Но я напрасно надеялась, что с уходом Жанны Львовны, мой рабочий день завершится.
– Выкладывай, – миролюбиво предложила Ясенева сразу же после ее ухода.
В запасе у меня было только то сообщение, которое я услышала в новостях в первый вечер после совершения преступления. Я запомнила его почти дословно и теперь добросовестно повторила вслух. Нет, какие способности я скрыла от школьных учителей! А чего пряталась? Могла бы вместо троек иметь пятерки, и сейчас не сидела бы здесь, а… занималась бы, например, поимкой маньяка. Тем более что юридический и театральный институты уравновешивались на весах моих желаний.
– И больше ничего? – уточнила неутомимая больная Ясенева, прервав цепь моей досрочной переоценки ценностей. Может, она и права. Говорят, это с возрастом приходит само собой и не надо напрягаться и мучиться, чем я только что пыталась заняться.
– Не знаю. Я же все последующие вечера просидела возле вас.
– Сегодня, выходит, информацию опять повторили.
– Конечно, если объявлен розыск, – я судорожно зевнула.
Уснули мы поздно.
***
Наутро события сгустились. Может быть, нам повезло, хотя, думаю, скорее, повезло Дубинской.
Речь вот о чем. Ясеневой опять приснился сон. Она утверждала, что помнит его абсолютно отчетливо, во всех деталях делиться со мной она не стала, считая это бесперспективным занятием. Что я могла ей сказать или предсказать?
Прихлебывая чай с медком – редчайшее явление, мед Ясенева не любит, – она то и дело посматривала на часы.
– Вы куда-то торопитесь? – осведомилась я, делая на всякий случай спортивную стойку: ну как придется сопровождать ее куда-нибудь.
– Не придется, – ответила моя ясновидящая на еще четко не обозначившийся у меня вопрос.
– Что?
– Ехать никуда не придется, не напрягайся. Я жду Гоголеву, хочу перехватить ее до оперативки.
– Зачем, рассказать сон? Вы думаете, она вам его растолкует?
– Не думаю, потому что ничего толковать не надо. Я должна предупредить, что сегодня у нее будет тяжелый день, случится какая-то сложная коллизия. Она должна быть во всеоружии, не расслабляться.
– А я? – до меня дошло, что именно с этим и связан сон, о котором Ясенева упомянула сразу после пробуждения.
Тогда она потянулась, по-кошачьи выгнулась, закинув руки за голову и повернув на бок согнутые в коленях ноги.
– Сегодня мне было видение, – сообщила интригующе.
Я не всегда задаю вопросы об интересном или непонятном мне, даже те, которых от меня ждут, намекают, мол, спроси, пожалуйста. А чего? Сколько можно мной манипулировать? И я промолчала. Но она все-таки добилась своего и поймала меня на куче вопросов. Хоть они впрямую вещего видения и не касались, но дело было, как оказалось, именно в нем.
Теперь я растерялась. Как же так, не продрав глаз, делать мне намеки, потом интриговать своими намерениями, а когда все разъяснено, оставить меня в стороне? Я побоялась, что она не возьмет меня с собой к Гоголевой – вечное мое опасение! – и что-то значительное произойдет без меня.
– Я тебе потом расскажу, – пообещала Ясенева.
«Сейчас, – подумала я. – Буду ждать с нетерпением». А вслух сказала:
– Иначе, какая же я вам помощница, да?
Не думайте, что я демонстрировала свою верность, что я лукаво зомбировала Ясеневу в отношении своей незаменимости. Просто мне нравится делать одно с нею дело, в котором я находила самореализацию, впрочем, не всегда осознавая это. Иногда мне казалось, что в некоторых вопросах я самостоятельнее и мудрее ее. Как хотите, но вот вам мое признание.
Поэтому я, допив чай, наспех сполоснула чашку, смела со стола и сыпанула в раковину мнимые крошки хлеба и начала напяливать пальто.
– Пойду, продышусь, – объяснила Ясеневой. – «Что-то воздуху мне мало…» – пропела, подражая Высоцкому.
– Ага, – думая о своем, не возражала она.
Печальное это зрелище – февральский рассвет. Солнце как-то натужно и затравленно выбирается из вороха туч, осаждающих горизонт. Но они, тут же вязко цепляясь за него, топят в себе и сам диск, и вялые лучи, просеивая сквозь собственное тело жидкий, немощный свет.
Однако сколько же в этом рассвете можно увидеть надежды! Я как раз увлеклась этой мыслью, когда из-за левого угла корпуса показалась машина Гоголевой. Она лихо подкатила к парадному входу, скрипнула тормозами, остановилась и высадила парочку непременных пассажиров, без которых у нее ни одна поездка из города или в город не обходится, обязательно кто-то попросит подвезти. А потом рванула с места, резво развернулась на площадке перед мусоросборниками и вновь подъехала к входу в отделение. Припарковалась в стороне от проезжей части. Когда она выходила из машины, а затем закрывала дверцу, я заметила, что сегодня движения ее были порывистей и нервозней обычного.
Ветерок, поднявшийся вместе с солнцем, холодил мои ноги, потому что сапоги я надеть поленилась. Подняв воротник и укрыв за ним обнаженные уши, я приплясывала на крылечке, очищенном от снега, ударяя одной ногой о другую.
Как тут пройдешь мимо меня?
– Доброе утро, – официально сообщила мне Гоголева.
Я видела, что она не шутит и действительно готова прошмыгнуть мимо, не уделив персонально мне ровно никакого внимания. Хорошо еще поздоровалась загодя, – подумала я и принялась истово чихать, когда она поравнялась со мной.
– Не стой раздетой на ветру.
Забота! Лучше бы она какой завалящий вопрос мне задала. Я бы ответила, а там, гляди, и завязалась бы беседа. А так? Мне ничего не оставалось, как развернуться и, расталкивая перед нею створки двери, ворчливо сообщить:
– День сегодня будет трудным. Вон и Дарья Петровна сон видела двусмысленный, – при этом я забегала вперед, пытаясь заступить ей дорогу и сбить темп ее продвижения.
– Ирина, отстань! Прямо не до тебя, – призналась Гоголева.
– Так я же о себе ничего не говорю. Сон-то Ясеневой приснился.
Она остановилась, когда до двери нашей палаты оставалось не более десятка шагов, и пристально посмотрела на меня.
– Чего ты добиваешься?
На прямой вопрос надо давать прямой ответ.
– Ясенева хотела вас видеть.
– Пусть зайдет на минутку, – она вновь припустила вперед.
– Если она покинет палату, то выйдет из ауры сна, из образа. И все забудет.
Гоголева рванула нашу дверь и, переступая порог, заключила:
– Черт знает что! – увидев возле окна Ясеневу, сказала более спокойно: – Дарья, я спешу.
Ясенева вопросительно воззрилась на меня, и я неопределенно пожала плечом, дескать, не знаю, куда она спешит, но ничего поделать не могу.
– Да вы присядьте, – спокойно сказала Ясенева. – У вас что-то стряслось?
– Зачем я тебе нужна? – не обратила внимания на вопрос Гоголева, переходя на «ты».
– Поэтому и нужна была, – поддержала ее тон Дарья Петровна. – Так что случилось? Предупреждаю, это важно для меня.
– Вчера вечером позвонил небезызвестный тебе Дебряков и попросил госпитализировать в отделение очень близкую ему особу, срочно госпитализировать.
– Так в чем проблема?
– Он – мой коллега, я не могу ему отказать, а у меня сейчас отдельной палаты нет. И маленькие все заняты. Вот только у вас и есть одно свободное место.
– Дебряков и мне сделал немало добра, так что ради него я могу и подвинуться. Давай ее сюда, – предложила Ясенева.
– Да нельзя ее к тебе!
– Я что, рылом не вышла? Птичка высоко летает?
– Вот дура? – только теперь Гоголева присела и в отчаянии хлопнула себя по колену. – Тяжелая она очень. Боль-на, – произнесла по слогам, давая понять Ясеневой, что этот случай не про ее нервы.
– Ну не знаю, – неопределенно протянула Дарья Петровна. – Буйная, что ли?
– Скорее, наоборот, в ступоре. Детей потеряла. Ой, да тут такое…
– Погоди, это не Сухарева ли?
– Она. Откуда ты ее знаешь?
– Не знаю вовсе. Но ты же сказала, что детей потеряла и я подумала о том, что по телевизору сообщали.
– Сообщали? Вот оно что. Понятно. Я телевизор не смотрю.
– Елизавета Климовна, – Ясенева подошла к ней и склонилась, словно они – врач и пациент – поменялись местами. – Давай ее сюда. Ты себе даже не представляешь, как хорошо, что ты ко мне зашла. Если мне будет невмоготу, уйду домой, но не ранее, чем побуду с ней хоть несколько дней. Ты же со мной закругляешься?
– У-у-у… Голуба моя, тебе еще года два предстоит «закругляться» после такого приступа. Но, конечно, здесь тебе быть не обязательно. Тут мы сделали все по полной программе. Так что, можно ее к вам? – в ее голосе смешалась надежда с сомнением.
– Давай. Это будет лучше, чем она была бы в палате одна, верно?
– Ты – золото, Дарьюшка! А я бегу сюда и все в уме перебираю, кого куда перевести и к кому ее втиснуть. Веришь, готова была тебя с Иркой в одиннадцатую засунуть, двухместную. Но там такая холодрыга!
– Хорошо, что ты зашла. Все быстро и хорошо решилось.
– Прямо гора с плеч, – Гоголева заулыбалась и поднялась со стула. – Ах ты, выдра малая, – обратилась ко мне и, проходя мимо, больно ущипнула меня за щеку.
«Вот досада, – подумала я. – И эта вычислила меня». Конечно, я хотела присутствовать при этом разговоре. Опять же, теперь Ясеневой не надо ничего пересказывать, я сама все слышала, Елизавете Климовне не пришлось никого просить перейти в другую палату. Пора бы уже и заметить моему дорогому окружению, что если я что-то устраиваю для себя, то не за счет других, а и для другихв том числе.
И тут я прикусила язык. Боже, ведь эта Сухарева – жена того Сухарева, который Николай Антонович. Это же Дубинская…
– Жанна Львовна, – продолжала я вслух свои рассуждения, когда Гоголева вышла из палаты.
– Тс-с, – Ясенева приложила палец к губам. – Ни звука больше. Быстро зови ее сюда, скажи, что мы приглашаем ее на завтрак. А я пока приготовлюсь.
– И что, опять будем пить чай?
– Конечно, все должно быть натурально.
– Я этот чай в горле скоро пальцем доставать буду, я уже вся состою из чая. Еще с вами поживу недельку и из меня будет выливаться не что иное, а чай, чай, чай.
– Не медли.
– Иду!
18
К сожалению, иногда каша сваривается без меня. Не помню, что тогда меня отвлекло. Было утро – самое насыщенное событиями время в больнице. С минуты на минуту ждали поступления новых больных. Рядовые врачи лихорадочно бегали по своим палатам, осматривая в последний раз тех, кто шел на выписку. Старшая медсестра, Валентина Васильевна, дергала их за полы с одним вопросом:
– У вас кто выбывает? – она собирала данные на оперативку.
Кастелянша, тетя Варя, кстати, как оказалось, какая-то свояченица Ясеневой по мужу ее племянницы Светланы, метала на опустевшие койки свежее белье.
Я не взяла в кавычки слово «свежее», как годилось бы, когда речь идет о больнице. И тому есть оправдание. В этом отделении белье сверкало белизной и благоухало свежестью. По двум причинам. Когда-то Ясенева в порыве благотворительности подарила отделению стиральную машину. С тех пор белье тут стирают сами, обслуживаются автономно. Отсюда и белизна. А свежесть – от воздуха, так как белье сушат на улице, недалеко от посадки, отделяющей двор больницы от берега Самары. В посадке густо растут степная маслина, жасмин, барбарис, сирень, акация. Все лето там что-то цветет и оглашает окрестности душещипательными ароматами. Это летом. Осенью – опавшая листва. Зимой же белье высушивает мороз, сообщая ему немыслимо свежий запах.
Выписывающиеся осаждали кабинет старшей медсестры: кому-то нужен был больничный лист, кому-то выписка из истории болезни или направление и рецепты на амбулаторное лечение. В конце коридора маячила входная дверь, там толпа была еще больше. Теснились родственники выздоровевших или те, кто должен был доставить их домой. Сидели и сопровождающие новых больных, ждали, пока их подопечных полностью оформят на лечение.
Обстановка тут была почти что домашняя, и это тоже значилось одним из факторов общей терапии. Где-то в этом вихре меня и закрутило тогда. Помню, что позвала Дубинскую к Ясеневой, но при их разговоре не присутствовала. Теперь думаю, мне заранее было ясно, о чем пойдет речь, и я сознательно дала себе передышку.
Дубинскую предупредили в отношении новой пациентки. А так как она была женщиной умной, а не примитивной больной тёхой, то никакого политесу в этом разговоре не понадобилось. В той грустной ситуации, в которой невольно сошлись женщины, прямо или косвенно причастные к трагедии, от каждой из них в значительной мере зависело здоровье и судьба пострадавших.
Личная трагедия лишь на первый взгляд кажется локальным событием, касающимся прямых участников. Но это не так. Словно густые трещины на оконном стекле, расходящиеся от места удара, распространяются последствия несчастья, захватывая на свою орбиту неисчислимое множество судеб, косвенно, очень отдаленно зависящих от случившегося. Мы не всегда – к сожалению! – понимаем это, не всегда осознаем теснейшую сопричастность друг другу. Но стоит хотя бы однажды проанализировать конкретную пустяшную неудачу, пролет мимо цели, разматывая назад причинно-следственную нить, и на другом ее конце обязательно обнаружится чья-то чужая, очень локальная беда.
Слава Богу, что Дубинская и Ясенева, а также Гоголева и я понимали ситуацию, возникшую в связи с трагедией в семье Сухаревых, и делали все возможное, чтобы ее последствия не обрушились волной цунами на побережье благополучной жизни. А на том побережье находились Алина Ньютоновна и Игорь Сергеевич. Они не знали друг друга и не подозревали о схожести своих интересов, над которыми, пролетая мимо, завис рок.
Ушлая Жанночка, конечно, не упускала случая украдкой рассмотреть Елену Моисеевну, сравнить ее со своей дочерью и сделать выводы в пользу последней.
– У нее тяжеловатые бедра и зад слишком опущен. Бедняжка, не следит за собой. Я понимаю, двое родов и все такое, – доверительно делилась она с нами своими наблюдениями.
А потом спохватывалась и исправляла положение:
– Что я говорю? Может, и Алина в ее возрасте раздобреет ничуть не меньше.
Но эти разговоры были позже.
А в то утро, получив от Ясеневой инструкции, она выскочила из нашей палаты, будто там на нее набросился уссурийский тигр, и с перепуганным лицом забаррикадировалась у себя, где по-прежнему было пусто и холодно, а по вечерам под потолком хозяйничала озверевшая от безнаказанности мышь.
***
А в сентябре в верхушках тополей
Запуталась проказница Луна,
Юпитер крался следом, а левей
Не отставал Сатурн. И белизна,
Чудесно сочетаясь с мраком,
На землю опускала волшебства
Незримый флер. По диким буеракам
Иссиня-черная таилась тьма.
Когда еще будет тот сентябрь! – подумала я, в очередной раз подсмотрев то, что писала Дарья Петровна. Или это аллегория? Тогда кто скрывается в образе Юпитера, преследующего бедную, запутавшуюся Луну? А кто тот окольцованный Сатурн, что не отстает от этой обреченной пары? Вопросы, вопросы… Я глубоко вздохнула и в это время открылась дверь палаты – неслышно, неторопливо, даже как будто торжественно.
Некоторое время в проеме никто не показывался, а затем таким же замедленным шагом переступила порог и вошла в палату женщина. Выше среднего роста, крепкого телосложения, всю ее фигуру, кажется, составляли крутые тяжелые бедра, обозначавшие боковины несколько низковатой пятой точки. Лицо соответствовало индивидуальному стандарту, все элементы которого выделялись таким же крупным планом. Нос, губы, глаза, брови, подбородок – всего было и избытком. Нос, при допустимой длине его, заканчивался необязательной загогулиной, поднявшей кверху ноздревые разрезы, отчего изнутри виднелся розовый хрящик переборки. Губы полные и широкие, имели приятные очертания и скорее украшали лицо, чем портили его. Сейчас они были без помады, но бесцветный вид свидетельствовал о том, что нежная их кожа привыкла находиться под слоем защитного декоративного крема. Глаза – огромные, не помещающиеся в глазницах – обрамлялись длинными ресницами и были умело накрашены. Густые брови вразлет, рыжеватого оттенка, как и тяжелый подбородок, терялись среди остальных черт и ничего не добавляли к общему впечатлению.