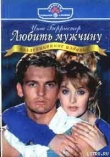Текст книги "Убить Зверстра"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Маньяки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
Вот в этом состоянии дел их и застала последняя болезнь Дарьи Петровны.
Она, между тем, продолжала наступать на Елизавету Климовну:
– Физический труд по выходным, да?
– Да.
– По вечерам частная практика, да?
– Да.
– А на кой? Это же скучно.
– Просто жить – скучно? – Гоголева подчеркнула вопрос особой интонацией.
– Да. просто жить – неимоверно скучно.
– Что же лучше: жить скучно или не жить никак?
Ясенева смотрела на нее с явным неодобрением.
– Благополучная, здоровая, преуспевающая, живущая тоскливо-однообразно и гордящаяся этим, ты говоришь, что у меня все позади, что я должна угомониться и впасть в такое же растительное существование? Хорошего же ты мне желаешь.
– Эх, подруга, одумайся, – Гоголева с укоризной, со старческой грустью смотрела на Ясеневу.
– Слушай, а может, мы говорим с тобой на разных языках? – вдруг оживилась моя шефиня.
– Нет, Дарья, я ведь тоже люблю и высоко ценю духовность. «Есть птицы умирают налету, а есть птенцы, стареющие в гнездах», – продекламировала вдруг она. – Не знаю, кто это написал, но попал в самую точку. Но ведь это всего лишь поэтический образ, в жизни же – это крайности. А нам с тобой надо выбрать золотую середину. Понимаешь?
– Золотая середина – это хорошо, – согласилась Ясенева.
– Ты больна. Подумай о своем муже, – резко продолжала Гоголева, теперь она переменила позу, положила ногу на ногу и, опершись локтем о колено, подперла рукой подбородок. – Ему и так досталось. Ты сошла с дистанции, и ему приходится работать за двоих. За что ему эти испытания, за что непосильный труд? Ты такого счастья ему хотела? Ты, – она вперила палец в Ясеневу, – ты избаловала его вниманием, заботой, любовью. А когда он привык к этому, потерял мобильность, снизил тонус, ты позволила себе заболеть, оставить его одного, бросить, навязав заботы еще и о себе, больной. Это безбожно, ты понимаешь? От этого мужики загибаются. Так нельзя, – Гоголева сорвалась на крик. – У него никого не осталось. У него, кроме тебя, подлой, нет ни одной родной души. Хоть ты теперь и обуза, но это мы с тобой понимаем. А для него на психологическом уровне, на уровне условных рефлексов ты, по-прежнему, – опора. Если с тобой что случится, он не выживет. Ты дура, да? Дура совсем? – кричала она. – Ты какого хрена доводишь себя до приступов? Ты в ответе за него! Я из тебя блин сделаю, но дурь – выбью. Я выложусь, но ты станешь у меня нормальной. Не смотри на меня так! – Гоголева вскочила с кресла и заметалась по кабинету. – Не смотри так, – уже спокойнее сказала она. – Криз у тебя был, диэнцефальный криз, судорожный припадок, по типу эпилептического. Я не могу тебе подробнее объяснить. Но, ради Бога, – она вновь села и взяла Ясеневу за руку, – это очень неприятная вещь. Я тебя прошу отнестись серьезно к моим словам: тебе после этого приступа необходимо регулярно, в течение двух лет, каждый день принимать противосудорожные препараты, уходить от стрессов, сильных впечатлений, эмоций, ни при каких обстоятельствах не оставаться одной. Я потом все распишу тебе, разложу по полочкам, растолкую, – она перевела дух, собираясь еще что-то говорить.
– Успокойся, Елизавета Климовна, я, как и ты, все ведь понимаю, – откликнулась Ясенева. – Прости, мне кажется, у тебя проблемы с Николаем.
– Да, у него снова сильнейшая депрессия. Первую, уйдя из науки, он преодолел легко. А с этой, после смерти родителей, пока что справиться не может, – Гоголева вздохнула и притихла. – Мистика какая-то, – махнув рукой, улыбнулась она Ясеневой. – Мой Николай начал болеть одновременно с тобой, и пошло-поехало… наши семьи будто связаны кармически, как только ты болеешь – у него тоже начинаются проблемы со здоровьем. Я не хочу проводить параллели, но они сами напрашиваются. Страшно представить, что может случиться, если ты не пойдешь на поправку. Впрочем, мне все равно легче, чем твоему Павлу. Я-то выдюжу!
– Вот и твоего мужа жизнь из мальчика превращает в мужчину. Конечно, ты права, чем позже с ними это происходит, тем болезненнее и опаснее протекает взросление. Тут у нас с тобой снова все совпадает. А насчет кармических связей… Не бери, мать, в голову глупости, просто у нас с Николаем нервы не в порядке. На нас одновременно погода влияет, состояние солнечной радиации, фазы луны. Этим сейчас никого не удивишь.
– Угу, – Гоголева с ехидцей покачала головой. – Умна очень да рассудительна больно. Только я своему Николаю стараюсь облегчить процесс взросления, как ты изволила назвать это людоедство, а ты не думаешь о своем Павле. Гения себе завела… Сволочь ты! Тьху!
– Замолчи! – тотчас откликнулась Дарья Петровна. – Ты этого не понимаешь, так не лезь.
– Да куда уж мне понимать! Я только вытаскивать вас из ваших благородных инсультов да инфарктов должна, дерьмо разгребать. А понимать и лезть – нет, это нам нельзя. Так вот, милая моя, скажи спасибо папе с мамой, что дали тебе такие сосуды – гладкие да прочные. Лежать бы тебе уже давно там, – Гоголева показала рукой куда-то за окно. – У тебя в ночь с одиннадцатого на двенадцатое четко был запрограммирован инсульт мозга. Четко! Спасли сосуды, выдержали. Не дай Бог ты еще раз так вляпаешься, и тебе конец.
***
Мне никогда не стать похожей на них. Я смотрела на этих женщин и думала, что мир именно на таких и держится: умных, мужественных, самостоятельных, не боящихся правды, учитывающих в каждом поступке и слове свою силу и слабость. Разве они могли проиграть?
Во мне зрела уверенность, что я присутствую при чем-то более важном, чем обсуждение здоровья моей шефини, чем подведение их жизненных итогов на данный момент времени. Здесь начиналось что-то качественно новое и значимое.
– Спасибо, – прервала молчание Ясенева. – Вот ты и ответила на мой вопрос. А теперь поговорим спокойно, – она подняла руку в предупреждающем жесте, останавливая готовую воспротивиться Гоголеву. – Все твои рекомендации, все установки, советы обязуюсь исполнять принципиально и пунктуально. Это важные дела. Далее. Спасибо тебе, дорогая, что ты волнуешься о моем муже. В эти слова я вкладываю всю сердечность, на которую способна. Давай обойдемся ими и не будем больше размениваться на пустые признания. Ведь мы понимаем и высоко ценим друг друга и без этого, верно?
Гоголева кивнула. Она внимательно наблюдала за Ясеневой, впитывая широко открытыми глазами, навострившимся слухом, осязанием воздушных потоков не только ее слова, но и то, что жило за ними, что еще только зрело в ее потревоженном уме, формируясь в интерпретационные образы. Она изначально понимала Дарью Петровну. Своей профессиональной прозорливостью считывала выплески из ее подсознания той информации, которая, словно пар, подымалась над океаном неосознанного. Эта информация по межматериальным связям просачивалась в орган, способный отобразить ее, трансформировать в понятия, в причинно-следственные зависимости. Из желеобразных глубин мозга она доставлялась на его поверхность и дозревала там, на извилистой, изрезанной углублениями поверхности до понимания и конкретного знания.
Момент, когда Ясенева определяла словами то, что наплывало на ее ум зашифрованными символами предзнания, совпадал с моментом, когда о том успевала догадаться Гоголева.
– Верно, – автоматически повторила Елизавета Климовна. – Ты ищешь причины стресса? Я вижу.
– Не только. Помнишь, ведь это у меня не первый криз?
– Помню, но предыдущий был легче, гораздо легче.
– И тем не менее я его перенесла очень тяжело. Он на несколько лет привязал меня к дому. Я не выходила…
– это озадачивало меня, – не спуская пристального взгляда с Ясеневой, сказала Гоголева. – Мне казалось, что ты в дополнение к основной болезни приобрела фобию. В тебе зафиксировался страх повторного криза, ты начала бояться всего, что связывалось с памятью о нем: толпы, транспорта, тепла, солнца, одиночества. При малейших признаках этих факторов ты впадала в панику и тем самым провоцировала новые судороги и срыв равновесия в нервной системе.
– Может и так. Во всяком случае, твои выводы о панике и механизмах ее воздействия на меня звучат убедительно. Только паника возникала не от того, о чем ты говоришь, не от перечисленных тобой факторов.
– А больше ей возникать не из чего, если верен вывод о зафиксированном страхе.
– Значит, вывод этот не верен. И никакой фобии у меня нет.
– Как врач, я не понимаю, что ты хочешь сказать.
– Попытаюсь объяснить, хотя мне и самой не многое понятно.
– Итак…
– Итак, приступов по типу того, что случился в ночь с одиннадцатого на двенадцатое, у меня было несколько. Все они случились после первого, внезапного, из которого ты меня вытаскивала. Ты сейчас упоминала о нем. Так вот, все эти приступы были, во-первых, неизмеримо более легкими, а во-вторых, ты, спасибо тебе, научила меня вовремя их купировать. Но есть еще и «в-третьих»: я стала предчувствовать их приближение и поэтому снимала их еще на подходе, когда мое состояние не доходило до критического.
– Но это же прекрасно!
– Ага, только лучше бы их вовсе не было.
– Подожди, как же ты тогда не почувствовала приближение этого, последнего, что вновь привел тебя сюда?
– В том-то и дело, что почувствовала и даже очень старательно пыталась предупредить.
– Странно.
– Я тоже вначале думала, что меня беспокоит одиночество в доме или в толпе, духота, солнце. Но на этот раз я была не одна, не было жарко и душно, даже не было сильного стресса.
– Но что-то же было?
– Были неприятные впечатления. Ира, – обратилась она ко мне. – Расскажи, что случилось накануне, десятого числа.
Я постаралась вспомнить, рассказала события вечера, не позабыв о больной на улице, о «скорой помощи» и, выговорившись, замолчала.
– Это не все. Меня не оставляет ощущение, что это не все. Я тоже перебирала события в том же порядке, что и ты сейчас, но ощущение не уходит. Значит, было еще что-то, о чем мы забыли, не придаем ему значения.
– Ничего больше не было. День прошел, как всегда, ничем не отличался от других, – настаивала я на своем.
Ясенева молчала абсолютно беспомощно, но был в том молчании укор мне, упрямое несогласие с моей безаппеляционностью
– Может быть, необычные покупатели, проверяющие? – предположила Гоголева.
– Нет-нет… – Ясенева силилась за что-то зацепиться и чуть не плакала оттого, что не находила, за что.
– Мы, как всегда, читали газету, обсуждали новости, болтали, – снова вспоминала я, добавив теперь даже типичные, а не отличительные детали дня.
– Что было в газете? – с надеждой вскинулась Гоголева.
– Да что и всегда, чернуха разная. Я прочитала только криминальную хронику о маньяке и все.
– Это могло тебя задеть? – спросила Гоголева, обращаясь к Ясеневой.
– Могло, конечно. Разве такое пропустишь мимо души? Но это не первая публикация о маньяке и я к этой теме уже притерпелась, – Ясенева сморщила нос и отрицательно покачала пальчиком. – Нет, она меня не могла задеть больше, чем любая другая новость.
– Что же тогда?
– Понимаешь, – медленно начала говорить Дарья Петровна. – Создается впечатление, что у меня появился еще один орган чувств. Нет, – постаралась она опередить недоумение Елизаветы Климовны, – не в буквальном смысле, конечно. Но… только не смейся, отнесись к этому творчески, поищи…
– Да говори ты, не телись!
– Я предчувствую несчастья! – в тон ей громко и прямо отчеканила Ясенева. – И это предчувствие протекает во мне болезнью. Причем, чем больше размер несчастья, тем тяжелее протекает мой приступ.
– Сейчас столько беды в мире, что ты бы умерла, Дарья, – сочувственно покачала головой Гоголева. – Думаю, ты заблуждаешься.
– Я не утверждаю, что абсолютно все беды отражаются на мне. Тут надо понаблюдать, проанализировать, но для этого нужна статистика. А набирать ее за счет своего здоровья мне, естественно, не хочется. Как только я научусь разбираться, что мне дано предвидеть, какое касательство оно ко мне имеет и имеет ли – я преодолею болезненную реакцию на это. Я чувствую. Но то, что во мне развивается новая способность, я утверждаю категорично, и не смей мне не верить. Я – исследователь, человек науки и знаю, о чем говорю. Не хочешь помогать, не надо. Тогда вытягивай меня всякий раз и не брюзжи, терпи, пока я сама не справлюсь со своими процессами. Когда-то же они стабилизируются, и мне станет легче. Но не смей не верить.
– Я хочу тебе помочь. Но смогу ли при такой постановке вопроса?
– Правда? – оживилась Ясенева, пропустив мимо ушей вопрос сомнения.
– Правда, вот тебе моя рука, – Гоголева подала узкую костлявую руку с короткими ногтями без маникюра. Навстречу ей протянулась чуть более полная рука с пальцами средней длины – белая, холенная, со свежим неброским маникюром на отросших заоваленных ногтях. Обе руки сплелись в пожатии.
– Тогда слушай, – приготовилась к рассказу Ясенева. Гоголева включила диктофон и замерла, откинувшись в свое глубокое кресло.
Дарья Петровна подробно описывала свои недомогания, обязательно сопровождая каждый случай иллюстрациями окружающих событий. Из ее рассказа выходило, что приступы, изматывающие ее, по частям уносившие здоровье, были предвестниками несчастий, происходящих чуть позже с родными или близкими, с дорогими ей людьми или просто в ближайшем объеме пространства.
Коротко говоря, она чувствовала неладное, надвигающееся на тех, с кем ее связывали конкретные отношения или, если это были чужие люди, то тогда они находились где-то рядом с Ясеневой. Судьбу ли людей она предчувствовала или ощущала беду, витающую над этими судьбами? В этом она и хотела разобраться. Если бы ей это удалось, то время от первых предчувствий до горестного события было бы достаточным для того, чтобы его предотвратить.
Это можно было посчитать бредом, если бы количество случаев было чуть меньше, а утверждения о взаимосвязи самочувствия Дарьи Петровны с последующими драмами или даже трагедиями не так аргументированы.
– Создается впечатление, – завершила рассказ Ясенева, – что если бы я научилась расшифровывать информацию внутри себя, то могла бы вмешиваться и предотвращать нежелательные события. Это, во-первых. А во-вторых, я бы так не болела. Знание, считанное еще с подсознания, избавило бы его от необходимости прорываться в осознаваемость. Болезнь мучает тем сильнее, чем дальше я нахожусь от догадки, стучащейся ко мне.
– Значит, если бы при первых симптомах болезни ты могла понять, о чем тебе намекают, и начать действовать, то и не болела бы вовсе, – уточнила Гоголева.
– Точно! Как обладающий зрением человек не идет под мчащийся поезд, как осязающий тепло уклоняется от полыхающего огня, так и я могла бы избегать кризов. Но мне не открываются внутренние письмена.
– Итак, – подводя итоги, сказала Гоголева. – Моя личная задача – вытаскивать тебя из болезни, коль скоро ты в нее впадаешь по объективным причинам. Наша общая задача – разобраться с твоими предощущениями, научиться их читать и управлять ими.
– Управлять ими я могу, но вмешиваясь в ход событий вокруг себя. Я не могу избавиться от концентрирующегося во мне раздражения, не выплеснув его наружу. Это как вычих пыли из носа, как выдох использованного воздуха, как выплеск созревших в душе стихов. Это – события из одного ряда. Давай попробуем расшифровать хотя бы один этот случай, а остальные будут на него похожи, я с ними потом сама разберусь.
– Звучит убедительно, особенно про вычих. Поступим так: ты сейчас иди под капельницу – все равно тебе еще рано считать, что в твоих мозгах все успокоилось, – а я внимательно прослушаю еще раз твой рассказ, – Гоголева показала на диктофон. – А завтра вновь встретимся и наметим следующие шаги.
Они расстались, довольные друг другом. Я знала, что эти женщины обязательно проедутся за мой счет, потому что они будут только намечать шаги, а топать ножками придется-таки мне.
Или я о себе слишком хорошо думаю?
***
О чем размышляла после нашей исторической встречи Елизавета Климовна, я не знаю. Было около трех часов дня, когда она оставила отделение на попечение дежурных медсестер и уехала. До конца дня и весь вечер многочисленный младший медперсонал собирал пыль, скоблил лезвием пол вдоль плинтусов и мыл его, обрызгивал и поливал цветы, чистил ковры, натирал, полировал… Наша встреча здесь ни при чем – этим они занимались каждодневно, но от этого их рвение не уменьшалось. На дополнительных ставках они сидят, что ли? – подумала я, глядя на вакханалию борьбы за чистоту, так много их здесь было. А может, в штате больницы предусмотрены санитары-усмирители, ходят здесь и притворяются прибиральщицами? – эта мысль испугала даже меня, имеющую косвенное отношение к пребыванию здесь.
Нет, здесь не требовались смирительные рубашки. Контингент больных был самым что ни на есть мирным, нормальным, нормальнее остальных. Да-да! От чего страдали эти люди? Оттого, что с них свалились розовые очки и они увидели жизнь в истинном свете. Я иногда смотрю на публику, например в маршрутках, и удивляюсь, до чего же люди любят иллюзии. Едут утром на работу, где их ничего хорошего не ждет, слушают по радио какую-нибудь песенку про счастливую любовь, теплые края и горы бананов и улыбаются. Лица светлеют, на щечках появляется румянец, в глазах – мечтательность. Думают, что это у них такая райская, расчудесная жизнь. С этим обманом вступают в новый день. Вечером – то же самое: слушают, представляют, не замечая убогих жилищ, постной картошки на столе и отсутствие будущего. И вот однажды… После этого «однажды» многие попадают сюда лечить неврозы, реже – больные сосуды.
Двадцать лет назад неврозы даже болезнью не считались. До чего их было мало и до чего по смешным поводам они возникали. Это отделение было задумано, как санаторий-профилакторий для высокопоставленных лиц, здесь проводила неплановый отпуск партийная и советская элита. Не на Канарах, как теперь принято, – скромно люди жили. Потом бонзы от медицины одумались, когда начала накапливаться статистика заболеваний с «не установленным диагнозом». Гоголева доказала, что связь души и тела существует не только в работах философов, но и на практике. И все соматические больные с «не установленными диагнозами» потянулись сюда на консультации, некоторым удавалось попасть на стационарное лечение. И – о, чудо! – у стойких язвенников рубцевались раны в желудках, у гипертоников приходило в норму давление, больные с мнимыми пороками сердца забывали, где оно у них находится. Бессонницы, «комок в горле», аллергии – все проходило.
Теперь Гоголевой здорово «помогает» сама ситуация в стране – стрессовая, немилосердная, жестокая. Число больных неврозами возросло, да и качественно неврозы изменились. Теперь это, в основном, запущенные стадии, предкризисные и посткризисные состояния. С ранними симптомами никто сюда не приходит – некогда.
***
Ясенева даже не вспоминала о разговоре с Елизаветой Климовной. Она считала, что, сгрузив наблюдения над собой в руки специалиста, выполнила свою часть работы. Теперь пусть Елизавета Климовна и думает, что да как прописывать ей, а она, Ясенева, будет все аккуратно исполнять под собственным присмотром.
Прошло несколько дней. Гоголева проводила сеанс иглотерапии, когда к нам в палату зашла женщина очень начальственной наружности и мало похожа на больную. Я сразу, обезьянничая Ясеневу, попыталась определить, кто она, чем занимается, зачем припожаловала, но у меня не все получалось. Вернее, ничего не получилось, хотя тут меня винить не за что. Я старалась, но, видать, пороху еще не приобрела. Впрочем, я, кажется, жаловалась вам не единожды на этот счет.
Зачем эта дама пришла сюда, стало ясно после ее слов.
– Здравствуйте, – произнесла она с помощью прокуренных связок, обращаясь к окну, за стеклами которого разгорался солнечный денек. – Я лежу в этой палате, когда прихожу на лечение, – напомнила она палате о себе. А для нас уточнила: – Иногда.
– Здравствуйте, – запоздало ответила Дарья Петровна, всматриваясь в мышиную норку под потолком, как пить дать, сроднившись с нею под давлением обстоятельств.
Начинается освоение перелоговых земель, – подумала я, косясь на новенькую. Не успеешь нагреть местечко, как тут же на него уже зарятся другие. Что с этим можно поделать? М-да. Я знаю, что вы думаете. А как иначе? Вот то-то и оно.
– Я не планировала ложиться сюда зимой, здесь хорошо ранней весной, в апреле. Но приходится, – сообщила обладательница женского баска. – Я переживаю сложный период жизни.
– Да, – почему-то подтвердила Ясенева, словно что-то знала о сложностях появившейся тут дамы. Впрочем, это могла быть чистая вежливость, какую проявляет Капица, общаясь с героями своих передач.
Вошедшая положила на свободную койку свои пожитки, рядом на пол бросила сумку. Затем вынула оттуда халат и тапочки, пару тремпелей. Переоделась, заботливо водрузив на плечики юбку и блузку, пристроила их на вешалке в углу палаты.
– Думаю, мы подружимся, – высказала она знакомой ей издавна палате сокровенные чаяния, а может, свои намерения, и вышла в коридор.
Еще, небось, думает, что это мы заняли нагретое ею местечко. Это после того-то, как пережили здесь всемирное обледенение окон и окружающего пейзажа? Мы с Ясеневой переглянулись.
– Ведьма? – предположила я. – Баба Яга и нос крючком.
– Постой, постой… – Ясенева одной рукой прикрыла поэтическое чело, а другую приложила к левой груди, как бы усмиряя биение сердца. – Как ты сказала?
– Введь-ма… – запинаясь, повторила я, не зная, чего ожидать: похвалы или выволочки за неправильную терминологию. Хотя я по своему возрасту имела полное право на озорной сленг.
– Как я могла забыть? – Ясенева смотрела на меня очаровательно ясными глазами цвета весенней зелени. – А ты?
Ох, уж эти глаза! Некоторые считают, что фамилия Ясенева происходит от слова «ясень» – названия дерева. А я уверена, что в результате каких-то метаморфоз она произошла от слова «ясная» – таким был весь ее облик, чему в немалой степени способствовали глаза. Но я отвлеклась, простите. Даже не знаю, как с этим быть: начинаю иногда мыслить категориями надоевшего мне Мастера. Уж не пытается ли он вселиться в меня, чтобы присоседиться хоть таким макаром к нашей Дарье Петровне, ибо кто же ему отдаст без боя свято место?
– Что я? – отвлеклась я от посетивших меня подозрений.
– Как ты могла забыть?
– О чем?
– Да ведь мне плохо стало после сновидения! А я не рассказала о нем Гоголевой.
Я хлопала глазами: дура-дурой. В самом деле, ну как я могла повестись так безответственно? Блин, зачем меня сюда приставили? Раскоровела на дармовых харчах и про все забыла. Я приказала себе собраться, иначе мне не выжить в той конкуренции за место возле Ясеневой, которая не на шутку разгоралась.
– Сон, сон… – повторяла Дарья Петровна. – Женщина, ведьма… Она, это она… – Ясенева начала суетиться, ударяя руками о края койки, шаря под подушкой, потом спохватилась: – Ира, подай мою сумочку.
Я протянула ей сумку трясущимися руками, предчувствуя крутой поворот больших событий. И «низко сняла шляпу» (Клара, ваш бесподобный слог таки нужен иногда людям, не сомневайтесь).
– Черты лица благородные, а кожа темная, обветренная. Руки шершавые, ногти обрезаны ножницами. Может, она цыганка? – между тем демонстрировала я свое рвение. Намекая, конечно, на давешнюю ведьму. На большее не тянула пока что, к сожалению.
– Ты о ком? – спросила Ясенева. – А-а, да нет, – сказала, поняв, о ком я говорю. – Она много времени проводит на свежем воздухе. Видимо, строитель, – Дарья Петровна порылась в сумочке и вытащила на свет божий скомканный, затертый листок бумаги. – Вот! – победно воскликнула она. – Полюбуйся, – и протянула его мне.
Я развернула писульку.
– Старый рецепт, – констатировала я разочарованно.
– Именно! Знаешь, откуда он у меня?
– Если бы я о вас знала все, – я сделала ударение на слове «все», – вы бы не находились здесь.
– Так вот, – не обращала она внимания на глубокомысленность моих намеков. – Его передала мне та женщина, что упала на улице. Помнишь?
Чтобы она что-то передавала, я помнить не помнила, но припоминала какую-то суету той больной. Только причем здесь все это – сообразить не могла. Что-то зависит от моей памяти? Так извольте, я готова ее поднапрячь. Но, похоже, плутни моих рассеянных и не созревших мозгов служили не самую лучшую службу при дворе моего величества. Заметив мой одеревеневший взгляд, Дарья Петровна отчаялась.
– Ты номер «скорой помощи» хоть запомнила?
– Запомнила, – угрюмо призналась я, досадуя на собственную нерасторопность.
– Повтори.
Я повторила.
– Правильно. Теперь слушай задание, – я сделала стойку и посерьезнела, даже словно со стороны увидела, какими умными стали мои глаза. Пришлось пару раз хлопнуть ресницами, закрепляя образ. – Не строй мне глазки, – не одобрила мои попытки Дарья Петровна.
– Не отвлекайтесь, я слушаю вас, – решила я не оставаться в долгу.
– Сегодня, как уйдет из отделения Гоголева, иди в ее кабинет, садись на телефон и звони, куда хочешь, но принеси мне адрес некоего Васюты И. Я. шестнадцати лет от роду.
– А кто это?
– Ты же только что смотрела рецепт?! – удивилась Ясенева моей тупости, скоротечно переходящей в хроническую форму. Но потом не стала на этом останавливаться, чтобы не терять время. – Ладно, потом узнаем. Значит так, записывай. Первое: позвонить в справку телефонов и узнать номер регистратуры первой поликлиники четвертой горбольницы.
– Так, – я быстро записала сказанное. Не впервой!
– Второе: дозвонишься по номеру регистратуры и… Тут может быть два варианта.
– Вариант первый? – я сделалась лаконичной и деловой, в лучших традициях длинноногих, пустоголовых барышень из приемных нынешних фирмачей.
– Вариант первый: просишь работницу регистратуры найти для тебя адрес этого парня. Если она попросит его полное имя или другие данные, скажи, что ты знаешь точно одно – он проживает на участке, обслуживаемом терапевтом Лысюк Лидией Семеновной. Это может сработать, но шансов мало. Скорее, она пошлет тебя, куда ни попадя.
– Вариант второй?
– Да. Второй: сообщаешь работнице регистратуры, что звонишь из тридцать второго отделения областного психиатрического диспансера и тебе срочно нужна врач Лысюк Лидия Семеновна для консультации по одному из ее пациентов. Попроси, чтобы тебе дали либо ее номер, хорошо бы домашний, либо чтобы позвали ее к телефону. Когда ты с ней свяжешься, выяснишь то же самое – адрес Васюты И. Я.
– Потом мне придется еще ехать к нему. Жаль малолетка.
– Не обязательно.
– Вы сами сказали, что ему шестнадцать лет, – удивилась я.
– Не обязательно ехать, – последовало уточнение Ясеневой, и я поняла, как глубоко она закомплексована на своих проблемах.
– Принято, – вяло сообщила я, радуясь втайне, что в любом случае кончилось мое великое сидение здесь.
Ее дела пошли на поправку, моя подопечная поднялась, а я из сиделки превратилась в порученца. Да здравствует относительная свобода и «самый справедливый суд в мире»!
В палату вернулась особа, мечтавшая подружиться с нами.
– Я не представилась, – сообщила она очередную новость. – Меня зовут Жанна Львовна Дубинская. – Я, сраженная ее доверием, сразу же раскрыла объятия души, вошла в положение ее «сложного периода» и готова была полностью отдать в ее власть свою отзывчивость, но она не дала мне этого сделать, ляпнув, обращаясь к Ясеневой: – А вы, кажется, Ясенева, наша литературная звезда?
Рассуждая беспристрастно, можно было предположить одно из двух: либо Ясеневу принимают совсем за девочку, так молодо она выглядит, либо обретенная нами Жанна Львовна в недалеком прошлом была «крутым» издателем, от воли которого зависела судьба Ясеневой как раз в тот период ее жизни, когда она направила свои стопы на Парнас. Но я же знала, что ни то, ни другое не могло иметь места. Напрашивался вывод… Впрочем, давайте лучше не будем об этом. Дубинскую я знаю мало, и оставим ее в покое. Внесу, однако, ясность: ясень, дуб – в народе к ним всегда относились неодинаково. Вы понимаете, на что я намекаю?
– Смотря, что подразумевать под словами «литературная звезда», – откликнулась моя подопечная. – Во всяком случае, не вызывает сомнений то, что я – Ясенева.
– Кажется, неловко получилось, – смутилась новая знакомая, не пряча откровенности. – Я хотела польстить вам, мне нравятся ваши стихи.
– Увы, здесь не место для поэзии, – надула губки Дарья Петровна, заправляя далеко под крылья вдохновения иголочки, успевшие встать ежиком.
– Еще раз простите. У меня сегодня с утра день не задался, и я все никак не войду в колею. Чуть не забыла! Вас просила зайти Гоголева.
– Спасибо.
Я подчеркнуто почтительно, можно даже сказать, поучительно-демонстративно, помогла Ясеневой подняться с постели и отвела ее в кабинет Елизаветы Климовны. Оставаться там не стала вовсе не потому, что меня не пригласили. Хотя исключительно вам на ушко скажу, что на самом деле так оно и было, но мне-то неловко озвучивать при всех нелепые подробности. И поспешила в палату к новой «сокамернице».
– Жанна Львовна, меня зовут Ира.
– Очень приятно, Ирочка, – заулыбалась она.
– У меня к вам просьба.
– Да?
– Я о Ясеневой…– я замялась.
– Говори.
– Она опасно больна. Каждый день может стать для нее последним. Хуже всего то, что в ее болезни виноваты люди – понимаете? – мы все. Поэтому тут стараются…
– Не огорчать ее, – закончила она вместо меня. – Я уже поняла это. А что с ней?
– По гороскопу она – Рак.
– О, господи!
– Нет, не то, – успокоила я донельзя отзывчивую товарку.
– Так, – не на шутку сосредоточилась Дубинская.
– Сейчас с нее словно сняли защитный панцирь и заставили жить без него.
– Нервы? – спросила Дубинская, и я кивнула, закусив нижнюю губу, что по моим представлениям должно было усилить восприятие сообщаемой мною информации. – Бедная.
Я расслабилась и мило улыбнулась:
– Может, я могу быть вам чем-нибудь полезна? Вы не стесняйтесь. Я в детстве мечтала стать врачом, да вот не получилось, в институт не попала. А с больными люблю возиться. Приятно, когда чувствуешь себя кому-то нужной.
Когда в палату вернулась Ясенева, мы с Жанной Львовной пили чай и поверяли друг другу сокровенные недуги.
***
Свидетельницей или участницей второго совещания по спасению Ясеневой я не была и знаю, о чем там шла речь, лишь из ее слов. Может, в моем изложении этот рассказ кому-то покажется суховатым, я же не поэтесса, а может, наоборот, – маленько привру ненароком. Не взыщите, выходит, такой у меня индивидуальный стиль.
– Такая прелесть иметь подругу-врача, – призналась Ясенева, когда мы остались вдвоем.
– Неужели? – я язвила, потому что не понимала, какие еще этот факт имеет преимущества, кроме очевидных. – Боюсь предположить, что от нас заберут бабу Ягу, – это я так условно назвала новую соседку, хотя она оказалась нормальной женщиной. А перед приходом к нам перепсиховала из-за того, что ее дочь буквально на глазах подцепила подозрительного хахаля. Кого же красит беспокойство?