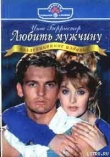Текст книги "Убить Зверстра"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Маньяки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Я вспомнила, как мама привела меня, еще школьницу, к ней на типографию.
Мама когда-то работала бухгалтером в институте, где преподавала Ясенева, и помнила ее совсем юной. Но к тому времени, как мы пришли к ней вдвоем, у Ясеневой уже была своя фирма, новые творческие интересы, магазин и этот говнюк под боком в роли порученца. Нам хотелось получить направление в книготорговое училище, и чтобы после его окончания она взяла меня к себе на работу. Дарья мне сразу понравилась: светлая, открытая и в то же время – резковатая, стремительная. Чувствовалось, что она видела и перевидела таких резвых, как я, и спуску им от нее не было. И не только им. Минуты, что нам пришлось провести в ожидании, пока она освободится, я не забуду никогда. Именно они и сформировали у меня ее образ. Дела она решала сразу, пачками и налету. Решения принимала – мгновенно и уверенно. Язычок, острый как бритва, отшивал, миловал и привечал с одинаковой безсомненностью. И ни изгнанные, ни прощенные, ни принятые не обижались на нее. Шутка, меткая характеристика, лаконичная оценка ситуации – вот ее единственное оружие, единственный рычаг, которым она виртуозно пользовалась.
Блеск, а не женщина! Мне в одну минуту захотелось стать похожей на нее, и с тех пор это желание не проходит.
– Торговать книгами? – она резко развернулась в нашу сторону и пристально посмотрела на меня. – Какую книгу ты сейчас читаешь?
Я не любила читать. Я вообще плохо училась, прогуливала уроки, босяковала. Мама замучилась со мной и не представляла, куда деть после школы. Она искала жертву, которая взяла бы меня на абордаж и вывезла в люди.
– Умоляю вас, – заговорила мама. – Если вы сделаете из нее человека, я до конца своих дней буду за вас Бога молить.
Ясенева отвернулась и молча склонилась над столом. Конечно, она поняла все про мое прошлое, так же как и про настоящее, а именно – какое впечатление произвела на меня и что произвела-таки. Поняла, что только это и может меня спасти. И подала руку, подставила шею, взвалила на плечи. Как назвать?
– Валя, выпишите ей направление, – сказала своей помощнице, а затем продолжила, глядя в окно: – Пусть пока учится, а там видно будет.
После средней школы учиться в училище оставалось всего год, и он быстро пролетел.
И снова мы с мамой сидели в ее кабинете, где все оставалось по-прежнему, и снова наблюдали Ясеневу в том же стиле и темпе жизни, а она распихивала более срочные дела.
– Сейчас, секунду, – пообещала нам, когда к ней зашел водитель, машина которого загружалась на складе типографии.
Там что-то не получалось.
– Пачки разорванные, потертые, а мне их на тысячу километров телипать. Они же не доедут живыми до Москвы. А если их там не примут? Мне что, тогда везти все обратно?
Вопрос решался долго: склад, переплетный цех, переупаковка пачек, скандал с производственным отделом, с мастерами, кладовщиками, грузчиками, выдача и получение бракованных пачек…
Как она успевала? Однако мне показалось, что она рада этой кутерьме, потому что была чем-то смущена в отношении нас, и это ей мешало взять в руки мое направление на работу, взглянуть на него и передать Вале для оформления. Основания к тому были: мои босяцкие выходки в училище не прекращались, и там мною были недовольны. Будем откровенны, не все в юности были паиньками. Опасения оказались не напрасными. Ясенева, чувствуя, что ее «секунда» превращается в вечность, сделала для нас остановку в этом стайерском забеге с переупаковкой тиража.
– Не хотелось бы так сразу вас огорчать, но свободного времени нет совсем, и поэтому буду краткой. Ира не оправдала моих надежд. На протяжении года вела себя плохо, не училась, – тут она протянула маме какую-то бумажку.
Это оказалась моя характеристика, нелестная, конечно. С такой утопиться и то не удастся – черти выбросят на берег. Прислали, небось, на меня одну! Народ вокруг – не золото, но и я не подарок. Так что, мы в расчете. В том смысле, что взрослые тети и дяди со мной поквитались за свои испорченные нервы. Мне бы вовремя понять, что нет ничего дороже человеческих нервов. Порть себе на здоровье жизнь, но так, чтобы другие не нервничали. Но что теперь?
– Я сделала запрос в училище, – развеяла Ясенева мои подозрения в доносе. – И вот мне прислали отчет, какого я не ожидала. Я имела моральное право знать правду, потому что учила Иру на свои деньги.
– Как? – вырвалось у мамы. – Почему?
– Вы же помните, как я ее направляла на учебу?
– Помню.
– Возможно, забыли одну деталь. А состояла она в том, что я не гарантировала Ирино трудоустройство на своей фирме.
– Да. Вы сказали, что, мол, пусть пока учится, а там посмотрим.
– Вот-вот. На таких условиях ее зачислять не хотели. Как это, – сказали мне, – направлять направляете, а на работу брать не хотите? Тогда не направляйте. Но я уже пообещала вам помочь, и не могла отказаться от своего слова. Пришлось платить за Ирино обучение самой. Таковы издержки осторожности.
– Я не знала, – маме было неловко, она пыталась спрятать свои руки, нервно теребившие проклятую бумажку с отчетом о моей учебе. – Ира получала стипендию. Как все. Разве я могла подумать, что вы тратите на нас свои деньги? И что же теперь?
Как волновалась моя мама! Она сделала попытку что-то сказать, пообещать, заверить, поручиться за меня. Честно говоря, втайне она и не надеялась, что Ясенева возьмет меня к себе. Но тут выяснилось, что мы влезли в долги! Ведь деньги, потраченные на мою учебу, видимо, надо вернуть?
Я помню, что тогда вновь зазвонил телефон. Продолжались переговоры относительно того, кто должен платить рабочим за переупаковку книг. Ясенева не хотела доводить дело до директора.
– Сколько пачек привезли на переупаковку? – перекрикивала она шум переплетного цеха, доносящийся из трубки.
Ей что-то ответили.
– И вы из-за этого готовы ставить вопрос официально? Давайте ставить, я не против. Но оплачивать ваш брак не буду.
Понятно, господа мастера из переплетного цеха решили взять Ясеневу за горло: или плати нам за срочную работу, или, если ты такая законница, мы потянем резинку, и ты дороже заплатишь за простой машины, которую заказала на Москву. Я знала этих мастеров, потому что у них мы проходили ознакомительную практику, знала их методы.
– Нет, нет, – спокойно отвечала Ясенева.
Вот тогда, в тот момент, я впервые увидела его, родного брата сатаны, исчадие ада, этого умника, этого паразита.
Кажется, Дарья Петровна еще говорила по телефону, когда он завоевал пространство кабинета. Именно завоевал, потому что его стихия – бой. Вокруг стало мало места для остальных: где-то на задворках ограниченного объема комнаты существовали мы с мамой, Валя, телефонный аппарат с чьим-то жалким голосом внутри. Все отодвинулось прочь. Ее рука, протянутая к трубке, оказалась отрезанной от остального мира, потому что он перестал для нее существовать. И она бросила трубку на рычаг, так и не сказав напоследок короткое резюме, идя добровольно навстречу той изолированности с ним, единственным, которую он диктовал своим появлением и непроизнесенной волей.
Дудки, конечно, чтобы она стушевалась перед ним, но в улыбке расплылась, это таки да.
«Здравствуйте» – с обеих сторон было произнесено одинаково напряженно и многозначительно. Чувствовалось, что за этим словом скрывались смыслы, понятные только им. Еще что-то читалось в интонациях, в глазах, в позах, в паузах между словами.
Что я тогда понимала? Разве я могла оценить то, что видела? А все же замерла, букашка! – значит, не совсем пень-колода.
Упоение, его чарующий аромат, его колдовское наваждение, его нектарную сладость и мучительную горечь предчувствий – вот что ощущали мы, невольные свидетели их встречи, и пили, пили его, словно вино причастия к интересам и заботам духа. А чем жили эти двое? О! – это необъяснимо.
– Вы прочитали? – в его глазах засветилось лукавое любопытство с торжествующей уверенностью в победе.
– Прочитала, – она не могла согнать улыбку с лица.
Да, видимо, и не пыталась это сделать, ибо поняла, что не улыбаться сейчас, видя его и ощущая безграничное счастье от этого, не может. Поэтому оставила попытки сохранить строгий, равнодушный или беспечный вид. Она умела сдаваться на милость жизни, быть естественной и прекрасной. Владела искусством во всех ситуациях не быть маленькой, затерявшейся или смешной.
Поэтому сказанное ею «прочитала» и ликующая, неподвластная осуждению улыбка были так же значительны и огромны, как и его самоуверенность.
– И как? – поинтересовался он, озадаченный тем, что на него не хлынул поток славословий.
– Вы же видите, – демонстрировала она себя. – Я превратилась в улыбку. И пока не соберу и не поставлю свое лицо на прежнее место, разговаривать со мной бесполезно.
– Почему? – теперь я понимаю, что он пытался кокетничать, но все мелкое, наносное, невсамделишное разбивалось о ее неподдельность.
– Потому что ум растворился в восхищении. Растаял. Я не могу в таком состоянии говорить с вами, не хочу казаться глупой.
– Что же делать? – он не смог скрыть растерянности, его озадачило достоинство, с каким это было сказано.
– Недели через две я приду в себя, и мы обо всем поговорим.
– Через две недели? – вспыхнул он, возмутился, без стеснения и напористо. Резким движением взял стоящий в стороне стул, с грохотом поставил перед ее столом. – Нам некогда ждать две недели, надо работать.
Ясенева по-прежнему улыбалась, заливаясь безотчетным счастьем, нескрываемым, осознаваемым, главным надо всем, что существовало вокруг.
В его взгляде появился восторг: как же надо было проникнуться его выдумкой и мироощущением, чтобы так безбоязненно высказать ему свое одобрение; как надо разделять его ценности, убеждения, чтобы с такой безгрешностью и отвагой признаться в этом ему; какой внутренней силой надо обладать, чтобы возвысить надо всем этим свое понимание.
А она молчала. Смотрела на него во все глаза, как будто не видела перед этим сто раз, и лишь крылья тонко очерченного носа заметно трепетали, улавливая выдыхаемые им потоки воздуха.
– Сделаем так, – снова заговорил он. – Завтра я принесу вам еще парочку моих книг, вы их прочитаете, и вам будет легче со мною общаться.
– А что, теперь вы принесете свои слабые книги? – намекнула она, что он предлагает ей разочарование как метод приземления отношений.
– Отнюдь! – взвился он. – Я не пишу слабые книги. – Замечу в виде ремарки на полях, что тогда он мог с полным правом это утверждать, но не теперь, халтурщик!
– Чем же мне станет легче в таком случае?
– Исчезнет острота восприятия, вы просто привыкнете ко мне.
– Пожалуй, стоит попробовать, – согласилась она.
– Значит, завтра?
– Да.
И тут он, наконец, заметил нас. Можно быть вежливым, когда решишь свои дела за чужой счет.
– Извините, я вам помешал, – и послал улыбку, заготовленную для простушек, которые отродясь не читали его книг и любят его только за то, что он их пишет.
– Можете не извиняться, нам все равно отказали! – отрезала я, и тут же подумала: какого черта тогда мы тут рты разинули. Но рука судьбы незрима, она смешивает карты намерений, планов и готовых решений так незаметно, что догадаться о присутствии еще одного игрока невозможно.
Понятно, он не привык к такой нелюбезности, да еще продемонстрированной прилюдно, да еще после таких изысканных дифирамбов. Уходить, поджав хвостик, было неловко, а продолжать говорить с нахалкой, какой я себя показала, было не о чем. Он, словно кот, пойманный на шкоде, закрутился вокруг своей оси в поисках спасения и беспомощно уставился на Ясеневу: караул, в вашем присутствии мне хамят!
– Девочка хочет работать в нашем магазине, – пояснила она.
– Поздравляю вас, – он снова улыбнулся нам с мамой, на этот раз заискивающе, чтобы я опять не ляпнула что-нибудь несносное. – Работать с Дарьей Петровной – большая честь. – Так, значит, завтра я у вас, – напомнил он Ясеневой, и его выдуло из кабинета сквознячком неприкрытой трусости.
Я почувствовала, как наши с мамой тела начали занимать прежние места в пространстве ясеневского кабинета. Но это заметила только я, так как для Ясеневой он все еще находился здесь и приятно довлел над нею. Если честно, то я должна была встать и уйти. Может, я так бы и сделала. Но меня опередила Ясенева.
– Давайте документы, – сказала нам и тут же, обращаясь к Вале: – оформляйте ее.
И я смалодушничала, воспользовалась оговоркой растерявшегося гения, приняла ее как подачку.
– Спасибо, – буркнула. – Я буду стараться.
– Надеюсь, ты все поняла.
– Я все поняла.
И вот теперь я – живое напоминание о том дне, той минуте ее чистой усладности, о счастье, к которому она лишь протянула руку, не успев прикоснуться, о муке, последовавшей за этим. Как мне жить, как нести этот крест? Говорю без шуточек, это очень обязывает. Те минуты переплавили меня наново, сделали совсем другой, а прошлое мое заткнулось и уметелилось восвояси как будто и не принадлежало мне. Я ничего не помню и ничем не дорожу из прежней жизни. Забылось детство, пропало пропадом дурное отрочество, посчезла бездумная юность, осталось только это и длинный желанный путь впереди.
Восемь лет я работала в магазине, видя Ясеневу лишь изредка и почти не общаясь с нею.
И вот с августа она пришла работать в магазин. С первых дней у меня возникло ощущение, что я ее знаю всю жизнь, что теперь все стало на свои места, уладилось.
Как я могу не любить ее?
Господи, как холодно! Отчего же я так измотана? Я посмотрела на часы, было еще достаточно рано, во всяком случае, наш магазин еще работал. Зайти туда, что ли? Нет, я устала. Сегодня у меня была творческая работа, я ее выполнила хорошо – чего скромничать? – и имею право на отдых. Поеду домой.
Проклятая забывчивость! – примета юности. Я остановилась на том, что Ясенева будет волноваться. Ей это вредно.
В свете фонарей было видно, какие сложные траектории выписывают падающие редкие снежинки под действием ветра и притяжения земли. Я остановилась в освещенном круге, подняла лицо к небу, различая там, между облаками, редкие звезды. И теперь уже не снежинки кружили в моем воображении, а лица тех, о ком я вспоминала, – Ясеневой, ее злого гения, мамы… Потом мама, грустно улыбнувшись мне, растаяла и, словно две звезды, продолжали светить лица Ясеневой и его. Они смотрели друг на друга. Он – с мудрой печальной обреченностью, она – с немым безропотным ожиданием. Господи, куда мне деться от них?
Стоп, о чем это я… Какая усталость? Ведь не устает же она, работает и работает, ничего больше не имея и не умея, выбрав состояние творчества в качестве нормы жизни. Ведь… – страх охолодил мою душу – она не имеет ни минуты покоя! Этот калейдоскоп, который крутит мое воображение, подхлестнутое воспоминаниями и легким напрягом двух отчаянных бесед, мелькает перед ее глазами постоянно. Причем, если у меня превалируют образы виденного, живые и сущие, утвердившиеся на земле, то у нее – воображаемые, нарисованные из отдельных штрихов и черточек виденного, вымечтанные, желанные. Это же невозможно трудно и мучительно… И слова, слова, что наплывают из ниоткуда, заполняют лакуны сознания, сражаются и умирают в нем и вновь восстают, взявшись за руки, устойчивыми рядами стихотворных строк.
Представить дорогого человека в динамике, в движениях, взволноваться и зажечь ярче еще неостывшие угли в душе, затем запылать и выбрасывать, выбрасывать оттуда, из этого огня, из гогочущего горна, все новые и новые строки, пока душа не выгорит дотла, пока не остынет в ней серое пепелище, пока не выдует его пыль горечь и время. И все сначала: закрытые глаза – дорогое лицо – жар души – стихи – пепел – горечь…– вот какую долю она себе выбрала.
Мои щеки горели, внутри теснились невыразимые чувства, зрело ощущение, что мне не дано никак по-другому выразить их, кроме как совершить поступок. Моя стезя – действие. Но действие подразумевает наличие результата. А мой сегодняшний результат был честен и достоверен, но скуден.
Я развернулась и направилась в сторону улицы Крутогорной, по адресу, где жила старушка Жирко.
Согласитесь, это жутковато – идти на квартиру человека, о котором знаешь, что его нет в живых, что там пусто, и это в то неуютное время, когда вокруг темень и холод, а в душе, по сути, – одиночество. Лишь понимание чьего-то более мужественного одиночества добавляет сил и обостряет чувство долга.
Квартира находилась в цокольном этаже пятиэтажного дома. Короче, как заходишь в подъезд, надо идти по ступенькам не вверх, а вниз. На полпролета. Как и на нормальных этажах, тут на площадке размещалось четыре квартиры. В двери, на которой не было номера, я увидела засунутый под кнопку звонка клочок бумаги. Судя по всему, это было то, что я искала. Без раздумий я вынула записку и развернула ее. Она оказалась любезным посланием от некоего Якова: «Евдокия, где тебя носит? Позвони срочно и отчитайся в наших деньгах. Яков». Яков – это, похоже, зять той женщины, что, с одной стороны, была матерью жабоподобной блондинки, а с другой, – подругой умершей. Хорош зятек, грозный такой, надежный. Тыкать тещиным подругам, вынужденным подрабатывать на твоих домашних поручениях, – это как раз в духе нуворишей. Чтоб ты сдох!
Единственное, чем я могла досадить этим самодовольным потомкам Хама, это разорвать жалкое творение в клочья и проглотить его. Но потом я подумала, что проглотить – это для них слишком большая роскошь, достаточно будет им соли под хвост, если я развею его ошметки по ветру.
Я поднялась к выходу из подъезда, открыла дверь на улицу и сразу почувствовала настойчивый призыв ветра кинуть ему намеченную жертву, он хватал меня за полы пальто, рвал и увлекал в приближающуюся ночь. Для меня это остается неразгаданной тайной: к ночи ветер почти всегда усиливается, реже – стихает, но меняет свою интенсивность обязательно. Свойство тьмы или уступка дня? Потом он вновь может выровняться. Однако, сам переход вечера в раннюю ночь – царство ветра.
Рука с затиснутыми в ладони обрывками записки вытянулась вперед и разжалась, отдавая их на растерзание стихиям. Ладонь сразу же опустела, и в нее яростно влепились шальные снежинки. Куда исчезла изорванная бумага, я не успела заметить.
Вот так я оборвала последнюю нить, связывающую смутно помнимую людьми старушку с покинутым ею миром. Это обращение не дошло до нее. Написанное теми, для которых она была еще жива, оно будто привязывало ее последним утлым узелком к земным долгам и заботам. Я разорвала этот узел, отпустив ее душу на покаяние к иным судьям, не здешним, не земным. И в то же время мне почудился тихий, благодарный вздох облегчения, как будто некто скинул с плеч надоевший, бесполезный груз.
Неужели это должна была сделать я, почему? – прорезалось вопросом удивление выбором судьбы. Ведь узнав, что «адресат выбыл», сюда должен был бы поспешить грозный судья Яков и «отозвать» свое послание. Чего это я взъелась? Может, он и придет позже. Не надо было трогать эту записку, – уедал меня тоненький голосок сомнения. Возможно и быть может, – согласилась я, поеживаясь от слишком уж настырных порывов ветра, отмечая, что причиной тому является угол дома, изменяющий его направление и вихрящий распластанные над землей космы.
Так зачем тогда я сюда пришла, зачем торопилась? Глупый порыв моего наивного, неискушенного сердца? Ой, ой, ой! – как трогательно об инфантильности такого ответственного органа. Или я хочу казаться моложе? Я хочу собрать побольше полезной информации для Ясеневой, – одернула я себя от завихрений вместе с ветром. Та-ак. Что же в приходе сюда может быть полезного? Ага! Кое-что я могу подбросить к добытым сведениям.
Я снова побежала вниз по ступенькам, с разгону нажимая на звонки во все квартиры. Открылась одна из трех дверей, та, что была рядом с дверью Евдокии Тихоновны. Оттуда показалась женщина преклонного возраста, но далеко не древняя старуха, невысокого роста, на коротких, чуть искривленных ногах.
– Тебе чего, деточка? – опередила она мои извинения.
– Так сразу и не скажешь, – опешила я от неожиданной приветливости.
– Заходи, а то в квартиру холод набирается.
Я переступила порог тесной двухкомнатной «хрущовки». Мысли незаметно сами собой упорядочились, наступила ясность и определенность. Нашлись и нужные слова.
– Меня зовут Ира.
– Хорошо, – согласилась женщина с выбором моих родителей, произнося слова с заметным украинским акцентом. – А я Мария Григорьевна. Да ты, может, меня знаешь?
– Не знаю. Откуда?
– Меня в доме все знают.
– Да? – я присмотрелась внимательнее, стараясь определить, что в ней есть такого примечательного.
– Я всегда дома, – пояснила Мария Григорьевна. – Не хожу никуда, разве во двор выйду да на скамеечке посижу. Жильцы оставляют у меня ключи от квартир. Ох, – пригладила она волосы аккуратным движением рук. – Надобности у людей разные: кто ключи потерял, кто детям в школу боится доверить, чтобы не стащили у них. А соседи по площадке, – она показала на пустую квартиру, – оставляют на случай, если забьется канализация.
Я многозначительно посмотрела в ту сторону, куда она указала. Женщина сразу же откликнулась на это:
– Да-а. Вот нет ее две недели, а я места себе не нахожу. Верите?
– Верю.
Мы стояли в прихожей, но это никого из нас не смущало. Мария Григорьевна не торопилась усугублять гостеприимство, а я и здесь чувствовала себя достаточно комфортно.
Она прикусила язык и с подозрением покосилась на меня.
– А ты, никак, с вестями?
– Да, Мария Григорьевна. Евдокия Тихоновна умерла, – и я рассказала ей все, что не нанесло бы ущерба делу. О рецепте, Васюте и нелепых снах Ясеневой, конечно, умолчала.
– Я человек посторонний, но посчитала своим долгом рассказать об этом тем, кто может передать весть о судьбе Евдокии Тихоновны ее внучке.
– О чем ты говоришь! – воскликнула хозяйка квартиры. – Я ей сейчас же позвоню.
– У вас есть ее телефон?
– А то как же!
Я чувствовала, однако, что в эту сторону мне двигаться не придется, и интуитивно нащупывала, куда же придется.
– Мария Григорьевна, такой деликатный вопрос, – замялась я.
– Про что?
– Не было ли у Евдокии Тихоновны друга, мужчины знакомого, о котором бы она могла беспокоиться в случае своего долгого отсутствия?
– Ухажера, что ли?
– Да нет! Может, она ухаживала за кем-то одиноким, беспомощным. Может, ее попросили присмотреть за больным стариком или инвалидом. Вы не знаете о таком?
– Чего не знаю, того не знаю. Только думаю, что нет такого человека.
– Почему?
– Чтоб ухаживать за кем-то, надо дома не сидеть, – разумно предположила моя собеседница. – А она, почитай, цельными днями дома толклась. Безвылазно. Ну летом, бывало, куда по травы ездила. Травами любила лечиться.
– Ну, и зимой не совсем безвылазно, – заметила я. – Вот же она посещала свою подругу, подрабатывала денег у ее зятя, – только тут я обнаружила, что не знаю имени этой подруги, ведь Васюта – это фамилия ее зятя.
– Это Зойку, что ли?
– Если она теща Васюты, то ее.
– Как же не теща? Теща! Попробовал бы он не жениться на ее Розке, так Федор бы его стер с лица земли. Времена-то были еще партейные. А Федор Ильич Сафронов, Зойкин муж, в большой номенклатуре сидел. Теперь помер уже. А чего им не жить? – рассуждала она о чем-то своем.
– Да. Только неравная у них дружба получается.
– Пусть и за такую спасибо скажет, – отрезала Мария Григорьевна.
– Кто?
– Да Евдокия. Кто же еще? Она всю жизнь за печатной машинкой в приемной у Федора просидела, не перетрудилась. А прислуживать да угождать – это ей по должности полагалось. Ничего тут обидного не вижу.
– А вы дружили с соседкой?
– Так мы в один класс ходили. В школе, – уточнила она. – И Зойка с нами. Потом помогла ей на работу пристроиться к мужу. Да, давно это было… А я так и пропахала всю жизнь возле конвейера. А так, считай, что родня были.
– Сегодня странный вечер, – мне показалось, что сейчас у меня закружится голова.
– Печальный, – подтвердила Мария Григорьевна.
– Я вот еще что хотела спросить, не знаете, в какой аптеке Евдокия Тихоновна покупала лекарство?
– Так в нашем доме за углом своя аптека есть. Там, наверное, и покупала.
– Ее нашли на углу улиц Тихой и Перекатной.
– Постой, постой, – начала припоминать она. – Могла! Там недавно новая аптека открылась, по телевизору о ней передача была, говорили, что самая дешевая в городе. А ветеранам даже скидки дают, пять процентов.
Мы еще какое-то время говорили о пустяках, по сути дела судачили о покойнице. Оказалось, что кроме семьи Васюты да этой соседки она больше ни с кем не общалась. Старые ее сотрудники потерялись из виду: кто постарел и не выходил из дома, кто пристроился по-барски при «крутых» детях, а кто… как и она теперь.
Ни те, ни другие, ни третьи не нуждались больше в знакомстве с Евдокией Тихоновной. Может, не зналась бы с ней и старая подруга Зойка, обошлась бы без ее услуг, да уж больно она тосковала по мужу и топила тоску в беседах с его секретаршей.
Другие соседи по площадке были жильцами новыми, недавно переселившимися из окраин города. Они купили эти квартиры, освободившиеся все тем же естественным порядком.
Вот и весь мой урожай. Не знаю, будет ли с него прок для Ясеневой.
Я вышла на улицу, зная, что поеду не домой и не в магазин, а в больницу, где она меня ждала.
В такое время такси – самый надежный вид транспорта. Увидев «Опель» в шашечках с цифрами 0-64 по бокам кузова, я махнула рукой.
15
Ему стало невыносимо одиноко. Вечер еще только начинался – долгий, кромешный, глухой зимний вечер. И никаких планов.
Игорь Сергеевич пощипывал ядреную гроздь винограда – любил, грешным делом, побаловать себя вкусненьким по вечерам – и листал телепрограмму на текущую неделю. По старой привычке обводил кружочками время передач, которые его интересовали, которые стоило посмотреть. Собственно, это были не передачи, а показы фильмов, старых, из той, прежней жизни – бедной, но бесконечно милой и светлой, безыскусной, наивной, как отшумевшая целомудренная юность.
Неделя обещала порадовать двумя фильмами из цикла «Следствие ведут знатоки» и многосерийного телефильма «Профессия – следователь». Но сегодня, как назло, ничего интересного не было.
Книги в последнее время он читал мало, надоела пошлость и надуманность городских романов, кровь и беспредел криминального чтива, примитивность и безнравственность некоторых бойких литературных барышень. Из детективщиков признавал только Маринину и Незнанского.
Пожалуй, самым стоящим жанром в годы безвременья стала фантастика. Он восхищался своим молодым коллегой Серафимом Лукиным, который после первого литературного опыта забросил вдруг психиатрию и подался в профессиональные писатели, и теперь его стиль Дебряков ни с чьим бы не спутал. Далее шел бесподобный Сергей Алехин. Долго он ждал появления его новых романов после «Улей» и «Протест». Игорь Сергеевич отложил на тумбочку его роман «Предмет печали» и подумал, что пора перечитать «Свиток» – роман, с которого началось его знакомство с этим удивительным автором. В стороне от всех громадой высился Глеб Усачев – проповедник безупречной нравственности, умница и эрудит. Сегодня Игорь Сергеевич купил его новую книгу «Не гуди» и не торопился приступать к чтению, предвкушал будущее удовольствие, наслаждался этим предвкушением.
Надвигался пустой и вялый вечер, после которого может последовать многодневная разбитость и слабость.
Хандра… Она всегда приходила с воспоминаниями о семье, оставленной в Челябинске, о дочери. Это был отрезанный кусок жизни, опыт, который он не хотел бы повторить.
Он подошел к книжным полкам, где отдельно стояли книги Тли, – Тали Наталиной, его бывшей пассии, изданные в мягких переплетах. На тыльной стороне обложки был помещен ее портрет из времен молодых и нахальных. Тогда она была необъяснимо услужливой, вожделеющей отдаться и ограничиться этим. Или он ее не понял, не разгадал до конца, или в ней была скрыта редкая сексуальная девиация, поражающая женщин, склонных к мазохизму. Какая она теперь, как ее муж, не разбежались ли они после ее успехов на новом поприще? Господи, ну и гадость она пишет, работая под Хмелевскую! Неужели не понимает, что ее извращенность вылезает наружу в героях, которых она пытается представить положительными, уродуя их, производя обратный эффект.
Хорошо, что она укатила отсюда, живет где-то в Перми, завоевывая оттуда неприхотливых читателей. Смешно ей-богу, такая дура – теперь звезда литературного Олимпа. Однако с этим надо считаться.
Возле ее книг он ненадолго задержался, вспоминая, как тяжело ему скрывать истинное отношение к ее писаниям. Тля не часто приезжает сюда. Но когда выбирается погостить у матери и навестить других родственников, они обязательно встречаются. Два раза в год она отдает в издательство очередную рукопись и устраивает себе двухнедельный отпуск. Кроме этого, один летний месяц проводит на море, говорит, что где-то на Сейшельских островах у нее есть дача. Может и врет, с нее станется.
Он знает о ней все, хотя совершенно не нуждается в этом, просто наблюдает неординарное явление жизни, к которому не без тайного умысла богов был когда-то причастен. В чем состоял этот умысел, он так и не понял.
Странное течение мыслей привело к тому, что Игорю Сергеевичу непреодолимо захотелось женской ласки, захотелось завуалированной прелюдии, долгой-долгой ненасытной нежности, а после – доверительного разговора обо всем на свете, и чтобы непременно этому сопутствовало согласие. А почему бы и нет, черт возьми!
Уже два года им владела Лена, случайная пациентка. Где же еще он может познакомиться с женщиной?
Все началось с заурядного сочувствия – Ленка страдала упорными бессонницами, боялась темноты, ее преследовали дурные мысли, мрачные предчувствия. Короче, весь набор пошлого невроза переутомления прочно угнездился в ее дородном теле, и она элементарно могла загнуться, дожиться до депрессии или нервного срыва. Ему захотелось вернуть ей полноту и радость жизни, и он принялся за лечение всерьез.
Затем познакомились ближе.
Игорь Сергеевич презирал женщин, подгуливающих на стороне, ненавидел их, в чем, безусловно, сказывалась личная неудача в семейной жизни. Он выискивал для них самые грязные, самые неблагозвучные определения, готов был, если бы позволили – кто? – поубивать всех до единой, и был уверен, что рука бы его не дрогнула. А так как подозревал, что все люди наделены одинаковой степенью любопытства и, следовательно, женщины всегда остаются гулящими девками, то на всякий случай замужних ненавидел всех подряд, не вдаваясь в детали.
Но как врач понимал, что замужняя женщина, умеющая сохранить семью и взаимопонимание с мужем, – явление более нормальное, чем одинокая, без разницы, была ли та старой девой или, сделав неудачный выбор, приобрела перекошенный опыт супружества.