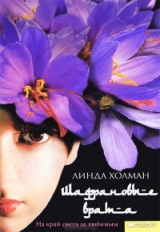
Текст книги "Шафрановые врата"
Автор книги: Линда Холман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
– Мне неинтересно это слушать, – сказала я с извиняющейся улыбкой. – Просто сделайте что можете, чтобы он стал как можно меньше.
Он назначил мне операцию через три недели, и она была проведена в теплый день в конце июня. Я с трудом помнила и саму операцию, и доктора Дювергера, наверное, из-за эфира, которым мне дали подышать, чтобы я уснула.
Когда я проснулась, у меня на лице была плотная повязка, а доктор Дювергер велел мне снова прийти через десять дней, чтобы снять швы.
– На этот раз я определенно вернусь, – сказала я доктору, который стоял у моей кровати, когда я проснулась. Мой язык был неповоротливым от эфира.
Доктор улыбнулся, и я попыталась улыбнуться в ответ, но онемение мышц начало проходить и щека стала ныть.
Десять дней спустя я была в больнице, снова надев свое лучшее платье, снова спрашивая себя, почему веду себя как глупая школьница. Мистер Барлоу настоял на том, чтобы отвезти меня.
– Вы поезжайте домой, – сказала я ему, когда он высадил меня. – Я после всего хочу пройтись. Такой прекрасный день!
– Ты уверена? Это долгий путь, – сказал он.
– Да, – сказала я и помахала ему рукой, когда он отъезжал.
Ожидая доктора Дювергера, я вытащила карандаш и небольшой блокнот для эскизов, которые всегда носила в своей сумочке, и продолжила работать над изображением бабочки Карнер Блю. Такие обитали в Пайн Буш и считались исчезающим видом, так что их было сложно найти. И все же мне удалось мельком увидеть одну из них прошлым летом; это была потрясающе красивая маленькая бабочка с крошечными крыльями.
Это был самец, потому что верхняя сторона его крыльев была лазурно-голубой. Я знала, что крылья самки темнее и с сероватым оттенком. Их жизни зависели от дикого люпина, также синего, с цветками как у гороха. Я поставила перед собой цель нарисовать Карнер Блю сидящей на диком люпине; бабочка и цветок имели разные и очень насыщенные оттенки синего, и у меня не получалось передать их правильно. Когда вошел доктор Дювергер, я положила блокнот и карандаш на стул возле себя.
– А сейчас, мисс О'Шиа, – сказал он, – посмотрим на результат.
Я кивнула, облизнув губы.
– Не волнуйтесь. Мне кажется, вы будете довольны.
Он осторожно снял марлевую повязку и наклонился ко мне, чтобы заняться швами. Я не знала, куда мне смотреть, ведь его лицо было совсем близко. Он надел очки, и я увидела в них свое отражение. Один раз он перевел взгляд с моей щеки на мои глаза, и я сразу же опустила их, смущенная тем, что он может подумать, будто я рассматривала его. Хотя куда еще можно смотреть, когда наши лица оказались так близко? На этот раз я не ощутила ни запаха дезинфицирующего средства, ни аромата табака, а только лишь слабый свежий запах его накрахмаленной рубашки с тугим воротником.
Внезапно я осознала, что он может быть женат, и попыталась посмотреть на его левую руку. Когда доктор Дювергер снимал швы, были слышны короткие резкие звуки и я ощущала легкое болезненное подергивание, заставляющее меня периодически вздрагивать. Всякий раз, когда я делала это, он неосознанно бормотал «pardon». Сняв последний шов, он снова сел и начал изучать мое лицо, взявшись пальцами за мой подбородок и поворачивая его то в одну, то в другую сторону. Его пальцы были сухими и теплыми. Теперь я могла увидеть, что он не носит обручального кольца. Какое мне было дело до этого?
— Oui. C'est bon[37] , – кивнув, сказал он, и я заметила, что он непроизвольно заговорил по-французски.
– Все хорошо? – переспросила я.
– Да, – ответил он и снова кивнул, глядя мне в глаза. – Все прошло успешно, мисс О'Шиа. Хороший успех. Он заживет со временем, уже через год станет совсем маленьким. И вы сможете маскировать его... – он заколебался, – пудрой или что там женщины накладывают на лицо. Посмотрите, – он протянул мне круглое зеркало.
– Спасибо вам большое, – сказала я, мельком взглянув на себя и возвратив зеркало доктору. – За операцию. И за... за то, что предложили ее. Вы были правы.
– Я рад, что вы согласились на нее, – сказал он, поднимаясь.
Я тоже встала, и мы посмотрели друг на друга. Он пристально смотрел на меня, не только на мою щеку, и его взгляд был глубоким. Это был всего лишь миг, но он был каким-то неловким, так что у меня вдруг свело желудок. Но это не был какой-то болезненный спазм, который я ожидала почувствовать, придя в больницу. Это было что-то совсем другое.
– Ну... – произнесла я, чтобы заполнить тишину, от которой нам обоим было неловко и тревожно.
Доктор Дювергер одновременно со мной произнес «Eh bien»[38] с той же интонацией. Мы оба улыбнулись, и затем доктор Дювергер сказал:
– Итак, хорошего дня, мадемуазель. Звоните, пожалуйста, если у вас возникнут вопросы, но мне кажется, что теперь все будет хорошо. – И почти сразу же повторил: – Но, пожалуйста, если у вас появятся вопросы... или станет больно... вы же позвоните, oui?
— Oui, – согласилась я.
Выйдя из больницы, я пошла домой пешком, радуясь теплому утреннему солнышку и размышляя о впечатлении, произведенном на меня доктором. Я пыталась объяснить свои ощущения, когда стояла так близко от него в шумной больнице. Я не испытывала подобных чувств с... Я остановилась. Испытывала ли я когда-нибудь подобные чувства? В юности я иногда думала о Люке МакКаллистере. Но я тогда была молоденькой и глупенькой девчушкой, а не женщиной, живущей тихой настоящей жизнью, в которой не было места причудливым грезам.
Я все это придумала. Доктор Дювергер смотрел на меня ни на секунду дольше, чем это было необходимо, и не испытывал такого странного чувства неловкости, как я.
Я все выдумала.
На следующий день я открыла дверь, чтобы выпустить Синнабар, и увидела автомобиль, медленно подъезжающий к моему дому. Он остановился, и оттуда вышел доктор Дювергер.
Это было так неожиданно, что у меня не было времени осознать, что я почувствовала. Пока он шел по направлению к дому, я заметила в его руках мой блокнот для эскизов.
– Вы оставили это, – заговорил он, подойдя к крыльцу. – Я посмотрел ваш адрес в карточке и сообразил, что буду неподалеку – мне надо было навестить своего пациента, – поэтому подумал, что могу вернуть это вам. – Он протянул мне блокнот.
– Спасибо вам огромное, – сказала я, беря блокнот. – Да, я искала его этим утром. И не могла вспомнить, где же оставила его... Там есть особый рисунок, над которым я трудилась, но не могла добиться желаемого результата и... – Я говорила слишком быстро, сбивчиво. – Что ж, спасибо вам, – повторила я. – Это было более чем любезно с вашей стороны – завернуть сюда, чтобы возвратить мне блокнот.
– Я посмотрел ваши работы, – признался он, неожиданно опустив глаза. Синнабар вилась вокруг его ног. Потом он снова посмотрел на меня. – Они хорошие. Работы.
– Спасибо. Но это просто наброски, – сказала я, смущенная и в то же время польщенная мыслью, что он пролистал блокнот.
– Но вам это нравится... – Он замолчал. – Мой английский... – с досадой произнес он и облизнул губы. – Рисовать. Та... та... талант рисовать очевиден.
– Спасибо, – сказала я, понимая всю нелепость повторения слова «спасибо» снова и снова.
Мой мозг напрягся, подыскивая другие слова. Если бы он говорил о моем лице, я бы чувствовала себя более непринужденно. Но он говорил о другом, и я все больше и больше волновалась и, смущаясь, теребила корешок блокнота для эскизов.
– Может быть, вы зайдете на чашечку кофе? – спросила я, когда уже не могла молчать.
Как только эти слова слетели с моих губ, я захотела забрать их обратно. Что я делаю? Я почувствую себя еще более неловко, когда он начнет искать причины, чтобы вежливо отказаться. Или... если он не откажется.
– Да. Я бы хотел выпить le cafe. Merci, – ответил он, потом помог мне открыть дверь, и мы вошли внутрь.
После того как он уехал, я села на крыльце и уставилась на улицу. Мне было двадцать девять лет, и первый раз в жизни я находилась в своем доме одна наедине с мужчиной, который не был моим отцом или соседом. Когда доктор Дювергер прошел за мной через гостиную в кухню, мое сердце бешено стучало и в горле пересохло. Но как только он сел за стол и я занялась приготовлением кофе, то поняла, что сегодня что-то изменилось в докторе Дювергере. Мне потребовалось всего лишь несколько секунд, чтобы понять, что в больнице – в том месте, которому он, казалось, принадлежал – он был невозмутимым профессионалом, на моем же крыльце и в кухне он чувствовал себя немного не в своей тарелке, его английский язык стал неуверенным, а лицо – более выразительным. Будучи доктором, с этими его карточками и стетоскопом, он был сдержан. Но вне стен больницы он показался мне каким-то незащищенным, как будто он был так же неуверен в себе, как и я, когда покидала свое безопасное жилище на Юнипер-роуд. И увидев это, я почувствовала что-то неведомое мне раньше, во мне проснулось доверие.
Он доктор, но он также всего лишь мужчина, говорила я себе.
Он продолжал расспрашивать меня об эскизах в моем блокноте, с трудом подбирая некоторые слова, и тогда я сказала, что он может перейти на французский, если хочет.
– Он очень отличается от того французского, на котором говорила моя мама, – сказала я ему, – да и я не говорила на нем с тех пор, как она умерла, а это случилось шесть лет назад, поэтому я буду отвечать на английском, но я люблю слушать французскую речь.
Он улыбнулся и кивнул, а потом глотнул кофе.
– Спасибо, – сказал он по-французски. – Несмотря на то что я говорю на английском каждый день и обычно это не вызывает у меня трудностей, иногда... при некоторых обстоятельствах... он мне не дается.
Это небольшое признание придало мне уверенности. Неужели я заставила его нервничать, так же как и он меня, а если да, то почему?
Мы немного поговорили о моих рисунках. Я спросила, из какой местности Франции он родом, и он рассказал мне, что изучал медицину в Париже.
Он также сказал, что живет в Америке уже больше пяти лет. Через полчаса и после двух чашек черного кофе он поднялся.
– Спасибо за кофе, – сказал он.
Я проводила его до двери. Он открыл ее и на секунду остановился, глядя на меня. Внезапно мне стало трудно дышать.
– Я рад, что вы решились на операцию, – наконец сказал он. – Теперь вы снова будете красивы.
Прежде чем я смогла ответить, он вышел в сгустившиеся сумерки. Открыв дверь машины, он оглянулся на меня.
– Может быть, как-нибудь еще раз выпьем кофе, – крикнул он, и я не могла определить по его голосу, был это вопрос или утверждение, поэтому только молча кивнула.
Позже я спрашивала себя, почему не улыбнулась весело и не сказала: «Да, конечно», будто меня частенько приглашают выпить кофе французские доктора.
Я видела свет фар, пока он не свернул с Юнипер-роуд, а потом уселась на верхнюю ступеньку крыльца и сидела там до самой темноты.
Красивая, сказал он. «Теперь вы снова будете красивой». Я пыталась вспомнить выражение его лица, когда он произносил это, но не могла в точности воспроизвести его, а может быть, просто не могла правильно истолковать.
Конечно же, это говорил доктор (не мужчина, а доктор), довольный тем, как поработал над лицом пациента. Конечно же, я никогда не была красивой.
Я зашла в дом, включила свет над зеркалом в ванной и посмотрела на свое отражение, затем провела рукой по розовому, уже более тонкому шраму.
Он из вежливости сказал: «Может быть, выпьем кофе еще раз», зная, что мы никогда не сделаем этого? Или он действительно хотел этого?
Я выключила свет, и теперь в зеркале отражался лишь нечеткий овал моего лица.
Я понятия не имела, как истолковывать слова и действия мужчин.
В последующие четыре дня меня не покидало чувство тревоги. Я не хотела идти в магазин, боясь, что доктор Дювергер придет, когда меня не будет дома. Каждый день я надевала одно из двух моих лучших платьев – либо зеленое шелковое, либо темно-фиолетовое, подчеркивающее мою талию, – и периодически проверяла, тщательно ли причесаны мои волосы сзади. Я застелила стол в гостиной красивой ажурной скатертью. Испекла ароматный пирог. Я постоянно подходила к окну, потому что мне казалось, что слышу хлопанье дверцы машины, шаги у крыльца.
К пятому дню моя глупость уже начала раздражать меня – конечно же, доктор Дювергер ничего такого не имел в виду, когда говорил, что был бы не против выпить кофе еще раз, – и я разрезала пирог на кусочки и выбросила его птицам. Я убрала скатерть со стола, аккуратно свернула ее, четко по линиям изгиба, и положила назад в шкаф с бельем.
Я надела свой халат, выпачканный на коленях, поверх старой рубашки моего отца и закатала рукава. Потом небрежно заплела волосы в косу, вышла на задний двор и окинула взглядом сорняки; из-за жаркой погоды все росло очень быстро. Из-за того что я не занималась садом последние несколько недель, здесь царил полнейший беспорядок. Я вырвала сорняки – и чертополох, и вьюнок. Солнце обжигало мои голые руки, возиться с землей было приятно. Я была зла на доктора Дювергера, словно ему могло быть действительно интересно прийти сюда снова, а также на саму себя за то, что понапрасну потратила четыре дня на какие-то фантазии.
Я тряхнула головой, чтобы отогнать эти мысли, и попыталась представить нежные крылья Карнер Блю. Нужно попросить мистера Барлоу как-нибудь отвезти меня в Пайн Буш, желательно в ближайшее время. Необходимо купить еще бледно-желтую краску.
На этом я оборвала свои мысли и наклонилась за тяпкой; я вдруг осознала, что думала о вещах, никак не связанных со смертью моего отца. Хотя ничего не изменилось, но на короткий промежуток времени переполняющая меня печаль немного вытеснилась.
Я снова вернулась к прополке сорняков.
– Я постучал, но никто не ответил.
Я подскочила на месте, обернулась и увидела доктора Дювергера, стоявшего в углу сада. Он говорил по-французски.
– Простите, что напугал вас, мадемуазель О'Шиа. Как я уже сказал, я постучал... потом услышал свист.
– Свист? – Я хотела ответить ему по-французски, но не сделала этого. Я была уверена, что мой французский язык из-за отсутствия практики сильно отличается от его. Он не был таким современным.
– Мне показалось, что это Григ. Песня Сольвейг, разве нет?
Я даже не замечала, что насвистываю эту мелодию. Я не делала этого после папиной смерти.
– Мадемуазель О'Шиа, я, кажется, потревожил вас.
– Нет-нет, доктор Дювергер. Я только... – Я опустила рукава, увидев грязь на руке. – Я не ждала вас. – Всего лишь несколько минут назад я была зла на него, но теперь он был здесь, и я была рада. Взволнована.
– Я знаю, это невежливо – взять и зайти без предупреждения. У меня было несколько дополнительных смен на этой неделе, но сегодня неожиданно выдалось свободное время. Я позвонил вашему соседу, чтобы попросить пригласить вас к телефону, но никто не взял трубку. Поэтому я решил попытаться...
Я нервно сглотнула, вспомнив о своих спутавшихся волосах и бесформенном халате, и вытерла лоб тыльной стороной кисти: он вспотел от жары. Доктор Дювергер отлично выглядел, на нем была накрахмаленная рубашка под светлым льняным пиджаком.
– Конечно же, все в порядке, да. Но я должна вымыть руки и переодеться, – сказала я.
Он показал на два старых стула адирондак[39], стоявших в тени под раскидистыми ветвями липы.
– В этом нет необходимости. Мы можем посидеть здесь. Пожалуйста, оставайтесь как есть. Вы выглядите очень... – он наклонил голову набок, – расслабленной. Очень расслабленной и, если позволите, это очаровательно. В отличие от прошлого раза, когда я приходил. Тогда вы были менее радостной. О, – добавил он, – я слишком навязчив? Я, похоже, смутил вас.
Я слегка улыбнулась, помня о скованности своей щеки. Снова я попыталась вести себя так, как будто мужчины регулярно заходят в мой сад и называют меня очаровательной, как будто вот так улыбаться для меня естественно.
– Я же говорю, вы просто застали меня врасплох. Я... Я не ждала... – Я умолкла, понимая, что повторяюсь.
– Тогда пройдемте, – предложил он, махнув рукой в сторону стульев. – Я зашел всего на несколько минут. Погода такая славная, и мне приятно находиться вне стен больницы, даже если это всего лишь ненадолго.
Я опустилась на край одного из стульев, а он сел напротив меня.
– Вы не возражаете, если я сниму пиджак? – спросил он.
– Нет. И сегодня действительно славный денек, – сказала я, усаживаясь удобнее.
Синнабар оторвалась от поиска насекомых в траве и довольно тяжело прыгнула мне на колени.
– Как зовут вашего кота? – спросил он, вешая пиджак на спинку стула. Я обратила внимание на то, что его плечи без пиджака кажутся шире.
– Синнабар, – ответила я. – Она глухая, – добавила я без всякой необходимости.
– Хорошее имя, – улыбнувшись, сказал доктор Дювергер; я кивнула и опустила лицо в шерсть Синнабар, чтобы он не смог увидеть, как подействовала на меня его улыбка.
Глава 11
Мир изменился. Я стала другим человеком. Прошел месяц, и я поняла, что влюбилась в Этьена Дювергера.
Он приходил ко мне дважды в неделю. День и час зависели от графика работы в больнице, и если не возникало никаких непредвиденных ситуаций, он приезжал в условленное время.
Первые две недели мы сидели на заднем дворе, или на крыльце, или в гостиной, или в кухне и разговаривали. В последующие две недели мы дважды ужинали в Олбани и один раз ходили на спектакль.
Он всегда уходил из моего дома до десяти часов; лишь после своего четвертого визита он перед уходом взял мою руку и прикоснулся к ней губами. А в конце того первого месяца, когда мы стояли на крыльце, он обнял меня и поцеловал.
По выражению его лица и тому, что он потянулся ко мне, когда мы прощались, я поняла, что это сейчас случится, и задрожала от возбуждения и тревоги. Меня поцеловали первый раз в жизни, я была смущена, но не хотела, чтобы он заметил это. Меня ошеломило соприкосновение наших губ и тел, и я задрожала сильнее.
После поцелуя он просто обнял меня.
– Все хорошо, Сидония, – сказал он, и я склонила голову ему на грудь.
Я слышала, как билось его сердце, спокойно и размеренно, в то время как мое трепетало, словно лепестки на ветру.
– Все хорошо, – повторил он, прижимая меня к себе еще крепче, и тогда я поняла: он наверняка подозревал, что у меня нет опыта в отношениях между мужчиной и женщиной.
Но этот поцелуй разбудил мое тело. Я осознала, что оно спало все эти годы; я ввергла его в зимнюю спячку сначала своими подростковыми молитвами о выздоровлении, а потом, позже, мне было проще жить с обетом безбрачия, не задавая себе лишних вопросов.
После того как он ушел той ночью, когда поцеловал меня, я села в темноте на свою кровать и вернулась мысленно в тот миг. Я хотела продлить это чудесное чувство, однако же беспокойство не оставляло меня.
Доктор Дювергер был красивым мужчиной. Он был умен и обладал чувством юмора. Он сделал замечательную карьеру и жил по своим принципам.
Я не понимала, почему ему хотелось проводить время со мной. С той, у кого были непослушные волосы, темные глаза и немного смуглая кожа. С той, которая хромала и носила ботинки на специальной платформе, у которой был неизгладимый, хоть теперь и менее заметный шрам на лице. С той, чья жизнь была тихой и незаметной и которая имела так мало опыта во многих сферах.
Конечно, я многое узнавала из газет и книг, а также слушая каждое утро новости по радио. Но что касается настоящей жизни... я пыталась скрыть, насколько мало знала об этом мире – мире за пределами Юнипер-роуд и Олбани, – вынуждая Этьена говорить о себе. С этой целью я задавала ему бесконечные вопросы и сохраняла полное молчание, когда он на них отвечал. У него было необычное происхождение. Несмотря на то что он родился в Париже и получил там медицинское образование, как выяснилось, юные годы он провел со своей семьей в Марокко, в городе Марракеш. Когда он произнес «Марокко», я попыталась мысленно воспроизвести страницу из географического атласа, но так и не смогла. Мне было неловко, что я даже понятия не имела, где это находится. Единственное, что приходило на ум при слове «Марокко», – это прекрасная кожаная обложка дорогой книги. Что касается Марракеша, я даже не могла представить, как пишется это слово.
– Как это? – удивилась я, когда он первый раз рассказал мне о Марокко. – Почему твои родители жили там?
По его просьбе я теперь разговаривала с ним по-французски. Мой канадский французский был провинциальным и слишком примитивным, даже в части разговорной речи. Поэтому с самого начала я попыталась копировать его парижский французский. Он заметил это, улыбнулся и сказал, что находит это трогательным.
– Французский протекторат. Французы возглавили правительство Марокко в начале века, и значительное число людей переехало туда из Франции. Мой отец был врачом, он бывал в Марокко, помогал создавать там клиники. Он рассказывал мне, что североафриканская медицина основывалась на магии и отвергала традиционную науку. – Этьен улыбнулся. – Но каким-то образом марокканцы справлялись до приезда французов.
Я улыбнулась в ответ и подняла руку, чтобы прикрыть щеку. Это стало моей неосознанной привычкой еще до операции, и теперь Этьен время от времени напоминал мне, что я все еще не избавилась от нее.
– Тебе не стоит делать так, Сидония, – сказал он как-то раз. – Пожалуйста, – добавил он. – Уверяю тебя, в этом нет никакой необходимости. Ты красивая. – Он помолчал. – Ты обладаешь меланхоличной красотой, – сказал он, отстраняя мою руку, – и она делает тебя немного опасной. Как будто ты прожила интригующую жизнь.
Интригующую жизнь. У меня не было никаких интриг в жизни. Ни опасностей, ни риска. Я познала глубокую печаль и ни разу не испытала головокружительной радости. Я засмеялась.
– Этьен, ты описываешь вовсе не мою жизнь. Пожалуйста, продолжай, расскажи еще о Марокко.
Он кивнул, не убирая своей руки.
– Ты хороший слушатель, Сидония. Ты так пристально смотришь на меня, твое лицо такое безмятежное. Я думаю... Мне кажется, что ты привыкла вслушиваться в тишину, окружающую тебя.
Я кивнула.
– Именно поэтому я люблю выезжать на болото – я рассказывала тебе о нем, это Пайн Буш. Поэтому люблю работать в саду и рисовать. Или сидеть на крыльце поздней ночью, когда улица засыпает. В тишине лучше думается.
Он улыбнулся.
– В Марракеше не бывает тишины.
– Что ты имеешь в виду?
– Этот город настолько наполнен красками, звуками и движением, что все это сливается воедино. Я жил в постоянном шуме, и он действовал на меня успокаивающе, так что тишина не для меня. И солнце... – Он посмотрел в окно; мы сидели в гостиной. Этьен пил бурбон, который принес с собой, а я – лимонад. – Солнце там не такое, как здесь. Даже воздух другой. Моя первая зима в Америке... – Он передернул плечами. – Конечно, я провел много зим в Париже, но здесь воздух бывает таким разреженным, что тяжело дышать. Запах снега напоминает запах металла. Как привкус крови во рту. Но небо Марракеша, солнце... – Его лицо оживилось, а щеки разрумянились.
– Когда ты был там последний раз?
Он изменился в лице и не ответил на мой вопрос, затем вернулся к нашему предыдущему разговору.
– Как только Франция упрочила свое положение в Марракеше, мой отец получил туда назначение, и мы, конечно же, переехали в эту страну всей семьей. Я был молодым парнем. Мой отец лечил только французов – марокканцы привыкли лечиться по-своему. Особенно женщины в гаремах.
– Неужели в них действительно сотни красивых женщин? В этих гаремах? – спросила я, стараясь не выказать, насколько поражена необычностью жизни этого человека и тем, что он говорил об этом со мной.
Этьен поднял брови и снова улыбнулся. Когда он рассказывал о своей жизни в Марокко, его лицо светилось, голос звенел, и я понимала, что он очень полюбил эту страну, которая в юности была его домом.
– В основном западное представление о гареме основывается на нереалистичных романах и картинах. В Марокко гаремы – это просто помещения для женщин в доме. Слово «гарем» происходит от арабского слова «харам», – пояснил он, – которое означает «постыдный» или «греховный». Но на самом деле там ничего такого не происходит. Ни одному мужчине не разрешается заходить на женскую половину, кроме мужей и сыновей, братьев и отцов.
– Значит... они не видят мужчин помимо родственников по крови и мужей?
Он кивнул.
– Женам из высших кругов общества не разрешается даже покидать свои дома, и это еще не все. У них тяжелая жизнь; в зависимости от своего благосостояния мужчина может иметь до четырех жен. Это мусульманская традиция.
Должно быть, мое лицо выражало удивление.
– Нам сложно это понять, я знаю. Мой отец говорил, что женщины иногда, отчаявшись, обращались к черной магии, как мы это называем; они просто пытались отстоять свои интересы, каким-то образом влиять на поведение их мужчин и на свой статус среди других жен.
– Что ты имеешь в виду, говоря «черная магия»? Что они делали?
Он посмотрел на свой стакан.
– В моем понимании это пережитки прошлого, – уже без воодушевления сказал он, снова глядя на меня. – Они верят в мистику и либо пытаются привлечь потустороннюю силу в корыстных целях, либо хотят избавиться от злых чар, насланных другими. – Теперь он говорил почти равнодушно. – Они готовят зелья, которые, как они верят, помогут в определенных ситуациях или навредят: рождение ребенка, болезнь, любовь, даже смерть. Иногда таким образом они защищаются от злых духов, которые, как они думают, обитают повсюду. Невежество и религиозные предрассудки очень влияют на их жизнь. – Его голос зазвучал более твердо. – Они даже опасны друг для друга, хотя они также... – Он умолк.
Этьен осушил свой стакан, после чего я сказала:
– Конечно.
Как будто мне было знакомо то, о чем он говорил. На самом же деле все, что я знала о Марокко к тому времени, – это что страна расположена на севере Африки, как я успела посмотреть в своем атласе. Еще в книге по истории я нашла немного информации о завоевании Марокко французами в 1912 году. Несмотря на то что чаще всего Этьен радостно и откровенно описывал свою жизнь там, временами я улавливала неуверенность в его голосе, будто бы он отсеивал некоторые воспоминания и выбирал только те, которыми считал возможным поделиться. Словно было что-то, о чем он избегал говорить.
– Итак, мужчины держат жен взаперти, – продолжил он, снова наливая себе в стакан бурбона, – тем не менее для них абсолютно нормально иметь еще и любовниц – чикхас,если они могут себе это позволить, – сказал он уже нетерпеливо. – Это страна парадоксов, где духовность доходит до крайности, и все же там есть чувственность, которая противостоит всему этому.
– Ты планируешь снова вернуться туда в ближайшее время? Твоя семья все еще там?
– Нет-нет, – отозвался он, и я не знала, был это ответ на один или на оба вопроса. – Теперь там никого не осталось. Это место печали: родители и мой брат Гийом похоронены там. Они все умерли в течение трех лет. Один, другой, третий, – сказал он и некоторое время молчал.
– Гийом... он был твоим единственным братом?
– Он был младше меня на три года. Мы не были похожи; он был... – Он смолк, затем продолжил: – Он утонул в Эс-Сувейре на побережье Марокко. Это было ужасное время. После этого мама сразу постарела.
Я вспомнила лицо моей мамы, наклонившейся надо мной, когда меня сразил полиомиелит. Лицо отца, стоящего у окна, его полнейшую беспомощность.
– А мой отец через некоторое время сильно заболел. Родителей всегда меняет смерть их ребенка, не важно, в каком возрасте тот умер, не правда ли? Это неестественный порядок вещей.
Повисло молчание; я знала, что он не закончил, поэтому тихо сидела и ждала.
– Я прожил с этим горем несколько лет, – продолжил он. – Я мало времени проводил с ним – с Гийомом. Он тянулся ко мне, а я... – Он снова замолчал, а затем заговорил громко, равнодушным тоном, словно хотел закончить этот разговор как можно скорее.
– Через год после смерти Гийома умерла моя мама, а еще через год – отец. Нет, – сказал он в завершение, – не осталось больше ничего – и никого – у меня в Марракеше. Ничего, кроме грустных воспоминаний. Ничто не заставит меня вернуться туда.
Я почувствовала, что лучше не задавать ему вопросов; голос Этьена стал глухим и безжизненным, а лицо помрачнело. Но обычно я была очарована, слушая о практически незнакомом мне мире, и каждый раз, когда Этьен был в настроении, у меня возникало все больше вопросов.
Когда Этьен первый раз спросил меня, чьи рисунки растений и птиц на стенах моего дома, – это было, когда он пришел навестить меня вскоре после нашего первого поцелуя, – я призналась, немного нервничая, что да, они были моими.
– После того как я увидел твои наброски в блокноте, мне, естественно, стало интересно, нарисовала ли ты и это тоже. Это прекрасно выполненные работы.
– Это всего лишь хобби, – отозвалась я.
– Можешь показать другие свои работы?
Я поднялась со стула, и он последовал за мной в студию – бывшую спальню моих родителей. Мой взгляд упал на двуспальную кровать возле стены. На столе лежал незаконченный рисунок; я днем раньше начала таки работать над бабочкой Карнер Блю, и она была прикреплена к мольберту, стоящему возле окна. Он подошел к нему и наклонился ближе, изучая.
– Ты не рисуешь ничего другого, кроме природы?
– Я рисую то, то вижу вокруг себя. В лесах, на прудах и болотах, – ответила я.
– Конечно же, это все очень мило. – Он слегка погладил мой лоб указательным и средним пальцами. Мне захотелось потянуться головой к его пальцам, захотелось, чтобы он продолжал прикасаться ко мне. – Я думаю, что здесь много чего есть, – сказал он, сильнее надавливая на мой лоб. – Ты же понимаешь, что я имею в виду, правда? Ты видишь другие вещи. Здесь.
Я закрыла глаза в надежде, что он не будет убирать пальцы с моего лба.
– Да. Но... эти растения и птицы – это то, что я всегда рисовала. – Я взяла его руку и медленно поднесла к шраму на щеке, но не смогла открыть глаза: я сама удивилась своей смелости.
– Почему ты не рисуешь то, что воображаешь? – тихо спросил он, но у меня не было ответа.
Мы стояли так некоторое время – моя рука поверх его на моей щеке, а потом он обнял меня другой рукой и привлек к себе.
– Разве этого достаточно? – прошептал он мне на ухо. – Для женщины вроде тебя, женщины с диким сердцем, живущей так обособленно и рисующей только то, что перед ней?
Неужели он видел меня такой? Женщиной с диким сердцем?
Наверное, именно в тот миг я влюбилась в него.
Мне захотелось, чтобы он поцеловал меня снова, но он не сделал этого. Все еще обнимая меня одной рукой, он поднял сделанную мной копию «Пушистого дятла на черном дубе».
– Я всегда увлекался наукой, – продолжил он, – и мало что знаю об искусстве. Но я всегда ценил красоту. – Он отпустил меня и подошел с картиной ближе к окну. – Потому что в центре красоты находится Тайна, – добавил он.








