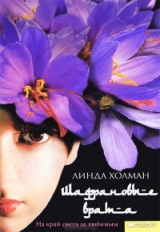
Текст книги "Шафрановые врата"
Автор книги: Линда Холман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Сглотнув, я сделала как она просила, и как только я оказалась рядом с ней, она взяла мою руку.
– Такая маленькая! – сказала она, поглаживая тыльную сторону кисти. – Эти руки говорят мне, что ты работала, но не очень тяжело, так, Сидония?
Я отметила, что она назвала меня по имени. Это прозвучало как-то по-дружески, как будто она была вправе так обращаться ко мне. А затем она схватила мою руку двумя своими руками и больно сжала мои пальцы. Я пыталась вырваться, но она не отпускала меня. Я была поражена ее силой и решила, что с ней надо быть осторожной.
– Я всегда работала, – отозвалась я, вспоминая о стирке, уборке в доме, приготовлении еды и работе в саду.
– Ты не работала так, как я. Работала не для того, чтобы выжить, – сказала она, и при других обстоятельствах я бы использовала слово «жеманство», чтобы описать, как она это сказала.
Я вспомнила, что Этьен рассказывал мне о своем детстве.
– Но... когда вы и братья были маленькими... Этьен всегда говорил, что вы вели жизнь привилегированного класса.
Она не ответила, и тогда я сказала:
– И у вас такой дом... Так жить... Конечно же, ваша жизнь не была такой уж трудной.
Она пощелкала языком, заставляя меня замолчать.
– У меня не всегда был такой роскошный дом, – сказала она.
Я была сбита с толку. Она провела своими пальцами по шишке на моем среднем пальце и затверделости на ладони, образовавшихся от многолетнего трения кисточки; правда, теперь затверделость смягчилась. Она продолжала поглаживать их.
– От чего это? – спросила она.
– От кисточки, – сказала я.
Она покачала головой, все еще улыбаясь своей ужасной улыбкой.
– Это становится все более интересным.
– Что? Что вы имеете в виду?
После продолжительного молчания она сказала:
– Ты же видела мои картины.
Прошло какое-то время, прежде чем я смогла осознать произнесенное ею.
– В доме? Те... это вы их написали? – Мой голос повысился на полтона.
– Ты мне не веришь? – лениво спросила она все с той же улыбкой.
– Нет. Я не о том; да, конечно, я вам верю. Просто... – У меня пропал голос.
Еще одна тайна. Этьен вырос с сестрой, которая рисовала, но никогда не упоминал об этом, когда смотрел на мои картины и говорил, что так мало знает об искусстве.
– Как вы научились рисовать? Это было во Франции? Вы у кого-то учились?
– Во Франции, Сидония? – Манон издала звук, лишь отдаленно напоминающий смех. – Во Франции? – повторила она: похоже, этот вопрос развеселил ее. – Ты думаешь, я училась во Франции?
– Но Этьен – он там изучал медицину. И Гийом... Да, я подумала, что и вы тоже...
И снова у меня пропал голос, когда я увидела выражение лица Манон. Теперь она уже не веселилась, она злилась.
– Конечно же я не училась во Франции.
Она явно считала меня идиоткой. Она вдруг снова улыбнулась. Я вздрогнула.
– А теперь расскажи мне о своих картинах.
– Пожалуйста. Можно не...
– Но я настаиваю. У нас приятная дружеская беседа. Ты рассказываешь мне то, что я хочу знать, а затем я расскажу тебе то, что хочешь знать ты.
Я прикусила щеку.
– Я рисую не так, как вы. Я рисую акварелью. Рисую растения. Птиц.
Во взгляде Манон мелькнуло что-то, что я не могла истолковать.
– Значит, Этьену нравилось, что его маленькая американская souris[69] рисует милые картинки? – В ее голосе слышалась насмешка.
Мне хотелось прикрикнуть на нее: «Я не мышь! Как ты смеешь?!» Вместо этого я сказала с максимальным спокойствием, на какое была способна в данной ситуации:
– Да, Этьену нравились мои картины. – Я больше не могла на нее злиться. Я знала, что она может внезапно замолчать и выгнать меня из дома.
– Он говорил тебе это? То, что ему нравилисьтвои картины? Ты думаешь, ему нравятся такие приземленные вещи? Как ты считаешь, что он думает о моих работах?
Я покачала головой.
– Я не знаю. И я не знаю, почему вы на меня злитесь. Я сделала вашего брата счастливым, мадам. Неужели вы не хотите, чтобы он был счастлив?
Продолжая удерживать мою руку и все еще пристально глядя мне в лицо, Манон открыла рот и приблизила свое лицо к моему настолько, что я на секунду подумала, что она меня поцелует. Я машинально отвернулась, чтобы уклониться от ее рта, и Манон прикоснулась губами к моему уху.
– Этьена больше нет, – прошептала она.
Возможно, это был не шепот, а я просто не смогла осознать сказанное.
Я развернулась, чтобы не ощущать ее дыхание на моей щеке.
– Что? Что вы только что сказали? Что вы имеете в виду?
Теперь я сидела спиной к Манон; она ослабила хватку, но полностью не отпустила мою руку, однако ее голос теперь звучал как обычно.
– Я сказала, что Этьена больше нет, Сидония. Нет в живых. Он похоронен на кладбище за Eglise des Saints Martyrs[70] .
Несмотря на некоторое расстояние между нами, я ощутила что-то кислое в ее дыхании, что-то, выходившее из ее глубин. Мне стало дурно. Я нервно сглотнула.
– Ты же это не серьезно, Манон? – Я машинально назвала ее по имени. Я быстро замотала головой, как будто этим движением могла очиститься от ее слов, и с силой вырвала свою руку.
– Это неправда. Это неправда, – повторяла я, тряся ею. – Скажи, что Этьен не умер!
Она кивнула, уже не улыбаясь, но все еще глядя на меня своими огромными накрашенными глазами. Я не могла отвести от них взгляда, не могла успокоить свое дыхание. Я дышала глубоко и часто; все вокруг начало быстро кружиться, а силуэт Манон уменьшился и закачался. Я пристально смотрела на нее, уже задыхаясь, а она просто сидела и кивала, не отводя от меня взгляда.
Глава 23
Не помню, как я нашла дорогу к отелю «Ла Пальмере». Чувствовала я себя неважно, а все улицы, базары и площадь я видела словно сквозь непроницаемую для цвета и звука дымку. Я приложила носовой платок к носу и рту, когда неслась по лабиринтам улиц медины. Сколько времени это заняло? Не заблудилась ли я? Помню, как меня подбрасывало на ухабах, когда ехала в такси, и вот наконец я, в целости и сохранности, оказалась в своей комнате. Я лежала на кровати, продолжая прижимать платок к лицу. «Он мертв,– крутилось у меня в голове снова и снова. – Этьен мертв. Он мертв».
Я поняла, что это конец всему; слова эхом отдавались в моей голове.
Мои глаза, горло и голова ужасно разболелись, когда я вспомнила о своем потерянном ребенке, осознала, что никогда больше не увижу Этьена. Какая-то сильная часть меня верила, что, если бы я нашла Этьена, он бы все еще хотел меня. Но если бы даже он не... я хотя бы знала, что он жив. И это само по себе было бы для меня утешением. Возможно, осмелилась подумать я, даже если бы он заставил меня уехать из Марракеша, то когда-нибудь я, открыв дверь своего дома в Олбани, – как это было в тот первый раз, когда он приехал на Юнипер-роуд, – увидела бы его сидящим в своей машине.
Я вспомнила его улыбку, вспомнила его пальцы, сжимающие мои. Больше никогда. Никогда...
Лежа на спине, обхватив себя руками, я осознала, что с моих губ слетело какое-то глухое непрошеное причитание. В комнате было темно и очень жарко. Доносился отдаленный гул Джемаа-эль-Фна.
Теперь стало больно в груди, мне было трудно дышать. Как умер Этьен? Звал ли он меня, когда умирал, или он умер так быстро, что не смог произнести ни слова?
Теперь я никогда не узнаю, почему он бросил меня. Я оживила в памяти те часы, когда не могла определить, лежа в постели в Марселе после визита врача: ехать ли мне в Марракеш или возвращаться домой? Но я приняла решение ехать сюда, чтобы попытаться найти ответы на некоторые вопросы.
И теперь я знала ответ. Не почему он оставил меня. Но этот ответ был ужасным и неожиданным.
Это было неправильно: сначала мой ребенок, а теперь Этьен.
Я пыталась успокоить дыхание, старалась прогнать страшные видения. Но внезапно паника охватила меня, и мое сердце стало биться так сильно, что мне казалось, оно вот-вот разорвется, и это еще больше пугало меня. Я поднялась и села, задыхаясь от жары. Был ли это сердечный приступ? Умру ли я здесь, как Этьен?
«Ты не умираешь, Сидония. Ты не умираешь. Прекрати это».
Я хотела подойти к открытому окну и высунуться наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха: в комнате было нечем дышать. Но даже такая незначительная задача, как пройти через комнату, оказалась для меня невыполнимой. Я снова легла, прижав руки к тому месту на груди, где ощущалась сильная боль.
Я снова подумала о своем так и не родившемся ребенке, о том, как бы он выглядел, как бы чувствовал себя у меня на руках. Неожиданно передо мной возникло лицо Баду. Я видела, что он смирился с жестокостью матери, принял ту, которую дала ему судьба; я вспомнила, как его маленькая теплая ручка так доверчиво взяла мою. Я лежала с закрытыми глазами, едва дыша, и в конце концов снова села. Я, разорвав платье на груди, стащила его с себя, потом сняла комбинацию и нижнее белье. Я расшнуровала ботинки и сбросила их на пол с громким стуком, затем стянула чулки. Затаив дыхание от новой боли, я заметила, что мои чулки порваны на коленях и к ним прилипла засохшая кровь. Я понятия не имела, откуда она взялась.
Голая, я упала спиной на кровать и снова зарыдала, не заботясь, что кто-нибудь, проходя по просторному, пышно убранному холлу, услышит меня.
Я даже не думала, что смогу заснуть, но очнулась, когда утренние лучи солнца, упав на мое лицо, разбудили меня. Я полежала еще несколько секунд, часто моргая от яркого света, прежде чем воспоминания происшедшего накануне не вернулись ко мне с новой силой.
– Этьен мертв, – сказала я громко. – Этьен мертв.
«Мертв!» – стучало у меня в голове. Я откинула покрывало и посмотрела на свое тело. Никогда раньше я не спала без ночной рубашки, даже с Этьеном.
Я вспомнила о своей истерике вчера вечером. Действительно ли у меня была такая сильная боль в груди, что я думала, будто мое сердце разорвется, из него хлынет кровь и я мгновенно умру? «Какая глупая!» – подумал бы обо мне Этьен.
Этьен, всегда такой спокойный и уверенный... Я не могла представить его другим. Даже когда у нас был тот ужасный разговор, когда я сказала ему о ребенке; он запинался, говоря на своем английском, и казался чужим, он не полностью утратил самообладание. Но потом я вспомнила тот единственный момент, в машине, когда лицо выдало его и я увидела Этьена таким неуверенным и напуганным.
Под оболочкой непогрешимости скрывалось что-то хрупкое и незнакомое. Что он скрывал? Какая-то часть его была незащищенной, но почему он боялся показать это, отстраняясь?
Я пролежала в постели целый день, наблюдая, как солнечные пятна передвигаются по комнате. Я даже не умылась, не ела, не пила. Один раз кто-то постучал в дверь, и я громко потребовала не беспокоить меня. Я наблюдала, как тени удлиняются и превращаются в темноту.
Когда солнце снова стало светить в окно, я вдруг почувствовала сильную жажду. Мне захотелось свежего апельсинового сока. Взяв свою белую комбинацию, которая лежала на кровати рядом со мной, я натянула ее на себя. Когда я поднялась с кровати, мои колени пронзила боль; я посмотрела на них и смутно вспомнила, что на них была кровь, когда я раздевалась. Сейчас ранки покрылись свежей коркой, а вокруг темнели засохшие кровоподтеки. Я дернула за шнур звонка, чтобы позвать кого-нибудь из персонала.
Через несколько секунд послышался тихий стук в дверь. Накинув на плечи покрывало, я открыла дверь, чтобы попросить мальчика принести мне кувшин апельсинового сока. Но это был не один из мальчиков, работающих в отеле. Это был мсье Генри.
– Мадемуазель, – начал он. Впервые я видела его таким обеспокоенным. – Я думаю, это какое-то недоразумение.
– Что случилось?
– Внизу. В вестибюле, – сказал он и замялся, словно не зная, как продолжить.
– Да-да, мсье Генри. Пожалуйста. Я очень устала и хочу побыстрее вернуться в постель.
– Там мужчина, – сказал он. – Мужчина, который говорит, что знает вас.
Я почувствовала, что у меня отнимаются ноги. Это, должно быть, ошибка или чья-то жестокая выходка. Этьен не мертв. Он жив и ожидает меня в холле.
– Мсье Дювергер? – выкрикнула я, положив одну руку мсье Генри на плечо.
Он слегка повел головой, и я поняла, что оскорбила его своим прикосновением. Я убрала руку.
– Извините, – сказала я, – но это он? Это Этьен Дювергер?
Теперь мсье Генри чуть вскинул подбородок – при этом создалось впечатление, что кончик его носа тоже приподнялся.
– Я заверяю вас, мадемуазель О'Шиа, что это не мсье Дювергер. Этот мужчина... он араб, мадемуазель. Араб, и с ним ребенок.
Я заморгала.
– Араб?
– Да. У него имя как у живущих в Сахаре. Я не помню. И еще, мадемуазель, я заверил его, что у нас, в «Ла Пальмере», не принято, чтобы неевропейцы одни поднимались в номер. Он настоял, чтобы я переговорил с вами. Он был... – Он замолчал. – Он был довольно грозен в своей настойчивости. И кажется, мадемуазель, – он наклонился ближе, и я услышала цветочный запах, возможно, жасмина, – он принес вам что-то. Еду. – Он шагнул назад. – Это совершенно недопустимо. Я сказал ему, что если бы вы были голодны, то сделали бы заказ из нашего огромного меню. Но он стал там – и стоит до сих пор, я уверен, пока мы разговариваем с вами, – с подносом и ребенком. Ребенок держит куски жирного пирога, подвешенные на сплетенных стеблях травы. Боюсь, от еды распространяется неприятный запах в холле. И хотя, к счастью, в это время дня там немного наших гостей, я очень хочу, чтобы этот мужчина и ребенок ушли.
– Вы можете направить их сюда, мсье Генри, – сказала я; его глаза округлились, затем он обратил внимание на мой вид и наброшенное покрывало.
Я знала, что моя голая коленка, покрытая коркой, была видна из-под покрывала, но это меня не волновало.
– Вы уверены, мадемуазель? Безопасность наших гостей превыше всего...
И снова я его перебила:
– Да. Но я тоже гость. И могу заверить вас, что нет абсолютно никакой причины для беспокойства. Пожалуйста, позвольте им подняться в мою комнату. А также прикажите принести кувшин апельсинового сока. – Я говорила не своим голосом. Он принадлежал кому-то другому, тому, с кем шутки были плохи.
Мсье Генри сжал губы.
– Как хотите, мадемуазель, – сказал он, а затем, не попрощавшись, чем нарушил правила этикета, повернулся и пошел по коридору; его спина была прямой, как если бы ему в хребет вставили стальной прут.
Я подняла с пола платье, где оно лежало бесформенной массой, и надела его. Затем сунула свои босые ноги в ботинки, оставив их расстегнутыми, но сил попытаться расчесать волосы у меня не было.
Через минуту снова послышался стук в дверь. Я открыла Ажулаю и Баду. Как и говорил мне мсье Генри, в руках у Ажулая было таджине,тогда как Баду держал длинную связку полудюжины ароматных, посыпанных сахаром бенье.
– Ажулай. И Баду, – сказала я, как будто они не знали своих собственных имен. – Что... почему вы пришли?
Ажулай рассматривал меня, держа таджинев одной руке. Я прекрасно отдавала себе отчет, как выгляжу: покрасневшие опухшие глаза, волосы спутаны. Я убрала со щеки прядь, влажную от пота.
– Мы принесли вам бенье,Сидония, – сказал Баду. – Но что с вашими глазами? Они... – Ажулай положил свободную руку мальчику на голову, и ребенок сразу же умолк.
– Я подумал, может быть... – сказал Ажулай, а затем замолчал, словно не знал, как продолжить. – Вчера Баду говорил мне... он сказал, что за день до этого вы что-то выкрикнули и упали на землю. Он подошел к вам, но вы только смотрели на него и ничего не говорили. Потом вы встали и... он сказал, что вы были не в состоянии нормально идти и снова упали, но потом все же ушли со двора. Я знаю, что тогда Манон очень огорчила вас. Я прошу прощения за то, что ей пришлось вам это сказать. По поводу Этьена, – добавил он. – К сожалению, Манон не всегда говорит или поступает наилучшим образом.
Повисла тишина. Я что-то выкрикнула и упала? Теперь я поняла, что случилось с моими коленками. Наконец я посмотрела на таджинеи сказала:
– Спасибо вам. Но... я думаю, мне лучше побыть одной. Спасибо вам, Ажулай, – повторила я. – И тебе спасибо, Баду.
Ажулай кивнул. Его рука все еще лежала на голове Баду. Он убрал ее и поставил таджинена пол у двери. От него исходил приятный запах – ягненок с абрикосами, розмарин.
– Ну же, Баду, отдай мадемуазель О'Шиа бенье,и мы уйдем.
Я взяла один из маленьких пончиков, которые Баду молча протянул мне. Его маленькая ручка держала длинную связку; я знала, он хотел поделиться этим угощением со мной. Даже за то короткое время, что я была в Марокко, я поняла, насколько гостеприимны эти люди. Какой же невежливой – не имело значения, что у меня на душе, тем более для маленького ребенка – я должна была им казаться!
Мне хотелось одного: лечь в постель, укутаться покрывалом и остаться наедине со своими мыслями.
– Подождите, – сказала я, когда Баду отпустил связку пончиков, и оба мои гостя повернулись. – Нет-нет. Конечно же, вы должны остаться и поесть со мной.
В дверях показался мальчик с графином апельсинового сока и стаканом на серебряном подносе. Он задержал взгляд на Ажулае.
– Ты можешь поставить сок на стол, а потом принеси еще два стакана для моих гостей, – сказала я ему.
Он кивнул, поставил поднос и ушел.
– Проходите, – сказала я Ажулаю и Баду, – проходите и садитесь.
Я подняла таджинеи поставила его на стол рядом с соком. Через открытое окно послышался слабый, но настойчивый крик осла. Ажулай и я сели на два имевшихся в номере стула, а Баду залез Ажулаю на колени.
Я сняла крышку с таджине.Пар и густой аромат поднялись над ним.
– Пожалуйста, кушайте. Я... я не знаю, смогу ли я, – сказала я, а Ажулай и Баду принялись есть руками.
Я просто сидела, потому что знала: если я что-то съем, еда не усвоится моим организмом. Ажулай и Баду молча ели, молчание было невыносимым для меня, но не для них.
Вернулся мальчик и поставил еще два стакана. Он снова взглянул на Ажулая, и Ажулай кивнул ему. Мальчик наклонил голову в знак уважения.
Когда Баду наконец покончил с кускусом, ягненком и абрикосами, он съел два маленьких бенье.Когда он потянулся за третьим, Ажулай взял мальчика за руку.
– Достаточно, Баду, – сказал он. – Будет болеть живот. Вспомни, что было в прошлый раз.
Баду, соглашаясь, все еще не мог отвести взгляда от оставшихся бенье.
– Я буду занят несколько часов: есть небольшая работа в саду. Я возьму Баду с собой, – сообщил Ажулай.
Я растерянно кивнула.
– Возможно, вы бы хотели присоединиться к нам.
– Нет, – сразу же ответила я.
Я не могла представить, как выйду на шумную улицу, буду идти между машинами, лошадьми, ослами и толпами людей. Неужели Ажулай не понимает, через что мне пришлось пройти?
– Мсье Мажорель привез несколько новых птиц. Я думал, вам будет интересно увидеть их. – Он говорил со мной, как будто я была Баду, упрашивал как ребенка, и это раздражало меня. Я вспомнила, что так он разговаривал с Манон, успокаивая ее.
– Я сказала «нет», Ажулай. Я не... Я... – Мои глаза наполнились слезами, и я отвернулась, чтобы он не увидел их.
– Трудное время. Я понимаю, – сказал он, поднимаясь. – Мне жаль, что вы проделали весь этот путь, а в результате такое разочарование. Пойдем, Баду. – Он протянул руку ребенку.
– Его смерть для меня – это нечто большее чем разочарование, – тихо сказала я.
Ажулай резко повернул голову.
– Его смерть? – переспросил он.
Я посмотрела на него, и что-то в выражении его лица заставило меня затаить дыхание.
– Да, – отозвалась я, все еще внимательно глядя на него.
– Но... мадемуазель О'Шиа, – произнес он. – Этьен... он не умер. Почему вы так говорите?
Я не могла дышать, не могла смотреть на него. Я переводила свой взгляд с таджинена апельсиновый сок, стаканы. Все это пульсировало, словно в них била жизнь.
– Но... – Я прикрыла рот рукой, затем убрала ее и снова посмотрела на Ажулая. – Манон... она сказала... – я запнулась. – Она сказала, что Этьен мертв. Похоронен на кладбище. Она сказала мне, что он мертв, – повторила я каким-то бесцветным голосом.
Ажулай и я молча смотрели друг на друга.
– Это неправда? – наконец прошептала я, а когда Ажулай покачал головой, из моего горла вырвался звук, какого я никогда раньше не издавала. Мне пришлось снова прикрыть рот, на этот раз двумя руками, чтобы оборвать его.
– Она действительно сказала это вам? – спросил Ажулай. Его губы сжались в прямую линию, и больше я от него ничего не услышала.
– Скажите мне правду, Ажулай. Просто скажите, что же произошло с Этьеном. Если он не умер, где он?
Ажулай долго молчал.
– Это не мое дело, – заговорил он наконец. – Это касается вас и Этьена, вас и Манон, Манон и Этьена. Это не мое дело, – повторил он. – Но для Манон... – он не закончил фразу.
Я протянула руку через стол и положила ему на предплечье. Оно под синим рукавом было твердым и теплым.
– Но почему? Почему Манон так поступила со мной, почему солгала? Почему она настолько ненавидит меня, что вынуждает уехать из Марракеша таким ужасным способом? Я ей ничего плохого не сделала. Почему она не хочет, чтобы я была с Этьеном, почему она дошла до того, что объявила его мертвым? Почему в ней столько ненависти ко мне? – я повторялась и говорила слишком быстро. Все было слишком запутано, слишком невероятно.
Ажулай посмотрел на Баду, и я тоже посмотрела на него. Мальчуган держался настороженно, а глаза у него были очень смышлеными. Полными жизни. Но в них было еще что-то. Он видел и слышал многое, я это знала. И не только сегодня, а всю свою короткую жизнь.
– Она глубоко несчастна, – произнес Ажулай. – И причина этому – ее одиночество. Я не знаю, почему она сказала вам это.
– И какова же тогда правда? Где Этьен? Вы же видите, она не скажет мне. Я понимаю... вы в таком же положении, что и я, так ведь? – «Я была – есть, или все же была, я уже не знаю, – любовницей Этьена, вы – любовник Манон».
– Положение? Я не знаю, что вы имеете в виду. Но Этьен был здесь, в Марракеше. Он оставался у Манон, возможно, недели две. Потом уехал. Покинул Манон и покинул Марракеш.
– Он вернулся в Америку?
Неужели мы разминулись, неужели наши пути не пересеклись? Искал ли он меня в Олбани? Все это напоминало шекспировскую драму, а может, греческую трагедию.
– Нет. Он сказал, что останется в Марокко, теперь, когда... – Он осекся и снова посмотрел на Баду.
– Это все? Вы больше ничего мне не можете сказать?
– Возможно, мы сможем поговорить об этом в другой раз.
– Когда?
– В другой раз, – повторил он, взял Баду за руку, и они вышли из комнаты.
Остаток дня прошел как в странном полусне. Я то лежала на кровати, то сидела за столом, глядя в окно. Мне хотелось побежать к дому Манон, встретиться с ней, посмотреть ей в глаза, потребовать, чтобы она сказала мне правду. Но я была настолько измождена, что не могла сделать даже несколько шагов. Я запуталась в своих чувствах. Всего несколько дней назад, до встречи с Манон, я была полна надежд найти Этьена. Затем Манон сказала мне, что он умер, и я рыдала, была в отчаянии. А сейчас... если правда то, что сказал мне Ажулай, – а я, конечно, верила ему больше, чем Манон, – что Этьен не умер, а жив и находится где-то в Марокко...
Я не продвинулась в его поисках, не продвинулась в понимании, почему он сделал то, что сделал, – бросил меня, не объяснив причины. Но кое-что изменилось. Совсем чуть-чуть. Я оплакивала Этьена, уверенная, что он умер, и что-то во мне остыло. Пропало. И то, что я узнала, что он жив, не вернуло этого назад.
Я думала обо всем этом и пыталась разобраться в своих чувствах. Я положила кусочек холодного мяса себе в рот и слизнула жир с пальцев. Выпила остатки апельсинового сока. Обмыла колени, осмотрела царапины и синяки.
А потом стемнело, и снова я сняла одежду, и снова обнаженная легла на мягкую постель; жаркий ночной воздух обволок мое тело.
Утром мухи облепили остатки еды в таджине.Я приняла ванну и уложила волосы. Затем надела чистое платье, выбросила остатки еды и вышла на улицу, там подозвала такси и велела везти меня к воротам медины.
Настало время встретиться с Манон. Хотя мне больше не хотелось ее видеть, я не могла допустить, чтобы все так закончилось.
Я не могла позволить ей думать, что она убрала меня со своей дороги. И я останусь здесь, пока не заставлю ее сказать, где смогу найти Этьена.
Глава 24
Я приехала к Манон около девяти. Баду был во дворе и играл с песочного цвета щенком с белыми лапами и одним рваным ухом.
— Bonjour, Баду, – сказала я, когда Фалида впустила меня, после чего продолжила вяло подметать двор метлой из сухих веток с короткой ручкой. – Где твоя мама? – спросила я мальчика.
– Она спит, – ответил он, укачивая маленькую собачку на руках. Она легонько покусывала костяшки его пальцев, и он улыбнулся ей, потом посмотрел на меня. – Посмотрите на мою собачку!
Я присела на широкий бордюр фонтана.
– Она и правда твоя? – спросила я, и Баду отрицательно покачал головой.
— Non, – грустно признался он. – Она Али, мальчика, который живет в доме напротив. Иногда Али разрешает мне играть с ней. Но мне бы хотелось, чтобы она была моей. Я хочу собаку.
Я вспомнила Синнабар и то, какое утешение она приносила мне, хотя я была на десять лет старше Баду, когда она вошла в мою жизнь.
– Я тебя понимаю, – сказала я. – Возможно, когда-нибудь твоя Maman купит тебе собачку.
Но Баду снова покачал головой. Он спустил собаку на землю, подошел и стал передо мной.
— Maman сказала «нет». Она сказала, что собака – это источник неприятностей. Она сказала, что у меня никогда ее не будет и чтобы я больше об этом не просил. – Он говорил не как обиженный ребенок, но как стойкий маленький человек, и это трогало меня.
– Но это же хорошо, что ты можешь играть с этой маленькой собачкой, – сказала я.
Щенок закружился вокруг него, подпрыгивая и хватая Баду за рукав.
– Сидония, мне не нравится твой дар,– сказал он, не обращая внимания на щенка.
– Тебе не нравится мой дом? – Некоторые арабские слова я уже знала.
– Да. Он мне не нравится, – повторил он. – Он слишком большой, слишком много людей. И они не любят тебя, – серьезно добавил он.
– Не любят меня? Кто, Баду? – спросила я, озадаченная этим заявлением и угрюмым выражением его лица.
– Твоя семья. Все люди в твоем большом доме, – твердил он, и тогда я поняла. – Они не любят тебя, – сказал он снова.
– Но, Баду, это не мой дом. Это отель. – Говоря это, я сообразила, что он не поймет меня. – Э... да, большой дом. Но не мой дом. Я всего лишь останавливаюсь там на некоторое время. И те люди – не моя семья.
– Кто же они?
Я пожала плечами.
– Я их не знаю. Незнакомые.
– Ты живешь с незнакомцами? – Его глаза еще больше расширились. – Но, Сидония, как ты можешь жить без своей семьи? Ты ведь не одинокая?
Я молча смотрела на него. Когда я не ответила – потому что не знала, что сказать, – он продолжил:
– Но... где они? Где твоя мама, твой папа? Где твои дети?
Баду уже понимал, как для марокканцев важна семья. Несмотря на холодность его матери, он говорил о любви.
Возможно, он уловил что-то печальное и нежное в выражении моего лица. Он спросил спокойно, и тем не менее с сочувствием, как ребенок, знающий о мире слишком много:
– Умерли?
Что я могла ответить такому ребенку, как Баду? Я медленно кивнула.
– Да. Они все умерли.
Баду подошел ко мне, забрался мне на колени, как к своей матери и Ажулаю. Став на колени, он прислонился щекой к моей щеке. Я ощутила тепло его кожи, запах пыли на его густых волосах. Я рассеянно подумала, что ему не помешало бы помыться.
Я не могла говорить и просто обняла его. Я провела пальцами по его выпирающим ребрам, а затем по маленьким позвонкам. От этих прикосновений он расслабился и даже будто стал легче. Щенок примостился у моих ног – он лежал на боку на гладком теплом камне. Его розовый язычок слегка высунулся, а видимый мне глаз подергивался, когда на него садилась муха. Фалида продолжала не спеша подметать; размеренный звук, издаваемый метлой, действовал успокаивающе. Я сидела, глядя на этот пестрый двор, ощущая голову Баду под своим подбородком, и ждала, когда проснется Манон.
Наконец Манон охрипшим голосом недовольно позвала Фалиду через открытое окно. Фалида поднялась по лестнице, но через пару секунд спустилась. Баду все еще сидел у меня на коленях.
Через некоторое время на лестнице, ведущей во двор, послышались шаги; я повернулась, готовая увидеть Манон.
Но это была не Манон. Мужчина с русыми волосами, небрежно спадающими на лоб, и заспанным лицом был так же удивлен, увидев меня, как и я. Он был довольно симпатичным и одет в хорошо скроенный, хоть и помятый кремовый льняной костюм, а в руке держал шляпу с широкими полями.
– О, мадам! – воскликнул он, останавливаясь на средине лестницы. – Добрый день.
– Добрый день, – ответила я.
– Манон ожидает свой утренний чай. Я не думаю, что она знает о гостье, – произнес он. – Сказать ей...
– Нет, – перебила я его.
Слишком много мыслей вертелось в моей голове. Этот мужчина явно провел здесь ночь. Значит, он ее муж? Нет. Он не мог им быть. Я бросила взгляд на Баду; как только мужчина спустился по лестнице, Баду спрыгнул с моих колен и начал гладить щенка, повернувшись спиной к мужчине. А как же Ажулай?
– Я подожду ее здесь, – сказала я.
– Как хотите, – бросил он, слегка поклонившись, а затем пошел к воротам, как бы не заметив Баду.
Как только за ним закрылась дверь, я задумалась: где же спали этой ночью Баду и Фалида, все ли с ними было в порядке?
Баду побежал наверх. Я услышала его высокий чистый голосок, сообщающий матери, что я во дворе.
– Чего она хочет? – раздраженно спросила Манон.
– Я не знаю, Maman, – сказал он. – Maman, ее папа и мама, ее дети – они все умерли.
Послышался шорох.
– Она не заслуживает семьи, – сказала Манон.
Меня шокировала не только ее открытая неприязнь ко мне, но и то, что она говорила такие ужасные вещи ребенку. Я вспомнила, как Баду доверчиво прижимался ко мне.
– Манон! – поднимаясь с бордюра, позвала я, чтобы она не успела сказать ему еще что-нибудь ужасное. – Мне нужно поговорить с тобой.
– Подождешь, пока я не буду готова, – отозвалась она тем же раздраженным тоном, каким разговаривала с Фалидой и Баду.
И снова у меня не было другого выбора, кроме как сидеть и ждать, пока она спустится во двор.
Наконец она медленно спустилась, словно никуда не торопилась. На ней был свободный, почти прозрачный кафтан; я отчетливо видела сквозь него очертания ее все еще стройного и соблазнительного тела, когда на нее падал свет. Ее груди были высокими и упругими. Волосы она распустила, а глаза подвела черной краской. Губы были слегка припухшими и какими-то помятыми.
Когда я смотрела, как она спускается по лестнице, такая властная, с напускным безразличием, мне хотелось подбежать к ней, сильно толкнуть ее, чтобы она скатилась вниз по ступенькам, потянуть за волосы, сильно ударить. Мне хотелось крикнуть ей, что она лживая и коварная женщина, не заслуживающая ни такого чудесного сына, ни этого замечательного дома. Не заслуживающая своего любовника – другого ее любовника, Ажулая, мужчины с приятной наружностью, который относится к ней и Баду с почтением и преданностью. Знает ли он, что она обманывает его, как и меня, только другим способом?








