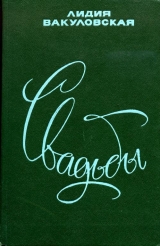
Текст книги "Свадьбы"
Автор книги: Лидия Вакуловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
15
За августом, как водится, наступает сентябрь, а за сентябрем – октябрь. В октябре, как водится, опадают листья, сеют мелкие дождики, а в промежутках между дождиками золотятся удивительно солнечные дни с паутинным бабьим летом.
Каждый год на Липовой аллее желтым огнем загораются клены, ивы, тополя и березы и полыхают недели две, а потом дружно осыпаются, устилая желтизной всю улочку, крыши и крылечки.
В один из таких дней, когда Липовая аллея утопала и нежилась в ярко-желтой листве и летала белая паутина, стукнула калитка и на пустую улочку вышла с граблями и мешком Палашка Прыщ. Стукнула калитка напротив – и появилась Марфа Конь, тоже с граблями и мешком.
– Драстуй, Марфа. Тоже лист сгребать?
– Драстуй, Палашка. Тоже сгребать.
И они взялись за дело. Марфа стала сгребать и заталкивать в мешок листья, опавшие с деревьев, что росли возле ее хаты, а Палашка сгребала и набивала в мешок свои листья, опавшие с ее деревьев.
Возле каждого дома росли деревья, возле каждого лежал опавший лист, и так уж повелось спокон веку, что этот лист принадлежал хозяину дома и ни один сосед не смел набить им свой мешок. Листьями утепляли на зиму колонки во дворах, утепляли ими деревья в саду или пускали на подстилку кабанчику. Иного применения листья, пожалуй, не имели. Лишь машинист Писаренко (это на его крышу заскочила когда-то уличкомша Ольга Терещенко, спасаясь от взбесившейся собаки Поликарпа Семеновича), лишь он один испытывал переизбыток в листьях, струшиваемых тремя старушками-липами, и отдавал часть своего богатства тому, кто первым обращался к нему.
Но Марфе Конь и Палашке Прыщ хватало своих листьев, поскольку у каждой во дворе было ровно по две яблони и по одной груше, требовавших зимнего утепления. Кабанчиков же они не держали и персональных колонок не имели, а носили воду с общественной колонки, помещавшейся на парадном конце улочки, метрах в десяти от красавицы лужи.
У Марфы перед домом росли клен и плакучая ива, у Палашки – две березы, и Марфа быстрее подгребала крупный лист, чем Палашка свою мелкоту. Пока Палашка набила один мешок, Марфа утрамбовывала уже второй, двигаясь с мешком и граблями к середине улочки, где кончалась ее лиственная территория. Палашка двигалась ей навстречу, то есть к границе своей территории. Так они вплотную приблизились друг к другу, распрямили спины и оперлись на грабли, решив передохнуть. И тут же разом повернули лица с одинаково острыми носами на двор Кожухов.
Поликарп Семенович аккуратно закрыл за собой калитку и взял направление на подсохшую лужу, помахивая пустой авоськой. Осень заставила Поликарпа Семеновича сменить сандалеты на тупоносые туфли, соломенную шляпу – на фетровую, а полотняный пиджак – на вельветовую толстовку малинового цвета. Только очки с двойными линзами остались при нем и осенью, но, должно быть, он совсем слабо видел сквозь них, так как, проходя мимо Марфы с Палашкой, даже не взглянул в их сторону.
– Послухайте, Кожу́х! – окликнула его в спину Марфа. – Это как же мне понять ваше поведенье? Это опять вашу собаку гулять потягнуло? Чего ж это она у вас опять так завыла?
– Я вам не Кожу́х, а Ко́жух! – ответил Поликарп Семенович, не останавливаясь, а только полуоборачиваясь, отчего стало ясно, что он и прежде видел Марфу с Палашкой. – А собака завыла в силу того, что она собака.
– Слухайте, Кожу́х, я на вас уличкомше пожалуюсь! – крикнула ему в спину Марфа. – Вы ж и эту сучку не кормите, а на цепку мучаете!
Поликарп Семенович махнул рукой, показывая этим жестом, что не желает больше отвечать Марфе, и пошел быстрее, поддевая носками туфель сухие листья.
– И для чего ему теперь собака? – сказала Палашка, полностью солидаризуясь с Марфой. – Чего ей теперь сторожить, раз Генке машину отдали?
– А теперь, видать, боится, чтоб самого с женкой не украли. Тьфу, дурман сандалетный! – ответила Марфа, не упустив возможности осудить пристрастие Поликарпа Семеновича к ношенью сандалет, хотя в данную минуту он был в туфлях.
– А ты знаешь, что я чула? Вроде она тогда кумедию сыграла, вроде понарошку травилась.
– А может, и понарошку, – ответила Марфа.
И тут Марфа с Палашкой, забыв про свои мешки с листьями, направились, не сговариваясь, к дому Марфы, потому что обеим захотелось посидеть на скамеечке, захотелось вспомнить да пропустить через языки случай с отравлением Олимпиады Ивановны.
Вспоминая об этом случае, Марфа с Палашкой определенно знали (об этом после говорила вся улочка), что Олимпиада Ивановна решила расстаться с жизнью исключительно по собственной воле и приняла с этой целью какую-то отраву. Однако Марфа с Палашкой совершенно не знали, что этим своим актом добровольной смерти Олимпиада Ивановна жестоко мстила мужу за все свои муки. За то, что не хотел отдать «Победу» первого выпуска сыну Гене, за то, что вывел «Победу» первого выпуска из гаража и повез на ней «этих идиотов Колотух», за то, что нахлестался в погребе вина, схватил дорогую скрипку и побежал к «этим идиотам Колотухам» на свадьбу. За все это Олимпиада Ивановна отомстила ему, приняв отраву, после чего стала ужасно корчиться, громко стонать и рыдать на глазах у внука Игоря. Но у нее хватило еще сил написать на клочке бумаги текст телеграммы: «Папа, срочно приезжай, бабушка умирает. Игорь», – и послать с этой бумажкой Игоря на почту, наказав, чтобы с почты он забежал к знакомой врачихе Селестратовой и сообщил о близкой смерти бабушки. Знакомая врачиха прибежала как раз тогда, когда разразилась гроза и страшенно засверкали молнии.
Пока внук Игорь бегал под ливнем и молниями к «этим идиотам Колотухам» за Поликарпом Семеновичем, Олимпиада Ивановна призналась Селестратовой, с какой целью и какую приняла отраву, и они вдвоем немножко посмеялись. С появлением же полуголого, исхлестанного дождем мужа (соколку он сбросил, а спортивные штаны закатал до колен), к тому же нетрезвого, Олимпиада Ивановна снова забилась в судорогах и стала так стонать и так закатывать глаза, что казалось, вот-вот испустит дух. Она напрочь отвергала усилия Селестратовой спасти ее от верной смерти и упрямо твердила сквозь слезы: «Оставьте меня! Я хочу умереть! Не хочу жить!..» Поликарп Семенович в голос зарыдал, рухнул на колени перед кроватью Олимпиады Ивановны и принялся бормотать: «Милая, милая!.. Прости меня, пожалей меня несчастного… Мы спасем тебя, мы спасем тебя!..» Он хватал жену за руки, целовал ее руки и, проклиная себя, бился мокрой головой о железную спинку кровати.
Марфа с Палашкой доподлинно знали (и это видела вся улочка), что на другой день к Кожухам примчался из Житомира сын Гена, что сын бегал в аптеку, бегал в магазины, помогая спасать Олимпиаду Ивановну. Однако Марфа с Палашкой не знали, что там происходило в доме с приездом Гены и как сын Гена мирил (не первый раз!) отца с матерью. Гена безжалостно отчитал мать за то, что она пыталась наложить на себя руки. Он безжалостно отчитал отца за его нехорошее отношение к матери. Он призвал их покончить со ссорами и жить на старости лет в согласии. Олимпиада Ивановна заявила, что она помирится с Поликарпом Семеновичем и не будет больше травиться, если он в корне изменится. Поликарп Семенович, насмерть напуганный тем, что чуть не лишился Олимпиады Ивановны, клялся, что никогда впредь не скажет ей грубого слова. И еще он сказал, что дарит сыну свою коричневую «Победу» первого выпуска. Гена пытался отказаться от подарка, но Поликарп Семенович и слушать не пожелал. Таким образом, Гена внес мир и согласие в родительский дом и уехал с сыном Игорем к себе в Житомир на коричневой «Победе» первого выпуска.
Вот так сидели на скамеечке две вдовы, две соседки, уже помеченные старостью женщины, Марфа Конь и Палашка Прыщ, и вспоминали о том, как в памятный день трех свадеб Олимпиада Ивановна чуть было не отправилась на тот свет. Вспоминали, что знали, а чего не знали, о том, ясное дело, не вспоминали.
Нежаркое осеннее солнышко, желтенькое, как вылупившийся цыпленок, мягко оглаживало их одинаково остроносые лица, приморщенные годами и летним загаром, и руки, тоже сморщенные годами и постоянной работой. Под ногами у них ворохом лежали листья, той же яркой желтизны, что и солнце, и с деревьев, еще не совсем обнаженных, падали такие же желтые кружочки солнца, ложились на скамью, на подол Марфе и на подол Палашке. И тем хороша была их улочка, что можно было и час и два просидеть в дневное время на скамеечке за разговором, не отвлекаясь вниманием на прохожих, чье появление могло бы сбить с мысли и спутать разговор. Свои жители в дневное время находились на работе, а чужаков надежно отпугивала лужа.
Прошло не меньше часа, когда на улочке появился первый прохожий – Петро Колотуха, вернувшийся из поездки. Он неспешно шел от лужи, высокий и могучий, неся в руке небольшой сундучок, называемый шарманкой. Черный костюм его и высокую фуражку украшали золотистые знаки отличия.
– Ой, и красивая ж у них форма стала, – сказала Палашка, увидев Петра, идущего по другой стороне улочки. – Чисто генерал.
– Здравствуйте, соседушки, – поздоровался с ними через дорогу Петро, замедляя шаги. – Листья понемногу гребем?
– А как же – надо! – ответила Марфа.
А Палашка спросила:
– Ты куда ж ездил?
– Да на Ворожбу.
– И как там, в Ворожбе? – поинтересовалась Палашка.
– Ага, как оно там? – поинтересовалась и Марфа.
Марфа и Палашка никогда не бывали в Ворожбе, но им хотелось знать, «как оно там»?
– Да такой же листопад метет. Желтая метелица по всей дороге, – сказал Петро и пошел дальше, к своему дому.
Марфа спохватилась, спросила его вдогонку:
– Петя, а как же там Толик живет? Чего ж он с молодой женой не едет?
– Да нормально живут, – успел ответить Петро, прежде чем скрылся за своей калиткой.
А когда он скрылся за калиткой, Марфа сказала Палашке:
– Так-то оно так, да несурьезный он парнишка. Мать с отцом свадьбу готовят, а он ее уже в Чернигове сгулял! А дом все ж есть дом, и что б ты мне ни говорила…
Досказать эту важную мысль ей помешал Поликарп Семенович Ко́жух, незаметно подошедший к своему дому с другого, непарадного, конца улочки и уже достигший своей калитки. Марфа проворно подхватилась со скамьи и крикнула ему:
– Послухайте, Кожу́х, я вам сурьезно насчет вашей собаки говорю…
Однако Поликарп Семенович уже юркнул за калитку и загремел засовом. Но когда он юркнул за калитку и перестал закрывать своей фигурой и своей фетровой шляпой обзор узкой пешеходной дорожки, зажатой слева забором, а справа шеренгой толстостволых деревьев, в этом расчистившемся пространстве сразу же появилась Татьяна Даниловна Пещера, шедшая до этого чуть позади Поликарпа Семеновича.
Татьяна Даниловна выразительно поглядела на захлопнувшуюся калитку Поликарпа Семеновича, выразительно усмехнулась и выразительно покачала головой, и качала ею, пока подходила к Марфе с Палашкой, давая им знать, что она все слышала и все поняла.
Несмотря на теплый день, Татьяна Пещера была одета почти по-зимнему: поверх толстой шерстяной кофты – пальто на ватине, шея закутана шарфом, на голове платок. Вызвано это было тем, что еще на свадьбе Татьяна Даниловна сильно перепелась, исполняя дуэты с известным тенором Кондратом Колотухой, повредила какие-то важные голосовые связки и вот уже второй месяц не могла не только петь, но и нормально разговаривать. Она бросила ходить в гороховскую церковь и ходила теперь исключительно в больницу.
Сейчас она возвращалась из больницы, и потому Марфа с Палашкой в один голос спросили ее, как идет лечение и есть ли уже какие сдвиги в связках? На что Татьяна Даниловна, трогаясь рукой за горло, обмотанное шарфом, и делая всякие движения головой, глазами и бровями, бессловно ответила им, что ей не велено разговаривать, а велено идти домой.
Марфа и Палашка тоже стали знаками показывать, точно были глухонемые, чтоб Татьяна Даниловна выполняла советы врачей и шла домой отдыхать. Та скорбно покивала им на прощанье и удалилась к себе во двор, который был столь же мал, как и Марфин двор, как и двор Палашки. Вообще на Липовой аллее большие дворы, с завидными садами и огородами, были только у Кожухов, у Огурцов, у Серобаб да еще, может, у Колотух. Но там и дома были подходящие, а при других, неказистых, домах и дворики были такие, что курице негде клюнуть. После ухода Татьяны Пещеры Марфа с Палашкой не преминули бы поговорить о ее сорванных связках, если бы со стороны лужи не послышался натужный голос Васи Хомута:
– Но!.. Пошла, пошла, мамочка, рыбка моя!..
Марфа с Палашкой проворно поднялись и обогнули дерево, чтоб поглядеть, что там за лошадь появилась у Васи и не засел ли он с нею в луже.
Однако никакой лошади не было, а покрикивал Вася на двухколесную тележку, которую толкал перед собой, норовя обвести ее вокруг лужи. Но одно колесо все-таки вильнуло в лужу и тележка малость подзастряла.
– Нн-но, ягодка, жизнь моя золотая!.. – прикрикнул Вася на тележку и, поднатужась, вытолкнул ее на сухое.
Марфа с Палашкой поскорей убрали с середины улочки свои мешки с листьями, освобождая Васе дорогу. Заметив их, Вася издали сообщил:
– Марфа, мамочка, Палашка, детка родная, – картошку везу! Двадцать пудиков в ларьке чохом купил! Еще одна ходка, и конец моим осенним заготовкам!
Он подкатил тележку к Марфе с Палашкой, отпустил ручку, ручка скакнула вверх, и тележка стукнулась передком о землю, так что мешки с картошкой подпрыгнули.
– Передохни, Вася, передохни, голубок, – сказала Марфа, обрадованная, что видит Васю, к которому у нее было важное дело. И, жалея Васю, подзасевшего с тележкой в луже, осуждающе произнесла: – И когда его запечатают, это болото наше? Уже тридцать лет жабы квакают и мы по-жабьему через него скачем, а у них все ассигнованьев нету.
– А, Марфа, золотце, горе мое, в своем болоте и лягушка поет, – усмехнулся Вася. – Пускай живут.
Вася сел на ворох желтых листьев, а Марфа с Палашкой опять сели на скамью. Насыпая в газетину махорочку и скручивая цигарку, Вася Хомут объяснил им, отчего он сегодня не работает и отчего занялся картошкой. Оттого, оказывается, что хватил вчера топором палец до кости и получил на три дня больничный. Вася подергал левой рукой забинтованный палец на правой руке, сморщился и сказал, что, видимо, дадут еще иа три дня больничный. Тогда Марфа попросила Васю потрусить ей в эти больничные дни сажу на чердаке, объяснив, что в доме она сама потрусила, а на чердак ей не влезть.
– Марфа, золотце, любовь моя, когда я кому отказывал? – отвечал Вася. – Пусть Палашка, рыбка, скажет: кто ей крышу полатал? Три года, как новая, простоит. Марфа, ягодка, я слову хозяин: завтра приду и потрушу. Пусть Палашка, мамочка, подтвердит.
Палашка охотно подтвердила: не обманул ее Вася и взял недорого – всего десятку. И всего две бутылки вина «Чэрвоного мицного» выпил, пока на крыше работал, потому что третьей бутылки у Палашки в запасе не было. И с временем не подвел: в какой день назначил, в тот и явился. Другой ни за что бы не пришел, посиди он накануне за свадебным столом да промокни под ливнем, другой бы отдыхал да простуду из себя выгонял, а тут только солнце поднялось, только крышу просушило – и Вася во двор. И работалось им весело. Палашка ему с крыльца гвозди и краску подавала, полустаканчик вина на крышу тянула, а он ей сверху все новости сообщал – что у кого во дворе делалось. Доложил, что к Кожухам сын Гена из Житомира прибыл и бегом бежал к дому, боясь, что не застанет живой Олимпиаду Ивановну. Доложил, что Огурцы-Секачи к отъезду в Киев собираются, вещи в вишневые «Жигули» сносят. Что Татьяна Пещера ходит по двору с обмотанной шеей и горло полощет. Что Петро Колотуха крушит топором столы и лавки, за которыми вчера гуляли, жена же его Настя стоит на крыльце и вроде бы плачет, а брат Петра, известный столичный тенор, поглаживает ее по голове. Доложил, что Груня Серобаба, одетая во все черное, таскает на базар (как раз день был базарный) какие-то тяжелые корзины и возвращается с пустыми. Разгадать загадку с корзинами не могли ни Вася Хомут, сидевший на крыше, ни тем более Палашка, ничего не видевшая со двора. Только к вечеру все прояснилось: Груня Серобаба носила на базар несъеденное на свадьбе. Продавала жареное и пареное, даже холодец в мисках.
Как же могла Палашка при таком к себе отношении Васи Хомута не потчевать его?
Вася Хомут дотянул одну цигарку и взялся свертывать другую, говоря:
– Или вот возьмите, мамочка Палашка, золотце Марфа, Сережку Музы́ку. Я ему клятву дал, что дом его, как игрушку, сделают – и сделают! Вот Октябрьские отгуляем и начнем полным ходом. Мне сам Кавун сказал: дальше тянуть нельзя, год отчетный кончается. Я Сереже написал, что будет полный порядок. И ответ от него получил: ни капли, мол, не сомневаюсь.
Услышав это, Марфа с Палашкой вытянули к Васе острые носы и разом спросили:
– А что ж он еще пишет? Может, и Сашу вспоминает?
– Ах, Марфа, жизнь моя, Палашка, мамочка! – с чувством сказал Вася. – Живут они, как в раю небесном. Сережка Груне тысячу телеграфом выслал, и она все простила. Или вы Груню не знаете?
Марфа хотела было что-то сказать Васе, но вдруг встала и крикнула молодой женщине, сгребавшей листья в том месте, где кончался забор Огурцов.
– Слухайте, женщина! Там не гребите, то уже чужие листья!
Женщина выпрямилась, удивленно спросила:
– Это вы мне говорите?
– Вам, вам!
– Как это листья могут быть чужими? – снова удивилась женщина.
– А так, что вы наших порядков не знаете! Под кленом гребите, его Огурцы сажали, а то́поля не трогайте, это тополь Петра Колотухи!
Женщина пожала плечами и ушла с граблями во двор.
– Вот и обидела ты ее, – сказала Марфе Палашка.
– А что я такого сделала? Разъяснила человеку, раз Таисия не разъяснила.
Две недели назад Таисия Огурец продала наконец-то дом, почти вдвое дешевле, чем желала, и насовсем перебралась в Киев. Но по городу ходили слухи, что после того, как в районной газете появился снимок, запечатлевший венчание Поли с Андреем, у Огурцов случились большие неприятности. Вроде бы кто-то послал газеты со снимками куда следует, после чего вроде бы Полю и Андрея исключили из комсомола, а Филипп Демидович вроде бы полетел со своего высокого поста.
Палашка верила слухам, а Марфа крепко сомневалась. Поэтому Марфа и сказала:
– Нет, не могли Фильку за одну церковь с поста сбросить.
Но Палашка опять не согласилась с нею, сказав:
– Не такие головы вниз долой летели. Вон какие летели!
Вася Хомут бросил в листья окурок, затоптал его каблуком и сказал:
– Марфа, мамочка, Палашка, золотце, я вам по секрету признаюсь. Мне один ответственный человек сказал, я ему ворота ставил, он знает, что я не трепач. Так и вы знайте: шуму в Киеве с головой было, а чем кончилось, этот человек пока сам не в курсе. Ну, кончай, Вася, шабашить, пора трогать, – обратился он сам к себе.
Вася поплевал на руки, крякнул, гмыкнул и покатил мешки с картошкой домой.
– Не верю, да и все, – упрямо повторила Марфа. – А если б скинули Фильку, – я б довольной була. Как это так: сам шпекулировал, а теперь другим приговора́ выносит, – рассуждала Марфа. – Это что ж, по чести или по нечестности?
– Ох, чего ты вспомнила! Это ж когда все було? – удивилась Палашка, смахивая моток белой паутины, прилепившейся ей на щеку. – Тогда вон сколько людей тем и выжили.
– А я ни тогда, ни теперь их не одобряла. – Марфа тоже смахнула со лба моток паутины, перелетевший к ней от Палашки.
– Так и я за солью ездила и за прочим. Так, может, ты и меня не одобряешь?
– И тебя не одобряю.
– Так, может, тебе и Елену Жужелицу не жалко було, и Марину Будейко, когда их засудили?
– Не жалко було.
– Почему ж не жалко? Может, потому, что сама не ездила?
– А конечно ж, не ездила.
– Зачем тебе ездить було? Ты ж на угольном нарядчицей сидела, уголь там брала да продавала.
– Я сама не брала. Я по квитанциям выписывала.
– Вот и правильно. По казенной цене выписывала, а продавала почем? Не я ли сама у тебя покупала?
– Так у тебя деньги нашпекулированные были. Кто ж тебе виноват, что платила? Я у тебя силой не отнимала.
– Ну, Марфа! – поднялась со скамьи Палашка.
– А что – Марфа? Не нравится правда в глаза?
– Пень ты гнилой, неотесанный, вот что!
– От такой же гнилой коряжки и слышу!
Палашка схватила с земли свои грабли и, ничего не сказав больше, пошла через дорогу, подобрав по пути свой мешок с листьями. И скрылась в своем дворе, сильно хлопнув калиткой.
Марфа тоже взяла свои грабли, подхватила свой мешок с листьями и тоже скрылась в своем дворе, стукнув калиткой.
И опять они поссорились. Может, до вечера, может, до завтрашнего утра, а может, и на целую неделю.
Зимой стало известно, что к следующей спасовке на Липовой аллее намечаются две свадьбы. Старший сын Васи Хомута, лейтенант Володька, написал с Дальнего Востока, что решил жениться, решил непременно взять в жены свою землячку и что с этой благородной целью он и приедет в августе в отпуск. И дочь уличкомши Ольги Петровны Терещенко, Нюра Терещенко, недавно закончившая в Нежине курсы медсестер, призналась матери, что давно любит Витю Писаренко, сына машиниста Писаренко, чья крыша в свое время спасла Ольгу Петровну от взбесившейся собаки Поликарпа Семеновича. Призналась, что они решили с Витей пожениться, как только он закончит в Киеве курсы переподготовки помощников машинистов и сам станет машинистом. А это случится в августе, то есть к спасу.
Что ж, доживем до спаса!








