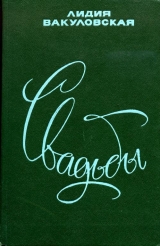
Текст книги "Свадьбы"
Автор книги: Лидия Вакуловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Хоть и велико село Лесное, да ведь у всякой скорби быстрые ноги. В тот же вечер полетела из конца в конец по селу весть: Дуняша померла!
Одни не верили:
– Быть не может! Да ее вчера в магазине видели!..
Другие уточняли:
– Это какая Дуняша? Та, что партизанской связной была?
Им отвечали:
– Она, она, Дуняша Петрик.
И рассказывали тем, кто не знал, как в войну Дуняша Петрик, женщина уже не молодая, рано овдовевшая, проводила на фронт троих взрослых сыновей, а сама осталась в селе с тремя младшими дочками и стала партизанской связной. Через нее держали партизаны связь с городом, у нее, в случае острой нужды, тайно хоронились, она верным людям в лес дорогу указывала. В ту пору, правда, об этом считанные люди знали. Остальные же узнали, когда прокатился на запад по здешним местам фронт, кончилась партизанская война, а с нею и все конспирации. И теперь еще некоторым сельчанам помнилось, как въехал в село конный отряд партизан, остановился возле хаты Дуняши и трижды отсалютовал в небо из ружей, благодаря свою связную за трудную и опасную службу. А из себя-то Дуняша была невысока ростом, нраву тихого, казалось даже робкого, – никогда бы не подумать, что за сила в душе ее таилась. Может, поэтому и уберегла ее судьба от вражьей петли – неминуемой расплаты за причастность к партизанам, может, потому и сохранила ей судьба сыновей на войне: троих проводила и трое, отвоевавшись, вернулись к матери…
На другой день стали съезжаться дети Дуняши, вызванные телеграммами из разных городов. Приехала с Урала дочь Маша, Светина мать, с мужем и старшим сыном, с женой сына и двумя внуками. Приехал из Киева со своей семьей младший сын Владимир, инженер-электрик. Приехали со своими семьями дочки-близнецы Надежда и Серафима, первая – врач, вторая – бухгалтер. (Потом в Лесном говорили, что за гробом Дуняши, не считая детей ее, шло пятнадцать внуков и десять правнуков). Ждали среднего сына, Ивана, работавшего начальником геологического управления на далекой Чукотке, так как от него пришла телеграмма, что он вылетает с Чукотки самолетом и будет через двое суток.
Во дворе у Петриков стало людно. Приходили старухи и молодицы (в каждом селе есть такие добровольные организаторши свадеб и похорон), шептались о чем-то у ворот и в саду, подсчитывали, сколько надо рушников и хусток на похороны, сколько выпивки и закуски для поминального стола, с оркестром хоронить или без него, и сколько то все будет стоить. Дети Дуняши выслушивали их требовательный, наставительный шепот, со всем соглашались и давали деньги, не считая и не спрашивая, на что они пойдут.
Калитка весь день не закрывалась, люди шли и шли: с полевыми и садовыми цветами, с еловыми венками. Оставляли цветы и венки во дворе, неловко входили в хату и, побыв там какое-то время, выходили со скорбными лицами, с опавшими плечами. Никто не говорил в полный голос. Ребята тоже вели себя смирно, лица их выражали испуг и непонимание того, что случилось.
Дуняша лежала в просторной горнице, на высоком столе, на белой льняной простыне, одетая в черное кашемировое платье, повязанная белым платочком, покрытая до пояса тюлевым покрывалом. Скрещенные на груди руки ее, с выпиравшими, погнутыми в пальцах суставами, и лицо были восковыми. Веки плотно прикрывали запавшие глазницы, губы окрасила синева, нос заострился, и не могло быть никакой иллюзии, что Дуняша просто уснула, что она может вдруг проснуться и встать. Окаменелость навсегда сковала ее тело, и было непонятно, какая причинность, какая связь была между покоившейся на столе Дуняшей и фотографией в черной рамке в изголовье, с которой светилось молодое девичье лицо с пронзительно светлыми глазами и светлой полуулыбкой…
Иван приехал в полдень следующего дня. Был он рослый и смуглый, как и его братья. Но, в отличие от них, пощаженных сединой, голова у Ивана была совсем белая. Он вошел в горницу, опустился на стул возле Дуняши, припал к ее плечу белой головой и долго сидел так, не поднимая головы.
Теперь Дуняша уже лежала в гробу, и от гроба исходил щемяще острый запах свежеоструганного дерева. В шутку обещал Митрофан Кузьмич смастерить Дуняше гроб «без сучка и зазоринки», а пришлось делать всерьез. И сделал-таки, пустив на распил ту самую дубовую колоду, на какой день назад отдыхала Дуняша. Колоду годами прожигало солнце, омывали дожди и высушивали ветры, доводя дерево до крепости стали. Доска получилась гладкая, как стекло. Ну, а нужную форму ей придали уже рубанок, ножовка, молоток да руки Митрофана Кузьмича…
Подошла минута выноса. Приехал на «Волге» председатель колхоза с правленцами. Прибыл грузовик, обтянутый по бортам кумачовой материей, за ним – колхозный автобус. Народу набилось во двор – не протиснуться. Гроб поставили на табуретки у крыльца, оркестр проиграл похоронный марш. Наступила тишина. Еще несколько минут – и можно трогаться. И вдруг эту траурную тишину оборвал невыносимо громкий голос Нины, обращенный к мужу:
– Вася, а пчелы, пчелы наши!.. Про пчел позабыли, второй день не вылетают из ульев!.. – с какой-то давящей тоской выкрикнула Нина.
Василий обернулся на голос жены, заслоненной от него людьми.
– Помрут ведь пчелы с горя! – громко и виновато объяснила Нина. – Чуют, что Дуняши не стало!..
Она метнулась в сад, подняла с земли короткую палку и стала стучать палкой по ульям, приговаривая:
– Вылетайте, вылетайте!.. Ступайте на волю!.. Что это вы себе надумали?..
Но пчелы не слушались Нину – не вылетали. Тогда и Василий быстро прошел в сад, поснимал с ульев крышки и, пыхкая на соты дымом из самодельного дымокура, стал выгонять пчел на воздух. Несколько пчелиных роев, выкуренных из ульев, заметалось по двору, шарахаясь во все стороны, тычась то в стены хаты, то в лица людей. Потом гудящим облаком пчелы вынеслись на улицу и скрылись за высоким тополем.
– Ну, люди добрые, понесем сестричку мою на вечный покой, – просто сказал Митрофан Кузьмич, первым решив, что пора трогаться.
Не зная обычая, сыновья Иван и Владимир подошли к гробу, чтобы взять его на плечи и понести. Но старший брат Василий отстранил их, тихо сказав, что родным детям нести не положено. Гроб подняли другие мужики, и Дуняша последний раз поплыла на их плечах по родному двору к воротам.
3Ее пронесли на руках по всему селу, по всей трехкилометровой улице. Мимо хаты Аксиньи Перепелки, где она три дня назад пила из щербатой чашки воду, мимо хаты Митрофана Кузьмича, где отдыхала на дубовой колоде, от которой теперь на земле осталась лишь глубокая сырая вмятина, мимо магазина, где покупала соль, а заодно и спички, мимо двухэтажной конторы колхоза, мимо Дома культуры с белыми колоннами у фасада…
Ее хоронили, как хоронят в селах. Впереди с охапками цветов шли соседские дети, бросали цветы на дорогу. За ними женщины в темных хустках, с белыми повязками на рукавах несли в белых узелках круглые хлебы. А дальше – женщины с венками, дальше – крышка гроба, оркестр, сам гроб, за ним – родные люди, потом – просто провожающие. За околицей гроб поставили на грузовик, положили в кузов венки и крышку. Отыграл свое оркестр. И тогда вдруг, свернув на обочину, остановился шедший навстречу «Москвич» и из машины вышел бородатый батюшка (из соседнего села, где была церквушка), одетый во все свое церковное облачение. Вслед за ним выбрались дьяк и трое певчих. Никогда Дуняша не ходила в церковь и в бога не верила, – но вот же призвал кто-то батюшку, время и место указал. Видать, те самые добровольные организаторши, что шептались во дворе и в саду, что остались теперь в хате готовить поминальный стол…
Спустя минут десять, исполнив свой ритуал, батюшка, дьяк и певчие сели в машину и уехали.
По сухой песчаной дороге процессия медленно направилась к кладбищу. Оно виднелось вдали, на взгорке, темнело на синем горизонте островком высоких сосен, этих извечных стражей сельских погостов.
Дорога, как белая река, текла среди полей, и берегами ее были высокая зеленая стена кукурузы, а с другой стороны – такая же стена подсолнухов.
Было жарко, душно. В небе летел невидимый самолет, протягивая за собой длинный туманный шлейф. А низко над землей в сторону болота пролетел аист, неся в клюве сухую хворостинку: возможно, для починки прохудившегося гнезда.
Потом зеленые берега оборвались, справа открылась уже убранная пшеничная нива, со смётанной в пирамиды соломой, слева закудлатился русый лен. Недавно, во время его цветения, здесь разливалось голубое море, теперь лен вызревал, укреплял свои волокна.
Этот лен голубой нитью прошел через всю жизнь Дуняши. Сколько переполола она его, сколько стеблей повыдергала из земли, сколько снопов измочила в осенней холодной реке, сколько мяла и трепала его волокна! Тонны льна прошли через ее руки. Ох, какая это нелегкая работа – растить лен!.. Помнило Дуняшу и это поле, где кудрявился сейчас русый лен. В голодную весну, сразу после освобождения, Дуняша пахала его, заброшенное и поросшее сорняком, запрягшись в плуг, чтоб посеять лен. И вместе с нею впрягались в плуг ее дочки – Маша, Надежда, Серафима…
Сосны на взгорке приблизились. Дорога отвернула вбок, оставив позади массив льна. Впереди темными волнами дыбился к небу лес, называемый с войны Партизанской чащей, где были ведомы Дуняше многие потайные тропки.
В стороне от дороги бродили по жесткой стерне кони, подбирали овес, оставшийся после уборки. Табун был невелик, голов десять, и несколько жеребят. Процессия двигалась тихо, оркестр не играл, но что-то насторожило коней. Кони сбились в кучу и, задрав головы, смотрели на дорогу. Впереди стоял старый рыжий жеребец Орлик. Вытянув длинную гривастую шею, он точно прислушивался к чему-то, глядя на шедших неподалеку людей. Потом осторожным шагом направился к дороге. Табун качнулся и потянулся за ним.
Кони молча стояли на обочине, когда мимо них проходили люди. А когда они прошли, Орлик сошел на дорогу, и весь табун медленно побрел за людьми.
Кони тоже вошли на неогороженное кладбище и встали в стороне от людей, под медными соснами. Сказал хорошие слова о Дуняше председатель колхоза. Заиграл и умолк оркестр. Сыновья и дочери, внуки и правнуки подходили к Дуняше прощаться. Кони недвижно стояли, словно их приковали цепями к земле и друг к другу. Но когда гроб закрыли крышкой и застучал молоток, Орлик вскинул голову и жалобно, тоскливо заржал.
– Смотрите, плачет!.. Орлик плачет!.. Старый конь заплакал!.. – зашептались вокруг.
Из больших и выпуклых, как сливы, мутно-черных глаз Орлика капали крупные слезы. Орлик взмаргивал широкими рыжими веками, и слезы текли быстрее. Плакала и молодая серая кобылица, к которой пугливо жался такой же серый, как она, жеребенок.
– Все-то они понимают, кони, – сказал, смахивая слезу, Митрофан Кузьмич. – Понимают, что добрый человек помер… На что пчела – и та… А это ж – кони!..
Люди засыпали землей могилу, положили венки, поставили столбик в изголовье и пошли к ожидавшим их автобусу и машине.
А кони остались. И уже никто не видел, когда они покинули кладбище. Лишь на другой день фельдшер сельской больницы рассказывал, что когда он вчера поздно вечером, уже при луне, возвращался на мотоцикле из города, то слышал, как в поле, в стороне кладбища, протяжно и жалобно ржали кони.
Туман
1Туман стал наваливаться с вечера, когда Николай повел товарняк на Гомель. Сперва в зеленоватых и уже по-осеннему жухлых ложбинках за насыпью зашевелились белые змейки, они свивались в клубки, пухли, как на дрожжах, заполняя собой и забеливая всевозможные впадины и вмятины на земле. Потом белесость поползла и по ровным местам, пустилась оплетать снизу кустарники и подошвы деревьев, а затем и вовсе оторвалась от земли и пошла паутиниться по веткам орешника и ольшаника, по стволам сосен и берез и просто по голому воздуху. Спустя какой-то час туман сплошь заполонил землю, седым морем разлился над нею, и в этом море черными кораблями всплывали хребты лесных массивов вдалеке и разноцветными катерками с белыми трубами выныривали крыши селений, мимо которых проносился тепловоз, трудно пробивая туман мощным светом прожектора.
Это была последняя поездка Николая перед отпуском, и складывалась она чертовски невезуче. Не из-за тумана, конечно. Хотя туман тоже не радость, ибо съедает световые огни, и ты так напрягаешь зрение, что в глазах колет иглами и прыгают черно-малиновые блошки. А вот уже в Гомеле, когда сдал состав, а заодно и тепловоз, другой локомотивной бригаде, у него началась стычка с дежурным по депо. У дежурного была своя задача: поскорее отправить его в обратный путь, поскорее вытолкнуть со станции прибывший из Минска товарняк, а у Николая своя: не принимать тепловоз, который ему подсовывали техосмотрщики, так как на нем не устранены неполадки (что было отмечено в журнале техсостояния), и требовать другой, исправный. Исправный он все-таки вытребовал, но канитель тянулась часа два, с обоюдными упреками и препирательствами.
Эти штучки с тепловозами хорошо известны машинистам. Раньше, когда ходили паровозы, бригада закреплялась за определенным локомотивом. Оттарабанили товарняк, скажем, в Бахмач, развернулись, подцепили другой состав и потянули его своим же паровозом в свое депо. Теперь тепловозы «ходят по рукам», теперь в чужом депо того и гляди, что обведут тебя за нос. Могут даже упрашивать слезно: ну, чего ты, дескать, ерепенишься? Подумаешь, неполадка – текут секции! Небось не вытечет все масло по дороге! Давай, друг, езжай!.. Вытечь-то оно не вытечет, но в своем депо тебе тоже шею намылят: зачем принял такую машину, почему не отказался? Словом, вот такая петрушка идет – «свои – чужие».
Короче говоря, Гомель он покинул в четыре утра, и тепловоз нырнул в туман, объявший теперь и землю, и небо, и так загустевший к тому часу, что казалось, будто машина не движется, а на месте крутит колесами, находясь в какой-то паровой камере, под паровым колпаком.
На первой же станции, какую он желал бы проскочить с ходу, ему дали красный свет, и снова получилась длительная задержка. Подбежал знакомый дежурный: «Коля, выручи, подцепи два вагончика, вторые сутки стоят!..» Голос – как у нищего, только что руку за подаянием не тянет. Видать, не одному уже машинисту кланялся насчет этих «двух вагончиков». Ну и он не может: у него состав, дай бог! – четыре тысячи тонн с гаком, критический вес. Возьмешь свыше критического, – опять же начальство стружку снимет. К тому же впереди, через два перегона, подъем. Пойдет встречный состав, остановят тебя на разъезде, потом, не дай бог, не возьмешь подъем, придется осаживать весь этот сверхкритический обратно на станцию.
«Ко-оля!..» – это уже с отчаянием. Да ведь все понятно! Ему ведь позарез нужно спихнуть с себя эти два вагона, иначе – неплановый простой, плохие показатели и прочее. «Ладно. С чем вагоны?» – «С цементом, Коля! Там всего-то – ничего: тонн сто, не больше!» На радостях сразу же и приврал: если с цементом, то верных сто пятьдесят. Это уже сверх всякого сверхкритического. Но все же взял. Договорились, что диспетчер до подъема даст ему зеленую улицу. Решил так: сегодня воскресенье, начальства в депо не будет, а с завтрашнего дня – он в отпуску. Разыскивать его для проработки не станут.
На подъем шел тяжело. Потом сверхкритический легко покатился с уклона, а дальше и по ровному профилю. А тут уже и рассвет процедился, стало малость веселее. Туман задымил в косых лучах солнца, начал понемногу растекаться в стороны от разрезавшего его тепловоза, уползать вверх и медленно истаивать, обнажая постепенно землю, на которой решительно все, от травинки до бетонных электростолбов, было мокрым, и на каждом предмете, на каждом листке и стебельке ртутью посвечивала роса. Но на подъезде к своему городку тепловоз снова попал в густое туманное месиво, наползавшее от реки, на берегу которой местился городок, целиком погруженный сейчас в туман.
Состав приняли на четвертый путь и загнали далеко, едва ли не к выходному семафору. Отсюда Николаю близко было к дому. Но требовалось еще сходить в дежурку, сдать маршрут, скоростемерные ленты, формуляр и прочее. На все это ушло минут сорок, и когда он шел домой, то наверняка знал, что на дверях его встретит замок. Его домашние, несмотря на туман, с рассветом унеслись на огород копать картошку. Он рассчитывал вернуться гораздо раньше и отвезти их на огород на мотоцикле с коляской (все их семейство прекрасно умещалось на этом мотосооружении). Так они и условились. Но раз он задержался…
Николай свернул с широкой песчаной улицы в свой переулок, по которому еще бродили остатки косматого тумана, и сразу же остановился, увидев женщину, которая сидела на лавочке подле его дома, повернувшись в его сторону, – видимо, ждала его. И как только увидела, принялась торопливо вытирать глаза кончиком головного платка и сморкаться в него.
Николай подошел к скамейке.
– Опять вы пришли? – с неприязнью спросил он.
– Колечка, больная я вся… Зима идет, а топлива нету. И хата валится… – Женщина смотрела на него снизу жалкими глазами и заталкивала под платок седеющие волосы. Платок на ней был давно не стиранный, туфли стоптанные, серый мужской плащ измят и в каких-то маслянистых потеках.
Николай вынул из кармана три красных бумажки (вчера перед поездкой помощник вернул ему долг), протянул ей деньги.
– Возьмите и уходите.
– Колечка!.. – Женщина поймала его руку и стала, обцеловывать ее.
Николай со злостью выдернул свою руку, ушел во двор, захлопнул калитку и набросил на нее крючок.
Дома, как он и предполагал, никого не было. На столе в кухне стояла приготовленная для него еда, покрытая льняным полотенчиком. Возле литровой банки с молоком лежала записка жены и распечатанное письмо от брата. Ленчик писал, что получил звание подполковника, а заодно и новое назначение: на Север, командовать авиаполком, и что перед отъездом туда заглянет на недельку к ним. А записка жены была коротенькой:
«Коля! Ты поспи и к вечеру приезжай к нам. Не забудь мешки, лежат в чулане. И как же теперь? Мы на юг хотели, а Ленчик приедет. Отменить юг?»
Есть он не стал, и спать ему не хотелось – уж больно муторно было на душе. Он сбросил форменную одежду, переоделся в старое, вышел во двор и огляделся, отыскивая себе какую-либо работу. Но никакой работы не нашел: все было ухожено во дворе, даже дрова на зиму они попилили и покололи с сыном на той неделе и загрузили в сарай. Он послонялся по двору, присел на козлы, стоявшие без дела у сарая, закурил. Солнце начинало припекать, от тумана не осталось и следа. Небо заголубело, воздух стал стеклянно-чистым, и осенний день пустился наливаться летней жаркостью.
Николай докурил, пошел в сарай и выкатил к крыльцу мотоцикл с коляской. Затем начал выносить из чулана и складывать в коляску сложенные вчетверо мешки.
2Огороды нареза́ли горожанам в северной части городка, на самой его окраине, и они узкими полосками сбегали по некрутой покатости к реке.
Николай провел мотоцикл по стежке меж двумя полосками и въехал, уже по вскопанному, на середину своего огорода, где высокой кучей была насыпана выбранная картошка.
Аленка первой бросилась к нему:
– Папка, папка, смотри, я быстрее бабушки подбираю! Она корзинку, а я две!..
Косички у Аленки растрепались, глаза блестят, блестят и зубы на загорелом, измурзанном лице, и вся она полна радостного волнения, что вот она не просто девочка Аленка, папина и мамина дочка, а уже помощница, не отстает от взрослых.
– Молодец, – сказал он дочке, слезая с мотоцикла. – Так и надо.
Надя и Толик тоже бросили копать, вонзили в землю лопаты. И мать Николая, Евдокия Семеновна, поставила корзину, разогнула спину. Лица у всех горели огнем, у Толика по голой бронзовой спине текли ручейки пота. И не удивительно: вон какой кусище с утра махнули! Толик сразу сел на ворох сухой ботвы, потянулся к бидону с водой. Совсем упарился парень. Телом-то он здоров, и самый рослый в своем девятом классе, а к физической работе не очень-то приучен.
– Ты почему так рано? Мы тебя к вечеру ждали, – сказала ему жена. – По-моему, ты не спал.
– Ладно, – махнул он рукой.
– Ну что за глупости? Неужели бы мы сами не справились? – Надя развязала косынку, недовольно встряхнула ее и снова набросила на голову. Была она невысокая и худенькая, сын на две головы перерос ее, и Аленка в свои десять лет почти догнала мать.
– И хорошо, что подъехал, а то бы мы и поесть не вспомнили, – сказала Евдокия Семеновна. – Пойдемте ополоснемся в реке да пообедаем.
– Идите, я поел, – сказал Николай, не желая ни есть, ни идти к реке.
Он взял из коляски мешок и начал сгребать в него картошку. Евдокия Семеновна с Толей и Аленкой пошли к реке, а Надя осталась возле него.
– Коля, что случилось? – спросила она.
– Ничего. А почему ты спрашиваешь? – ответил он.
– Неправда, ведь я чувствую, – сказала она.
– Ты всегда чувствуешь, – натянуто улыбнулся Николай. И объяснил: – Поездка паршивая была. Туман всю дорогу, а в Гомеле с дежурным схватился.
– И все? – удивилась Надя. – У нас тоже большой туман был. Ну как, по-твоему, хорошая картошка?
– Нормальная, – сказал он, ставя на землю мешок.
– А мы с мамой считаем, в прошлом году лучше была. – Надя с первого дня замужества называла Евдокию Семеновну «мамой». – Ну ладно… – сказала она и ушла к реке.
Брат Ленчик (для других он Леонид Васильевич, а для своих и теперь Ленчик) не раз говорил: «Бросьте вы с огородом возиться, картошки в магазинах хватает. Не хотите с сумками таскаться – закупите с осени, и будет в погребе лежать». А мать отвечала: «Такой в магазине не купишь, у нас свой сорт выведен. Да и как можно от огорода отказаться?» Срабатывала сила привычки. Еще в голодную пору войны нарезали им эту полоску у речки, и полоска исправно кормила и выручала их в тяжелые времена. Вот и привыкли к этому клочку земли, стал он как бы родным. И не в тягость он, не в обузу, нет. В этом есть своя особая прелесть: готовиться к посадке, вспахать, удобрить землю, потом сажать, окучивать, полоть. Видеть, как всходят растения, зеленеют, идут в рост, зацветают. И ты все время присутствуешь при этом, ты участник разумного цикла работ.
Картошка была хороша: крупная, розовая, без червоточинки. И уродила славно: судя по тому, что уже выбрали, полоска даст пудов восемьдесят. Зря Надя с матерью считают, что в прошлом году была лучше…
Николай специально старался думать о картошке, о приезде Ленчика, о его переводе на Север. Специально, чтобы отогнать от себя мысли о женщине в стоптанных туфлях и замызганном плащишке.
Он взял у Нади лопату, стал копать вместе с Толиком. Теперь за ними подбирали трое: мама, Надя и Аленка, и дело пошло быстрее. Правда, день разгорелся сухой и жаркий, солнце пекло во всю ивановскую. Но от реки несло спасительной влажной свежестью, остужавшей жару, и жара почти не ощущалась.
Когда копать осталось самую малость, Николай повез первые мешки с картошкой домой. Вместе выкатили мотоцикл по рыхлому на межу, а с межи – на твердую дорогу. Евдокия Семеновна с ребятами сразу же поворотили на огород, а Надя задержалась, спросила его:
– Все-таки что у тебя случилось? Только не притворяйся, будто ничего. У тебя все на лице написано.
– То и написано, что поездка дурная была, – ответил Николай.
– И поэтому ты сам не свой? – Надя недоверчиво усмехнулась.
– И поэтому и по другому. – Он не хотел говорить ей правду и сразу же придумал иную причину: – На юг собрались, а теперь что? Пока Ленчик приедет – вернулись бы. Так нет же! Сиди неизвестно сколько дома и жди, пока тебе в Конотопе отпускные начислят да сюда переведут. Придумали придумщики! Сто лет зарплату в своем депо начисляли и в срок выдавали, так кому-то в голову стукнуло новшество ввести. Это все равно, что в Киев через Сахалин ехать! А ты хочешь, чтоб я спокойным был, – сердито заключил он.
Все, безусловно, было верно. Новшество с начислением зарплаты, отпускных и так далее не на месте, а за сто километров от места, в Конотопе, где находилось отделение железной дороги, – это новшество никого не устраивало. Правда, считалось, что подобное нововведение принесло депо некий экономический эффект в виде некой экономии средств. Но морального, так сказать, эффекта не получилось, вернее же получился минус-эффект.
Однако не в этом было дело. И Надя это поняла.
– Хорошо, Коля, не хочешь говорить – не нужно. Поезжай, – Надя тронула его за плечо, повернулась и пошла по зарыжелой, выгоревшей стежке к своим.
Они управились с огородом лишь к темну и покинули свою полоску после того, как в костре отстреляла искрами, отгорела сухая ботва, обратившись в кучку золы. Николай сделал десять ходок на мотоцикле, перевозя домой картошку, и всякий раз, когда мотоцикл сворачивал в переулок, ему казалось, что женщина в мужском плаще и стоптанных туфлях сидит на лавочке у калитки.
Впервые он увидел ее два года назад. С тех пор встречал не более пяти-шести раз, когда она сама являлась к нему, вот так, как явилась сегодня, наверняка зная, что дома никого нет, а он должен появиться, или когда караулила его где-нибудь на улице. Ее появления терзали ему душу, он гнал ее прочь. Она надолго исчезала, он почти забывал о ней, но потом она вновь напоминала о себе.








