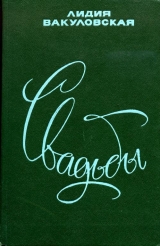
Текст книги "Свадьбы"
Автор книги: Лидия Вакуловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Святая Мария
В предутренних сумерках на городской площади собирался народ. Было сыро, прохладно, ветрено. Всю ночь шел ливень, с оглушительным громом и частыми молниями, неровности асфальта затянули лужи, неприметные в тусклом свете фонарей.
Четыре улицы лучами сходились к площади, четыре здания – кинотеатр, столовая, универмаг и банк – обрамляли ее, обратив окна к каменной трибуне, обсаженной низенькими елочками, позади которой за высоким бетонным забором постоянно погромыхивали поезда и на разные голоса выкрикивали в динамик свои распоряжения диспетчеры.
Люди подтягивались из сырых, слепых улиц на свет фонарей. Собирались долго, не меньше часа, так что вверху начало понемногу белеть. Ходили, шлепая по лужам, вокруг грузовиков, искали своих.
– Здесь финотдельских нету?
– Возле столовки!..
– Не знаете, где ателье собирается?
– Ателье? Понятия не имею!..
– Здравствуйте, Анна Егоровна. Тоже на картошку?
– На картошку. Здравствуйте. В «Красный луч». Наших ищу.
– Мы тоже в «Красный луч».
– Да все туда сегодня!..
В столовой ярко светилось большое квадратное окно – круглосуточно работал буфет для железнодорожников. Там толпились мужчины, запасались куревом. Торговля шла прямо из окна. Возле машин ответственные за сбор проверяли, все ли на месте.
– Кого нету?.. Петровой нету? Безобразие!.. – срывался на фальцет мужской голос.
– И не будет, сапог резиновых не достала! – отвечал женский голос.
– Сапоги не оправдание, справка от врача оправдание! – возмущался фальцет.
Фальцет принадлежал хлебомесу городской пекарни Стрекозе – костлявому мужчине с длинным горбатым носом, достававшим своим загнутым концом прямо до нижней губы. Стрекоза был известен тем, что всегда возглавлял в пекарне всякие общественные мероприятия.
– Авдеенко не ждите, жена заболела!.. – слышалось в другой стороне.
– А когда Авдеенко сознательность проявлял? – нервничала пожилая машинистка райисполкома Пищикова, которая была ответственная за сбор финотдельцев и фармацевтов. – Я этого так не оставлю! Мы его на исполкоме разберем! – обещала она, похаживая возле грузовиков и нервно затягиваясь папироской «Север».
На станции маневровый паровоз с пронзительным свистом выпускал пар, из-за трибуны на площадь выползало шипящее белесое облако. По ту сторону облака волновался динамик:
– Старший кондуктор сто пятого, бегом зайдите в дежурку!.. Старший кондуктор сто пятого…
Наконец поехали.
Десять грузовиков затряслись по булыжнику в сторону железнодорожного полотна – мимо бревенчатых складов «Заготзерно», мимо открывшегося полотна железной дороги, где в тупиках черным стадом сбились старые, отжившие свой век паровозы и поврастали в землю дощатые, поросшие мхом вагончики, в которых жили холостяки-путейцы. Мимо непросыхающего болотца по другую сторону дороги, мимо сменившего болотце орешника – высокого и бесплодного.
В машинах – по двадцать человек на скамейках, а всего – двести: счетоводы, бухгалтеры, почтальоны, машинистки, инспектора, словом, в основном конторские работники райцентра. Мужчин мало, больше женщин – в платочках, в телогрейках, в старых пальтишках, в резиновых сапогах, в мужских ботинках.
Возле шлагбаума остановились, пропуская длинный товарняк с цистернами. Машинист в форменной фуражке с высоким околышем высунулся из тепловоза, взмахнул рукой:
– Привет труженикам полей!
С передней машины подхватилась молоденькая женщина, озабоченно крикнула:
– Ваня, вернешься раньше – ужин сготовь!
Но Ваня-машинист уже отвернул лицо к поднятому впереди семафору, женщина засмущалась, села на место, а в машине задвигались, заговорили, дыша седым парком:
– Зачем тебе ужин? На поле наобедаешься и наужинаешься!
– Нас тоже предупредили, что обед колхозный!
– Само собой, не гулять едем!..
Протарахтел последний вагон. Полосатый шлагбаум скакнул вверх – поехали!
Совсем посветлело. Но вскоре стемнело опять – свернули в лес. Потянулась узкая, петлями дорога, сдавленная с боков могучими соснами. Сосны росли вольно, не тесня друг друга, толстокорые, строго вертикальные, и вся земля под ними была густо притрушена ржавой хвоей, по ней чернели съежившиеся после дождя шишки. Вдоль высоких обочин краснело множество мухоморов – точно игрушечное войско в кровавых шлемах.
Машины качались в растрепанной колее, как лодки в волнах, то ныряя капотами в глубокие мутные лужи, то вспрыгивая на взгорки. При каждом сильном толчке в кузовах вскрикивали, хватались руками друг за друга. С веток, царапавших по кабинам, на головы и лица градом осыпались холодные капли.
Потом выскочили в поле. На черной, вспаханной под пары землей забелел наезженный, твердый и гладкий большак – покатили, как по асфальту. Наконец впереди, в низинке, открылось большое село: беленькие украинские хаты в садах, плетни на околице, а поверх хат и садов – телевизионные антенны и верхушки колодезных журавлей.
В селе было тихо и пусто: ни людей, ни скотины, ни собак, хотя в хатах уже топилось, и острый, сладковатый запах древесного дымка щекотал ноздри.
Проплыл сельмаг с пудовым замком на дверях, школа на высоком фундаменте, с голыми лупастыми окнами, каменный мосток через грязную, в коровьих лепешках канаву, поросшую кудлатыми вербами. Проплыло колхозное подворье, в зарослях лопухов и крапивы, где стояли, разбросав оглобли, телеги, и ржавые бороны, и трактор, по кабину залепленный глиной. А дальше – копанка в разводьях мазута. Две рябенькие утки полоскались в ней, поклевывали тупыми носами ряску.
И снова замелькали белые стены в вишенниках, ярко-голубые и оранжевые наличники окон, крыши цинковые, толевые, соломенные – под старыми грушами, под сизыми дуплистыми тополями.
Миновав колхозную контору, передние машины резко затормозили. На высоком крыльце конторы, под навесом, стояли, встречая приехавших, четверо мужчин: председатель «Красного луча» Петро Демидович Грудка и бригадиры. Низкорослый, круглый, как бочка, Грудка вскинул в приветствии руку и хриплым, должно быть с простуды, голосом крикнул, чтоб слышали все:
– Драстуйтэ, товарыши горожане! Спасибо, шо приехали! – Он опустил руку и, трудно сгибаясь, поклонился на две стороны.
– Здравствуйте… Пожалуйста… – нестройно и вяло ответили из машин.
– Щас подъедем за лопатами – и на поле! – прокашлявшись, громко объявил председатель и, по-утиному вперевалку, сошел с крыльца.
За ним не спеша сошли бригадиры, направляясь к притуленным к заборчику велосипедам с вышарканными седлами.
Под окном конторы мотал хвостом сивый, запряженный в двуколку жеребчик, объедал ветку акации. Грудка ловко перевалил в двуколку свое грузное тело, натянул вожжи. Бригадиры быстро погрузили в машины велосипеды, повлазили в кузова.
Снова зачихали, заурчали моторы. Снова поехали. На зеленом выгоне под низкими вербами развернулись назад, на колхозное подворье, за лопатами, ведрами, вилами. Впереди машин резво бежал сивый жеребчик, круто выгибал тонкую шею и заливисто ржал.
Инвентарь разобрали быстро. Побросали в машины, развернулись, опять поехали. За селом притормозили – пастух, щелкая кнутом, сгонял с дороги пестрое стадо неповоротливо-ленивых коров. Потом дорога завертелась по скошенному полю, по березовому душистому леску, тронутому осенним увяданием, перепрыгнула через речушку, заскакала по холмам.
А вот и картофельный участок – необозримая площадь серого песчаника, еще недавно покрытого темно-зеленой ботвой, ныне усохшей до черноты. Далеко слева тянется длинная полоска кустарника, справа, на оголенном горизонте, пузырятся скирды, впереди темнеет лес, за чубатой гривой которого осталась усадьба «Красного луча».
Бригадиры и старшие в группах шагами отмерили каждому норму – узкую полоску от дороги до самого леса, площадью примерно в двадцать соток.
Люди рассыпались цепью и пошли, склоняясь и разгибаясь, по рыхлой земле, выворачивая лопатами облепленные клубнями корни. Женщины копали, носили ведрами и корзинами картошку, ссыпали в кучи, мужчины вилами грузили в машины. Перекликались, сыпали шутками, подзадоривали друг друга. В разных концах поля то вспыхивала, то обрывалась песня. К одиннадцати утра пять машин повезли картошку в дальнее село, за железную дорогу, – сдавать на спиртзавод, другие пять встали под погрузку.
А солнце не по-сентябрьски ярилось, палило кожу, прожигало спины, воздух раскалялся, тяжелел. Пить, пить – нестерпимо всем хотелось пить!.. С надеждой поглядывали в сторону далекого дуба при дороге, за которым еще утром скрылся на двуколке под резвым жеребчиком Петро Демидович Грудка, а за ним и бригадиры на велосипедах. Грудка обещал «сию минуту» прислать водовоза с бочкой воды, а к трем дня – «борща з бараниной та груш на закуску». Но пусто было на дороге, где томился в солнечном мареве ветвистый дуб. И люди с легкой досадой, со смешком перекрикивались:
– Где же их вода?
– Улита едет – когда-то будет!
– Родничок бы поискать!
– Родничок в таких песках? Да тут Днипро пересохнет!
– Надо же, и бригадиры укатили!
– Куда иголка – туда и ниточки!..
Но цепь не рассыпалась, цепь все дальше продвигалась от дороги к лесу, все выше вздымались горки картошки, розовой и желтоватой, и все так же перехлестывались в жарком воздухе голоса. И когда солнце раскаленным шаром зависло на самой середине неба и совсем стало нечем дышать, кто-то крикнул так, что заломило в ушах:
– Во-ода-а-а!.. Bo-ода е-е-еде-ет!..
Тогда цепь дрогнула, разломилась – все побежали к дороге, утирая на ходу платками и подолами кофточек потные, горячие, грязные лица.
Однако то, что кто-то по причине плохого зрения или марева принял за водовозку, оказалось легковой машиной. «Волга» стремительно приближалась, все дальше оставляя за собой одинокий дуб и заволакивая его тучей пыли. Одни перестали бежать и повернули обратно, другие по инерции продолжали брести к обочине.
«Волга» шла на хорошей скорости и промчалась мимо, подняв над дорогой плотную дымовую завесу. Но те, кто оказались у дороги, уже не спешили воротиться назад, а принялись снова осуждать председателя Грудку и острить по поводу такого его нехорошего поведения. Но, как ни странно, говорили о нем без злости, а в шутливом и веселом тоне. Говорили и сами же посмеивались:
– Грудку солнышко растопило – шибко жирный он!..
– Грудка груши на обед нам трусит!..
– Поскакал на вороном затычку к бочке искать. Да, видать, не нашел, так новую в кузне клепает!..
Но машинистка Пищикова, болезненная с виду женщина, с зелеными навыкат глазами, не приняла этого тона.
– Не затычки, а уважения к людям у этого Грудки нет! – раздраженно сказала она, передернув худыми плечами. – Вот мы его на исполкоме проработаем!
– Ах, Ольга Павловна, перестаньте, – вежливо сказал ей часовщик из «Бытремонта» Лейкин. – Можно подумать, что вы не машинисткой там сидите, а целый день исполком за председателя проводите.
– А это, Яков Соломонович, не ваше дело, где я сижу, – отвечала ему Пищикова, нервно раскуривая папироску «Север».
– Где мне надо, там и сижу. Я в ваши часы не лезу, и вы ко мне не лезьте.
Чернявая женщина, с глазами-смородинами на чистом румяном лице, ласково сказала Пищиковой:
– И чего это вы, женщина, серчаете? Он же вам ничего обидного не сказал.
– Вот именно! Все слышали, что я вам ничего такого не сказал! – вежливо развел руками Лейкин. – Это вы, Ольга Павловна, нервничаете на меня потому, что ваша Аллочка провалилась в институт, а наш Миша сдал на круглое пять, хотя они вдвоем готовились и дружат. Но при чем же я? Каждый понимает, что я совсем ни при чем.
– Ах, Яков Соломонович, не лезьте к моей Аллочке, а то я вам сейчас кое-что скажу!.. – нервно ответила ему Пищикова.
– А что вы мне такого можете сказать? Мы с вами двадцать лет соседи, так я вам могу похуже вашего сказать! – возвысил голос Лейкин, утрачивая прежнюю вежливость.
В это время высокая девушка в коротюсенькой юбочке, искавшая что-то в траве, резко выпрямилась и весело сказала:
– Между прочим, вы ссоритесь, потому что не подвезли воду. Это, так сказать, побочная реакция. Но, честное слово, в жару пить вредно. По-моему, председатель правильно делает.
– Тогда зачем же ты сама сюда прибежала? – спросила Пищикова, глядя на девушку уничтожающим взглядом.
– Между прочим, не «ты», а «вы». И я, между прочим, заколку потеряла. И, вот видите, нашла ее.
Девушка показала Пищиковой золотистый зажим, тут же воткнула его в распадавшуюся копну рыжеватых волос и, блеснув белыми зубами, легко, почти вприпрыжку пошла прочь, дерзко запрокинув рыжеватую копнистую голову.
– Это что еще за птица? – выкатила и без того крупные зеленые глаза Пищикова. – Посмотрите, какая на ней юбка! Это же стыд и срам!
– Так это ж Тонька, сродственница моя, – фальцетом отозвался горбоносый тестомес Стрекоза, удивляясь, как это Пищикова, которая всегда обо всем осведомлена, не знает его двоюродной племянницы.
– И где она, интересно, у нас работает? – строго спросила его Пищикова.
– Как это – где работает? – Еще больше удивился Стрекоза. – Да она ракетами для засылки на Луну занимается.
Тут как-то сразу все оживились, обступили Стрекозу и наперебой стали спрашивать:
– Ракетами?! Да не может быть!.. Чтоб такая пигалица – ракетами?..
– Да что я вам, брехать буду? Математичка она, – стал гордо объяснять Стрекоза. – Она в одной академии училась, а теперь ее засекретили.
– Позвольте, позвольте, да как же она сюда попала? – принялся насмешничать Лейкин, ни на йоту не веря Стрекозе. – Насколько я вижу, здесь картошка растет! Или, может быть, вы скажете, что это ракетодром Байконур?
– Так она ж у своей тетки отпуск гуляет. Считайте, у моей сестры двоюродной. За нее и на картошку поехала, – с той же гордостью объяснял Стрекоза. – Во-он они с мужем лопатят за машинами, видите? А он у нее физик какой-то, тоже засекреченный.
– Ах, вот как! – похоже, поверил ему часовщик Лейкин. – Тогда, я вам скажу, это почище, чем певец Полухин, который из Киева к брату приезжает!
Пищикова докурила папироску «Север», бросила на землю окурок, придавила его носком резинового сапога и сказала:
– Пускай они себе Луной занимаются, а нам пора картошку копать. Прошу всех разойтись по рабочим местам! – и первой зашагала на поле.
Когда начала спадать жара и день покатился к вечеру, стало ясно, что ни воды, ни «борща з бараниною» не будет.
Солнце изменилось. Еще недавно пыжившееся блеском, поливавшее землю жаром, оно притуманилось, съежилось и по-осеннему вяло садилось на лес. Темп работы спал. Не слышалось ни шуток, ни бездумной веселой переклички. Люди, жадно кинувшиеся с утра в непривычную работу, порядком устали. Лопаты отяжелели, ведра казались набитыми камнями. И все чаще присаживались отдыхать, все труднее подымались после отдыха. Мужчины без конца курили, стараясь табаком приглушить неприятные позывы голода. Женщины ладились печь картошку в дымных костерках из бурьяна, но из затеи ничего не выходило: бурьян не давал нужного жару… А до конца поля, до нормы в двадцать соток было еще далеко, хотя лес приблизился, стоял почти рядом, посвечивал белыми стволами берез, полнил воздух запахом осеннего тления…
Возвращались в сумерках. Солнце уже село, из-за скирд красным колесом выкатывалась луна, полыхала обманчивым жаром. На взрытом, перекопанном поле холмились прикрытые бурьяном бурты картошки – в субботу спиртзавод рано окончил прием и часть картошки оказалась невывезенной.
Протряслись лесом, выскочили на большак. Ветер свистел в ушах от скорости, с какой шоферы гнали машины. Быстро темнело. Оранжевыми огоньками обозначились впереди окна хат.
Село встретило разливом баянов и песен. В саду первой же хаты с десяток голосов громко и протяжно выводило:
Ой, гиля, гиля, гусоньки,
Та й на став.
– Добрый вечир, дивчино,
Бо я щэ нэ спав…
Во дворах, среди деревьев, мелькали белые рубашки, слышались громкие разговоры. Сени многих хат были распахнуты, на землю падали длинные, яркие полосы света. Из сеней вырывались и шум, и топот, и смех. Где-то на левом краю села кто-то одинокий, деря горло, не пел, а выкрикивал: «Гоп, кумэ, нэ журыся!..» А в самом центре села, возле магазина, закрытого, как и утром, на замок, голосил, разрывался баян, и под фонарем, на выбитом, затоптанном муражке, плясала, пела, лузгала семечки, грызла яблоки веселая, разряженная толпа.
Я кустюм соби купыла,
Самогону наварыла,
А вин, хижый, нэ прийшов,
Бо другу соби знайшов… —
лихо отбивала, втоптывая в землю каблуки высоких полусапожек, полная молодичка. А толпа вокруг, прихлопывая в ладоши, дружно выдыхала:
– Ох-х!.. Ох-х!.. Ох-х!..
Машины притормозили на повороте, кто-то из кузова язвительно крикнул:
– Что за праздник идет – свадьба или похороны?
– Пречиста сегодня!.. Храм гуляем!.. Спрыгуйтэ до нас!.. – закричали в ответ, замахали руками из толпы.
Машины одна за другой проезжали мимо магазина под заливистый перебор баяна, под гулкое оханье и притопывание, под горластую песню неутомимой плясуньи-молодички:
Ох, ричка-вода,
Червона калынка!
Полюбыла одного,
А у нього жинка!..
И опять в машинах оживились, заговорили, а Тоня-математик с непонятным волнением спрашивала:
– Объясните, пожалуйста, что такое пречистая? Судя по сочетанию слов – очень чистая?
И несколько голосов разом отвечали ей:
– Пречистая Дева Мария! Непорочная!..
– Две пречистых Марии было: первая и вторая!..
– Это, кажись, Первую гуляют!..
– От нее Иисус Христос родился, что ли?
– А то от кого ж! Она святая была…
– Витя, ты слышишь? – дергала Тоня за рукав мужа-физика, крепкого, загорелого парня с борцовскими плечами.
– Угу-у, – басил он, и тоже спрашивал: – Только я не пойму: почему же праздник? В честь этой самой Маруси?
И опять отвечали, кто как мог, но уже ему:
– Именно – Маруси! «Маруся отравилась – везут ее домой!..»
– Церковь когда-то в селе в честь девы Марии поставили. С тех пор каждый год празднуют!
– В каждом селе своя церковь, в честь разных святых. И в каждом селе свой храм гуляют, поминая этого святого!
– Бросьте, кто теперь в церковь ходит! Одни старухи. А храмы вовсю шумят! – недовольно говорил мужчина с широким лицом и двумя золотыми зубами во рту. – В некоторых селах по три храма в год умудряются справлять!
– Неправда, церковь в честь одного святого ставили – Павла, Николая или еще кого…
– Бросьте, – недовольно возражал тот же мужчина. – Давно забыли и святых и грешных! Погуляют тройку дней в свое удовольствие – и точка!
– Если на всю неделю не зарядят!
– Неужели на неделю? Витя, ты слышишь? – дергала Тоня-математик за рукав мужа. – Я никогда в жизни такого праздника не видела!
– Идиотизм! Они гуляют, а мы – на картошку! – надтреснутым голосом проскрипела машинистка Пищикова, и лицо ее, выхваченное в этот миг светом уличного фонаря, исказила презрительная гримаса. – Вот мы их проработаем!..
Неожиданно передняя машина остановилась. Там что-то стряслось: все повскакивали со скамеек, слышались смех и крики. И громче всех кричал своим удивительно-пронзительным фальцетом Стрекоза:
– Товарищ Грудка!.. Алло, Грудка, минуточку!.. Куда инвентарь скидывать?..
Другие машины тоже остановились. Люди подхватились с мест, но ни видеть, ни понять, что происходит впереди, не могли.
А впереди по дорожке вдоль забора, назад во двор, откуда только что вывалилась развеселая компания, давал стрекача Петро Демидович Грудка. Праздничные градусы помутили ему голову, и бедолага Грудка совсем не соображал, что бежать под светом фар, да еще в освещенный двор, как раз и есть тот шикарный фокус, который может развеселить даже мертвого. Он бежал, по-утиному переваливаясь, выписывая короткими ногами в пузырящихся галифе кренделя, растопырив руки и низко пригнув широченную спину, полагая, должно быть, что с пригнутой спиной он совсем не виден. Глядя на этот бег председателя, закатывались, схватившись за животы, не только горожане, заливалась смехом и компания, от которой, завидя машины, оторвался Грудка.
– Хи-хи-хиххх!.. Хи-хи-хиххх!.. – петухом заходился и по-петушиному взмахивал руками низенький, щуплый дядечка с обвислыми усами, в соломенном, не по сезону, бриле.
А другой, здоровенный, чубатый дядька в пиджаке, косо накинутом на вышитую сорочку, медным басом вторил:
– Го-го-гохх!.. Го-го-гохх!..
Потом низенький замахал шоферу и, давясь смехом, прокричал что-то такое, из чего можно было кое-как понять, что сгружать инвентарь нужно там, где брали, и что он туда «щас добижить».
Он действительно появился на колхозном подворье как раз в ту минуту, когда туда въезжали машины, – маленький, веселенький и ужасно говорливый.
– Звыняйтэ, товарышочки, звыняйтэ, родненькие! Таке дело – храм у нас! – веселым тенорком сыпал он, распахивая широкие двери сарая. – Сюды, сюды нэснть!.. Та скидайтэ их, як попало, посля разбэремся!.. Родненькие, вы ж тильки з собою лопат нэ бернть, бо все, як одна, на мэни числяцца!.. Ох, звыняйтэ, родненькие!..
Электричество на подворье не горело, но луна уже давно из красной сделалась ярко-голубой, вошла в силу, и таким чистым сиянием залила двор, что даже там, куда не достигал свет фар, все до капельки было видно. И в эту лупу, в это подворье с телегами и боронами, в это полыхание льющегося с неба серебра как-то очень ладно вписывалась щуплая фигурка подвыпившего, разливавшегося тенорком кладовщика:
– Спасибо ж вам, ой, спасибо, товарышочки! Ой, як вы нам помоглы! Сказано – шехвы! Шехвы завсегда нас выручать!.. Та сюды их кидайтэ, ци лопаты, холера з нымы!.. – не утихал он ни на минуту.
И может, потому, что голос кладовщика так чисто вызванивал, не позволяя ни перебить, ни заглушить себя, или потому, что весь он, со своими усами, сбитым на затылок брилем, в своем сюртучке-коротышке непонятного покроя, казался фигурой нереальной, а выскочившей из старинной украинской сказки, может, оттого никому не хотелось спрашивать кладовщика, почему не привезли на поле воду и почему «родненьких шехвов» оставили голодными на тяжелой работе.
Совсем о другом спросила его Тоня-математик. Она внесла в сарай охапку лопат, аккуратно положила их на гору других, отряхнула свою коротенькую юбочку, поправила копну рыжеватых волос и подошла к нему.
– Скажите, пожалуйста, храм это национальный праздник? – с непонятным волнением спросила она.
– А як же ж, золотцэ! – радостно воскликнул кладовщик, сбивая свой бриль с затылка на ухо. – Щэ й який празнык!
– И всю ночь на улицах гуляют?
– И на вулыцях и по хатам! Дэ хто хочет, там и гуляе! – радостной скороговоркой отвечал кладовщик. – И сьодня и завтра гуляем… А як же ж, золотцэ!
– Спасибо, – озорно сказала Тоня-математик.
Когда машины снова вырулили с подворья, кто-то заметил девушку в коротенькой юбке и ее мужа, быстро пересекавших залитый луной двор. Их окликнули, думая, что они побежали к хатам попить воды или вымыть руки и не видят отъезжавших машин. Но те оглянулись, помахали руками и прокричали:
– До свидания!.. Мы на храм!..
Взявшись за руки, они выбежали на отливавшую голубым стеклом дорогу и растворились в скользящем голубом мерцании. И там, в той стороне, где они исчезли, разлилась песня:
Мисяць на нэби, зиронька сяе,
Выйды, дивчино, сердцэ благае…
Село гуляло, танцевало, пело…
По светлой лунной дороге светлым лунным вечером возвращались в город машины. Те, кто ехал на передних, нет-нет да и заходились смехом, вспоминая, какого стрекача давал Грудка. Но и те, кто ехал на других машинах и не видел этого чуда, тоже повеселели от сознания того, что уже совсем близко осталось до дома, до теплой воды с мылом, до ужина и крепкого сна. А тут еще луна светила сумасшедшим светом, ворожила на звездах, как на картах, тасовала их на небесном бархате, сгребая меленькие звездочки в серебряные кучки, а крупные разбрасывая беспорядочно, как полтинники, по синему небесному столу. И этот колдовской свет вливался в глаза и сердце, очаровывал и заставлял забыть о всякой усталости, обволакивал душу тихой умиротворенностью.
Этот свет проник и в душу машинистки Пищиковой, стал покачивать и убаюкивать ее. Она прислонила к чьему-то плечу голову и медленно погрузилась в полусон. И тогда увидела, как с неба слетает Дева Мария, как опускается она на лунную дорогу и легкой поступью идет навстречу несущимся машинам: высокая, в коротенькой юбочке, с огромной копной развевающихся рыжеватых волос и с таким же озорным лицом, как у Тони-математика. Она шла по дороге, становясь все более видимой, и все более различимым становился в ее руках большой светящийся кувшин, доверху наполненный переливавшейся ключевой водой.
И Пищикова блаженно улыбалась в своем лунном полусне.








