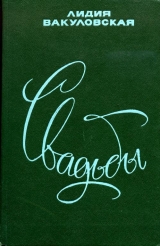
Текст книги "Свадьбы"
Автор книги: Лидия Вакуловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Молния вонзилась в окна внезапно, опалив «залу» резким белым огнем. И сразу зашумел под ветром сад, забились о крышу ветки яблони, со стуком запахнулась и снова распахнулась створка окна. И лишь потом орудийным раскатом ударил гром, и пошел, пошел стрелять из своих небесных пушек, подгоняемый огнем частых молний. Шум деревьев, стук падавших яблок, треск грома слились с гулом хлынувшей сверху воды.
Мадам Дюрвиль подхватилась с постели и стала закрывать окна, зажмуриваясь и пригибаясь при каждой вспышке молнии. Она вдруг вспомнила, что мама всегда закрывала в грозу печную трубу.
– Вера! – позвала она. – Гроза! Надо прятать трубу! – Ей не пришло сразу на ум слово «закрыть», и она сказала «прятать».
Но Вера спала крепко и не отозвалась.
Она не стала искать под кроватью шлепанцы, поскорей пошла на кухню, натыкаясь в темноте на стулья, нашла на ощупь табуретку, подставила ее к печке, взобралась на нее, открыла верхнюю печурку и зашарила рукой в печном проеме, отыскивая заслонку.
А на дворе гудело, гремело и сверкало все сильнее. Ливень барабанил в окна и в наружные двери, точно требовал, чтоб его впустили в дом.
Она вышла в сени, приоткрыла дверь во двор. Ее обдало ветром и брызгами. Ветер был сильный, но теплый, и брызги были теплыми. И сам ливень был теплый: она протянула руку, и в ладонь ей ударили тугие теплые струи. Но саду было тяжко в этой ливневой теплоте. Сад стонал, терзаемый ветром и струями. Молнии на мгновенье озаряли дальние и ближние деревья, или половину дерева, или высвечивали только макушку, и тогда было видно, как бьются друг о друга черные мокрые ветки, как мечутся и дыбятся крупные листья, как раскачиваются и падают яблоки, резко-белые даже в темноте, похожие на большие бильярдные шары.
Она долго стояла в дверном проеме и смотрела на бушевавшую грозу, не испытывая никакого страха перед громом и молниями, а напротив, испытывая щемящее наслаждение, какой-то светлый душевный подъем. Ее тянуло выбежать под ливень, запрыгать, как в детстве, на одной ножке и, запрокинув к небу голову, дурашливо закричать:
Дождик, дождик, припусти!
Бабу с поля прогони!
Баба будет удирать,
А мы ее – догонять!..
Никто из домашних так и не проснулся от мощного грозового гудения: ни Вера, ни Жанна, ни спавший в сарае Антон с сыновьями.
Наконец гроза выдохлась: ветер пропал, лить перестало, небо просветлело. Только капли все еще падали с листвы. И тогда мадам Дюрвиль как была босая и в длинной сорочке, так и сошла с крыльца на раскисшую тропку, ведущую в глубь сада. Колкий острый холодок мгновенно обжег ступни, и у нее похолодело сердце. Но это быстро прошло, ей стало приятно идти по влажной, прохладной земле.
Гроза по-разбойничьи обошлась с садом: вся земля под деревьями была усыпана яблоками и грушами. Нежный белый налив потрескался и развалился при падении, и жаль было смотреть на побитые, изуродованные яблоки. Бульдожистые груши и краснобокий пепин-шафран, хотя их и много нападало, были, на удивление, все целехонькие. А с крепкой, только наливавшейся антоновкой ветер и вовсе не совладал: с дерева сорвалось лишь несколько червивых, спекшихся яблочек.
Теперь мадам Дюрвиль уже знала, что крыша на домике другая, другое крыльцо, другой, перестроенный, сарай и другой сад. Прежний сад вымерз в последнюю военную зиму, посадили новый, и он за тридцать лет вошел в полную силу. Но ей казалось, что это тот же сад, памятный ей с детства. Оттого казалось, что новые деревья высадили по сортам на тех же местах, где когда-то росли убитые морозом. Вишни «шпанка», как и прежде, густенько тянулись вдоль всего забора. У сарая высоко и ровно вытягивалась вверх толстокорая груша-дюшес. Рядышком стояли три присадистых дерева пепин-шафран, с круглыми, шарообразными макушками, а за ними вольно и широко разбрасывала ветви антоновка-белый налив, унизанная тяжелыми шарами-яблоками. И это дерево, как и другие, походило на прежнее: такие же увесистые восковые яблоки, такие же корявые ветви, такой же короткий, изогнутый комель. Все в этом саду было таким, как сохранила память…
Тропка вывела ее из сада в огород, полого спускавшийся к лугу, за которым текла речка Змейка. Мадам Дюрвиль прошла в самый конец огорода, где росла уже отцветшая голубенькими цветочками картошка, и остановилась у изгороди, сбитой из длинных, продольно и редко поставленных жердей, – только для того, чтоб с луга в огород не забредала скотина.
За рекой всходило солнце, мягкое и желтое. И все вокруг вдруг стало ярко желтеть: поваленная ливнем высокая луговая трава, полоска реки, скирды сена на противоположном берегу и мысок леса вдалеке. Какая-то девочка выгоняла на луг большое стадо белых гусей. Гуси с гоготом, чуть приподняв крылья, бежали к реке, а за ними бежала девочка с хворостинкой в накинутом на плечи длинном, похоже отцовом, пиджаке.
Эта девочка напомнила ей былое: вот так же и она выгоняла когда-то на зорьке гусей, набросив на себя какой-нибудь старый папин пиджачишко. А Зина Маслюченко выгоняла своих, и Надя Дворник, и Даша Криница… А днем, забыв про гусей, они убегали по берегу речки на Чертов Яр, ныряли там под крутым обрывом и доставали из водяных нор раков, больно хватавших клешнями за пальцы. За речкой, где теперь холмятся скирды свежего сена, тогда сеяли пшеницу, и все школьники после уборки комбайнами выходили с полотняными мешочками собирать колоски. Надин брат Митя Дворник всегда крутился возле нее и отсыпал в ее мешочек свои колоски. В восьмом классе, когда уже началась война и они копали на поле колхозную картошку, Митя поцеловал ее, а она так толкнула его, что он упал и до крови разодрал щеку. Той же осенью в село вошли немцы. Митя с отцом и старшим братом убежали в лес искать партизан, а зимой в селе была облава. Зина Маслюченко успела удрать, а другие не успели, других согнали в свинарник, погнали колонной в Прохоровку, посадили вместе с коровами в эшелон и повезли в Германию. И ее, и Надю Дворник, и Дашу Криницу, и еще многих девчат…
Приехав сюда, она узнала, что Надя сразу после войны вернулась из немецкого плена и сейчас учительствует где-то под Киевом. А Митя стал капитаном корабля, живет на Севере, у него трое детей.
Мадам Дюрвиль тяжело вздохнула. И тут же обернулась, услышав позади легкие шаги. По тропке к ней шла мама, в темной жакетке и белом платочке на голове.
– Маня, дочечка, зачем же ты разутая вышла? – забеспокоилась мама. – Не то загрипповать хочешь? Теперь это скоро делается. Пойдем в хату, там уже все повставали. Тебе ж в дорогу скоро. – Мама положила свою легонькую руку ей на плечо и погладила.
Она обняла маму и приклонила к себе ее голову. Так они и стояли, прижавшись друг к другу. В эту минуту ей хотелось, чтобы мама сказала: «Останься, Маня. Не уезжай». Но мама не сказала этого. Видимо, понимала, что все равно она уедет.
4На поезд ее провожала вся многочисленная родня: малые и большие. Набралось человек двадцать, для чего пришлось вызвать из Прохоровки три такси в подмогу Фединому «Москвичу». Пока ожидали на перроне прибытия поезда, мадам Дюрвиль крепилась и только говорила, что не может взять с собой все гостинцы, которые наготовили ей в дорогу родственники и которые громоздились теперь на перроне пирамидой из эмалированных ведер, оплетенных лозой бутылей и корзин со всякой съедобиной в виде домашних, залитых смальцем колбас, копченостей, майского меда, сушеных грибов, молоденькой фасоли и так далее. Она уверяла, что при досмотре на таможне ее не пропустят с таким тяжелым грузом. Но родственники, совершенно не зная таможенных порядков и не желая их знать, только руками махали и весело отвечали, что все будет в порядке.
Родственники были возбуждены и оживлены (не исключено, что и по причине выпитой под грушей прощальной чарки), громко шутили и переговаривались. Брат Федя, широкоплечий красавец, прокаленный солнцем в своих бесконечных поездках по совхозным полям, говорил своему пышноусому дяде, брату покойного отца, что на будущий год возьмет отпуск и покатит прямо в Париж на своем «Москвиче». Дядя Филипп согласно кивал, подкатывал рукава вышитой сорочки и, посмеиваясь в рыжеватые усы, советовал Феде хорошенько проштудировать заграничные правила движения автотранспорта, чтоб не случилось какой аварии. Двоюродная сестра Паша, заведовавшая в совхозе молочной фермой, вспоминала и никак не могла вспомнить названия недавно прочитанной книги о знаменитом парижском художнике.
– Гриша, ну как же она называется? – дергала она за руку своего мужа. – Ну, подумай хорошенько!
– Да отчепись ты со своей книжкой! – добродушно отвечал он. – Сама читала, а я обязан помнить!
Сыновья Антона Костя и Виктор, давно нашедшие с Жанной общий язык с помощью тоненького русско-французского словаря, увели Жанну к газетному киоску и снабжали ее в дорогу журналами в цветных обложках, которых она, естественно, не могла прочесть, могла только разглядывать в них картинки. Младшие родственники, принаряженные девочки и мальчики, все с букетами в руках, сбились на кромке перрона и выглядывали поезд. Зина Маслюченко, тоже пожелавшая проводить до Прохоровки давнюю подружку, напористо и твердо говорила ей:
– Мань, ты ж смотри! Случись мне в Париже бывать, так смотри ж – я прямо к тебе! У нас и делегации ездиют, и по путевке можно. Так я прямо к тебе, я гостиниц не люблю. Поняла?
– Объязательно, объязательно. Коньечно, ко мне, – отвечала она с характерным акцентом.
Жена Антона, миловидная блондинка Вера, и похожая на цыганку жена Феди Аннушка напоминали ей, чтоб не забыла выслать им журнал парижских мод. Жены братьев увлекались вязанием и хотели познакомиться с последними моделями парижских свитеров и кофт.
– Объязательно, объязательно! – отвечала она.
Она всех слушала, отвечала, а сама не выпускала из своих рук худенькую и теплую руку мамы. С утра мама была на ногах, в суете и хлопотах, она устала и теперь сидела на чемодане, тихая и какая-то отрешенная. И все подвязывала, все подвязывала потуже на подбородке то и дело расслаблявшийся узелок беленького, в черную крапинку платочка.
Но когда подошел поезд и настало время прощаться, с мадам Дюрвиль опять случилось что-то необъяснимое и непонятное для нее самой. Она снова простерла к маме руки, прижала ее к себе и по-бабьи, по-деревенски запричитала во весь голос:
– Мама моя, мамочка! Голубонька моя ясная!.. Ой, за что мне такая мука? Как яблочко я разбитое откатилась от вас! Как грозой меня сбило с деревца!..
– Не плачь, Манечка, не плачь… Даст бог, еще свидимся, – утешала ее мама и сама тоже плакала.
Жанна снова испугалась, бросилась к ней, закричала по-французски, что ее мама сейчас умрет и что это потому, что они приехали сюда (она никогда не видела, чтоб ее мать плакала и вот так причитала). Антон, ехавший провожать сестру до Минска, Федя и пышноусый Филипп Назарович подхватили ее под руки и ввели в вагон. Остальные стали поспешно загружать в тамбур чемоданы, корзины и ведра.
Поезд стоял в Прохоровке считанные минуты, он тотчас же тронулся, оставив на перроне толпу родственников, махавших руками и букетами. Но мадам Дюрвиль уже не видела этого. Она сидела в купе, закрыв ладонями лицо, в недвижной, застывшей позе. Антон не утешал ее и ничего не говорил ей. Он жестами показал Жанне, чтоб та сидела тихо и не трогала мать: пусть успокоится. Жанна послушно забилась в уголок нижней полки, но большие глаза ее (она была типичная француженка: смуглая, черноволосая и черноглазая, нисколько не похожая на мать) были полны тревоги и недоумения.
Поезд набирал скорость. В купе остро запахло яблоками, медом и любистком. Даже любисток мама не забыла положить дочери в Париж. Когда они были маленькими, мама запаривала в большом чугуне любисток и чебрец и купала их в этом настое. Чтоб лучше они росли, чтоб мягкими были у них волосы, чтоб душисто пахли…
Вскоре мадам Дюрвиль успокоилась, вышла в коридор, стала смотреть в окно. Жанна вышла за ней, потерлась щекой о ее плечо, поцеловала и ласково сказала:
– Мамочка, не печалься больше. Теперь мы уже едем домой. Совсем скоро мы будем дома.
– Нет, Жанна, нет… Мой дом здесь, – грустно ответила она.
– Зачем ты так говоришь? Здесь тебе было плохо, я видела. Поэтому ты много плакала, – сказала Жанна.
– Глупенькая, ты еще ничего не понимаешь, – вздохнула она. – И может, никогда не поймешь. Если всегда будешь жить там, где родилась…
Они разговаривали по-французски. Антон слышал из купе их голоса, но он не знал французского языка.
В Минске он посадил сестру и племянницу на берлинский поезд. Мадам Дюрвиль больше не плакала. Она лишь нервно сжимала локоть Антона и, волнуясь, говорила ему:
– Ты доктор, я тебья очьень прошу: береги маму… Я приеду… Объязательно, объязательно!.. Я и Поль, мы приедем объязательно… Он должен видеть нашу маму… Наш дом, наш сад… Объязательно!..
Дом с закрытыми ставнями
1Кому случалось бывать в городке Зеленый Гай да хаживать купаться на речку Синенькую, тот непременно видел в Рябиновом переулке, на пути к реке, большой дом с закрытыми ставнями.
Однако не закрытые ставни приковывают первое внимание прохожего, а сам дом, украшающий собою немощеный переулок, пышно заросший вдоль заборов лебедой, мокрицей и развесистыми, как слоновьи уши, лопухами.
Он и вправду хорош, этот дом. На высоком фундаменте мирно покоятся толстые бревна, выставив на волю круглые, просмоленные бока, рядок за рядком убегают вверх, под четырехгранную шапку-крышу из оцинкованного железа. Две трубы белеют над крышей, два широких крыльца под навесами сбегают ступеньками от обоих углов дома прямо в лопухи. На каждом крыльце – большая входная дверь, над каждым крыльцом, а также из-под крыши, свисают, как кружева нижней юбки, деревянные планочки с выпиленными кружочками и ромбиками. Планочки окрашены в желтый цвет, крылечки и двери – в кирпичный, а на массивных филенчатых ставнях сочетаются синий и салатовый цвета, – и все это издали резко бросается в глаза.
Словом, весело глядится этот дом и чем-то напоминает размалеванную куклу-матрешку. И только дотошно-придирчивое око способно обнаружить, что дом этот, рассчитанный когда-то на вековое стояние, не столь прочен, как кажется. Опытное око усмотрит старые следы ремонта, переделок и обновления дома по частям и в разное время, заметит и следы нынешней порчи, и какой-то заброшенности. Вон и желоб на крыше прохудился, и водосточная труба заржавела на стыках, и деревянные кружева пошли трещинами, и нижний венец шашелем тронут…
Впрочем, какое дело до этого случайному прохожему? Но пройдя раз и другой мимо дома на речку Синенькую, его все же смутят постоянно закрытые ставни, и, движимый любопытством, он кого-нибудь да и спросит, проходя Рябиновым переулком:
– А живет ли кто в этом доме?
– Живе-ет! – ответят ему. И, качнув головой, прибавят: – Да не доведи бог так жить!..
2Тяжкая доля у Ефросиньи Могилы, ох, тяжкая! Бьется она как рыба об лед, и все сама, сама, – ни от кого ни подмоги, ни поддержки. Когда жив был муж, все же легче было. Пусть не ахти какой из него помощник выдался (все-то он любил больше книжечки почитывать, да и правая рука у него после инсульта слабо действовала), но как-никак, а был он для нее хоть каким-то подспорьем. И пенсии восемьдесят рублей получал, и домом несмотря на плохую руку занимался: там подкрасит, там чего-то подобьет, чего-то приладит и в огороде поможет. А вот умер, и вся его помощь – это двадцать рублей помесячно, оставленных ей в виде пенсии за него.
«Как мне жить дальше на такие деньги? По сегодняшним ценам собаку прокормить и то больше потратишь», – писала в своем заявлении в горсовет Ефросинья, прося денежной помощи.
Горсовет в помощи отказал, сославшись на то, что год назад ей было выделено сорок рублей. Ефросинья поплакала над бумажкой с отказом и отослала бумажку в конверте обратно в горсовет, написав на обороте крупными буквами: «Совести у вас нету. Думаете, на всю жизнь с меня хватит тех сорока рублей? Поживите вы сами на такие деньги…» И дальше в том же духе отчистила работников горсовета.
Ефросинья завидовала легкой смерти мужа. Копали они с ним в тот день картошку в огороде за садом. Она копала, он подбирал за нею. Перебрали, рассортировали, ссыпали в погреб. Муж сбросил грязную куртку, вымыл руки и присел отдохнуть на скамейке во дворе. И вдруг свалился со скамьи и в ту же минуту помер, не ойкнув и не издав звука. Его схоронили с музыкой, а по весне, продав оставшуюся после зимы картошку, Ефросинья поставила на эти деньги оградку на его могиле и памятную плиту за 47 рублей. Но простить мужу саму смерть его она не простила: как же он мог бросить ее одну на такие горькие муки? Ни днем, ни ночью нет ей теперь роздыха и покоя. От зари-то и до темна работой она загружена, тянет ее, как лошадь ломовая, а ночами всякие мысли голову раздирают, подушка камнем в головах лежит, – не заснуть никак.
И все плохо вокруг Ефросиньи, все темно и беспросветно. Как ни надрывается она – не управиться ей одной, хоть криком кричи. Огородище за домом – десять соток, в саду – восемь яблонь, две груши и пятнадцать вишен. А еще смородина и крыжовник, еще гладиолусы и георгины плантацией раскинулись за сараем. Где ж взять силушки, чтобы все довести до ума, не дать погибнуть? Потому и пальцы покрутило в суставах от непосильной работы, и на ногах вены узлами свились, и поясницу к вечеру не разогнуть, и в зеркало уж на себя страшно глянуть. Зыркнет из зеркала на Ефросинью незнакомая старуха с зачернелым лицом, в выгоревшем темном платке, с запеченными губами, – самой себя не узнать. И самой представить даже трудно, что каких-нибудь десять лет назад (да что десять – каких-то пять лет назад!) присядет она, бывало, после вечернего чая на диванчике в большой комнате-зале, возьмет в руки гитару, а покойный муж приложит к подбородку скрипку, и заиграют они в четыре руки, запоют в два голоса любимую с молодости песню:
Ехал на ярмарку ухарь купец,
Ухарь купец, молодой удалец…
Теперь же даже летом, занятая садом и огородом, она редко заходит в комнату-залу, а на зиму и вовсе закрывает все комнаты, занавешивает двери одеялами и живет на кухне: где ей отопить такую домину о шести комнатах? Вот и стоит в тех комнатах стойкий дух подвальной сырости, плесневеют углы, плесневеют старые льняные чехлы, натянутые на мебель, гитара, висящая на стене, и футляр, с упрятанной в него скрипкой. Не хватает рук, не хватает дня, да и ночи не хватит, чтобы содержать все в надлежащем порядке.
«Будь ты проклята, такая жизнь! – постоянно приговаривает Ефросинья. – За что я только так мучаюсь?.. За что мне бог таких деток послал?..»
Она часто думает о детях. Едва ли не каждый раз, когда, убившись за день по хозяйству, укладывается на кухне спать.
Их трое у нее, и все дочери: Раиска, Наташка и Татьяна. И все – давно отрезанный ломоть, и все-то одна хуже другой. Ни писем от них, ни приездов – ничего этого нет. Это еще слава богу, что она сообразила истребовать с каждой десять рублей по суду, вот и шлют родные дочечки каждый месяц алименты. Положенное, присужденное шлют, а так, чтоб сами от себя матери копейку выслали, – такого и в помине нету.
Притащив поздно вечером со двора на кухню свое разбитое тело, Ефросинья пожует без всякого аппетита того-сего, повалится, бывает что и не раздевшись, на железную кровать у печки, и тогда пойдут одолевать ее, кроме ломоты в руках и ногах, всякие мысли: о жизни своей, о хозяйстве, о покойном муже, о непутевых дочках.
Вот так вдруг встанет и застынет перед глазами старшая дочка Раиска. Сорок пять лет ей уже. Высокая и статная она с виду. Докторшей работает, и замужем за доктором. Живут в областном центре, всего-то и езды к ним – два часа автобусом.
«Сгинь с глаз моих!.. Сгинь!..» – шепчет Ефросинья, отгоняя от себя образ старшей дочери.
Никогда и ни за что не простит она Раиске подлости ее. И мужу ее не простит, и детям ихним, внукам своим, – столько зла они все вместе ей содеяли.
А росла ведь Раиска тихонькой, ласковой, послушной. Девочкой была – все к матери тулилась: «Мамусенька, мамусенька, любочка моя!» – лепетала. И не ленивой росла. Во всем на нее можно было положиться: в комнатах приберет, постирает, что велишь, то и сделает. Одно время была у них корова, так все заботы о рыжей Маньке на Раиске лежали. Пастуху Ефросинья Маньку не доверяла, да и брал он дорого, вот Раиска все лето и пасла ее на хороших травах у речки, сама доила, молоко на базар носила. И не стеснялась, хотя уже в восьмой, в девятый классы ходила, не смотрела, что школьные подружки-вертихвостки подсмеиваются над нею. И плакала, когда продавали корову. «Зачем, ну зачем продавать, мамусенька? – хлюпала носом. – Я умру без Маньки!..» Не умерла, жива осталась. Десятый класс доходила – в институт поехала. Поехала и испортилась в большом городе: врать научилась, отца с матерью почитать не стала. Написала вдруг, что замуж собралась, родительского благословения просит. А какое ей благословение, когда обое они задрыпанные студенты: жить негде и есть-пить нечего? И вот же – ослушалась матери, обиделась, затаилась, два года весточки не подавала, характер строила, вроде ни в чем не нуждается. Потом заявились обое похвастаться дипломами и семимесячным сыном Димкой. Носы дерут, а сами голодранцы голодранцами. Хотели внука ей прикинуть, пока, мол, устроятся на новом месте, но она наотрез отказала. С какой же стати? У нее без того забот полон рот, а тут новая прибыль: пеленки-распашонки! А как заболеет, упадет, ногу-руку вывернет? Хорошо сказать: «Мамусенька, пускай наш сынуля у тебя немножко поживет». А слушалась ли мамусеньку, когда она тебя от раннего замужества остерегала?
Да и муж Раиски, Яков, не понравился ей. Все молчком и молчком, а у самого в глазах хитрость сидит, ко всему-то он приглядывается, ровно приценивается. И похоже, все ему у них нравится. А почему бы и не нравилось? Тут тебе и дом, и сад, и огород, и погреб, и кур до сотни бегает, с каких в борще навар – в палец жира, и гараж строится, значит, и машина будет.
Опять Раиска обиделась, только виду не подала. Уехали они на Урал и пятнадцать лет прожили там. Раиска, как ни в чем не бывало, все годы с отцом переписку вела, ей приветы и поцелуи передавала. Тогда еще не совсем она совести лишилась. Потому-то и разрешила Ефросинья по доброте своей прислать к ней на летние каникулы внуков. И прокляла себя за то, что разрешила. Не внуки – чистые бандиты явились. Что старший Димка, что младший Сережка. Не запрети она им с первой минуты шастать в сад, не осталось бы на ветках не то что яблок и вишен, они и листья бы обглодали, как те козы голодные. Только и слышалось от них: «Баб, обед скоро?», «Баб, может, перекусим уже?» Вроде сроду они не ели, одним воздухом уральским питались. И сколько ни выставь на стол – все подметут до крошки. Животы барабанами выпрут, а они свое: «Баб, а чего на закуску? Можно нарвать малинки?» Нарочно ведь спрашивали, ведь знали, что нельзя: малина и вишни для варенья зреют.
И все же обчистили они и малину, и две лучшие вишни. Ночью поднялись и пошли на воровство. Поломали ветки, вытоптали молодую картошку под деревьями. Утром она обнаружила эту шкоду и догадалась, кто своровал: по следам, оставленным на земле кедами. Первым же поездом она выпроводила их на Урал, получив на прощанье от старшего внука «жадобину», а от младшего «бабу-тираншу». А дочка опять схитрила: притворилась, будто ничего не случилось, и продолжала слать письма отцу да передавать ей приветы с поцелуями.
«Уйди, сгинь с глаз моих!..» – мысленно гнала Ефросинья стоявшую перед глазами Раиску, не в силах заснуть.
И не могла прогнать. Лицо Раиски то отступало от нее в темноту, то приближалось, озаряясь несуществующим резко-белым светом. «Чего тебе надо, чего? – сердито спрашивала Ефросинья дочь. – Смерти моей ждешь? У-у, бесстыжая!.. Все равно не прощу!..»
Она ворочается на скрипучей кровати, вздыхает, укладывает так и сяк ноющие руки.
Вот этими руками перетерла она на крахмал двадцать пудов картошки, искровавила вконец руки, а Раиска обчистила ее.
Пять лет назад это случилось. Раиска уже переехала с Урала и в двух часах езды от родного городка жила. И тут пришла Ефросинье телеграмма от родной сестры Полины, из села под Харьковом: померла их мать-старуха, жившая с сестрой. Что делать? Не ехать ей нельзя, но и как же ехать, когда муж с воспалением легких лежит? Пришлось Раиску вызвать, чтоб за отцом присмотрела. Та прибыла без задержки, навезла лекарств, скорее всего ненужных, кинулась сама выслушивать отца и поплакала для приличия, хотя и не знала свою помершую бабку. Да и чего плакать, чем поможешь? Девяносто пять лет прожила на свете – куда уж больше? Крепкий у них род выдался, все долгожителями были, да никто ведь на земле не вечен. Вернулась с похорон, а на другой день обнаружила в дому пропажу: крахмал из мешка отобран, килограммов пять взято. Кто, как не Раиска, на крахмал позарился? Без спросу, не сказавши! Хотела Ефросинья тут же отправить мужа к Раиске, чтоб сделал ей ревизию, нашел крахмал и пристыдил хорошенько, да тот наотрез отказался. Пришлось ей обойтись письмом.
«Ну что, доченька, вкусные ли кисели из моего крахмала? – написала она Раиске. – Заместо того чтоб матери дать, ты у нее тягнешь? Хороша же у вас семейка! Ну, кушайте, мне не жалко. Но чтоб твоей ноги, доченька, в моем доме больше не было. И забудь, что я мать твоя».
Письмо, видать, получил Яков и не показал Раиске. От него пришла десятикилограммовая посылка с запиской в ящике:
«Поскольку вы, уважаемая Ефросинья Прохоровна, нуждаетесь в крахмале, с удовольствием высылаю…»
«Уйди! Отступись от меня!..» – ворочается на кровати Ефросинья.
Но если не Раиска, то Наташка или Татьяна встанут и стоят столбом перед глазами.
«Ну, а тебе чего, тебе чего нужно? – сердито спрашивает она Наташку. – Ступай от меня!..»
Никогда она не видела добра от средней дочки. С детства в ней упрямство сидело, ни битьем, ни лаской не сладить было с ней. «Нет, мамочка, я не такая дурочка, как Райка, чтоб на базаре молоком и цветочками торговать, – насмешливо скажет Наташка, да еще и ногой притопнет. – Мне уроки учить надо!»
Муж баловал Наташку, и когда купил «Запорожца» (работал он механиком в гараже и страсть как хотел заиметь свою машину), решил научить свою любимицу водить машину, пообещав на старости подарить ее Наташке. Но та, озлившись, отрезала: «Надо будет, сама научусь! Вы с мамочкой все деньги на дом и машину гробите, а сами сидим на картошке с камсой. У меня вон туфли – стыд-позор, Райке жалеете выслать, на одну стипендию тянет. А про Таньку совсем молчу: она у вас из обносков не вылазит». «Умолкни, гадость! – закричала на нее Ефросинья. – Я спины не разгинаю, горблюсь для вас! А вы только жрать готовы?» – и ударила, не совладав с собой, Наташку качалкой по спине. Наташка выскочила из дому, крикнула с улицы: «Подавитесь вы своей машиной!» – и больше домой не явилась. Вот так, значит, – «подавитесь!». Это за то, что растили ее, кормили да учили. За все это отцу с матерью – «подавитесь!».
Занесло ее аж в Киев, поступила там в ремесленное, после вышла замуж за прораба. Первый раз заявилась в родительский дом лишь на похороны отца. Прибыла с мужем Антоном и сыном Алешкой. После похорон жила два дня, но с нею, Ефросиньей, не разговаривала. Однажды только и сказала ей при своем Антоне: «Что ты думаешь делать с машиной? Папа давным-давно на ней не ездил. Зачем она тебе, для мебели? Лучше продай нам, мы с Антоном купим. – И усмехнулась: – Но если помнишь, папа когда-то собирался подарить мне». Она не ответила Наташке, повернулась и ушла.
После суда, узнав об исполнительном листе, Наташка написала ей:
«Получай свою десятку, мамочка! Ты думаешь, мне стыдно? Ничуть. Вот папу мне всегда было жалко. Бедный папа! Почему он был таким бесхарактерным?»
От младшей дочери, Татьяны, тоже исправно поступали десять рублей. Но младшая даже на похороны отца поленилась приехать. Отделалась телеграммой из своего Заполярья, на погоду свернула: нет, мол, погоды, самолеты не летают, не успеть ей. А ей бы в ноги покойнику пасть, на коленях всю жизнь стоять и всю жизнь мать с отцом благодарить за то, что выучили на гитаре и на скрипке играть. Когда ее Наташка в Киев сманила, она уже умела играть, вот и взяли в музыкальное училище, теперь сама других учит. А что б из нее вышло, если б в доме скрипки и гитары не было? Ни к чему-то она не была пригодна. Слова от нее, случалось, за неделю не услышишь, вроде немая. Да еще красное пятно на лице в полщеки. Уронила ее маленькой Ефросинья на раскаленную плиту. Варила что-то на плите, а ее на руке держала. Заплакала вдруг, крутанулась и соскользнула с руки. Так и запеклась навсегда краснота на полщеки. Такой бы уродинке и сидеть дома возле матери. Гибнет ведь все, рук не хватает одной управиться…
«Будь вы прокляты, детки мои!.. Нет у меня детей, нету!..» – гонит от себя Ефросинья наплывающие лица дочерей.
Она трудно привстает с кровати, шарит рукой по стене, включает тускленькую лампочку, настороженно прислушивается, вперив взгляд в окно, закрытое со двора ставней. Ставня плотно прижата к стеклам железным прогоном, конец его торчит из отверстия в наличнике, прихлестнутый к наличнику ржавыми ножницами, – ни за что не вытянуть снаружи прогон.
Ей чудятся какие-то шорохи, вкрадчивые шаги во дворе и приглушенные голоса. Но она понимает, что это только чудится: иначе взлаял бы и загремел цепью Полкан, забегал бы, таща за собой по проволоке цепь, от крыльца к погребу и к гаражу с «Запорожцем».








