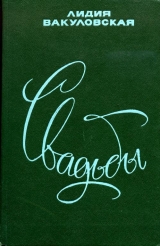
Текст книги "Свадьбы"
Автор книги: Лидия Вакуловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Рассказы
Пересадка сердца
От нашего городка у-ух как далеко до африканского города Кейптауна, где профессор Бернард впервые сделал пересадку человеческого сердца, так далеко, что если, скажем, ехать сперва поездом, а потом плыть пароходом, то получится куда дольше, нежели на ракете слетать на Луну, погулять среди лунных камней у какого-нибудь Моря Спокойствия и вернуться обратно. И тем невероятнее, что именно в нашем городке, маленьком, неказистом городке, спрятанном среди черниговских лесов, никому неизвестный хирург Тарас Тарасович Редька сделал точно такую же операцию, да так успешно, что его пациентка, теща начальника «Межрайколхозстроя» Степанида Сидоровна Перебейкопыто, не только здравствует и поныне, но (и это немаловажно!) полна завидного здоровья и сил.
Все началось субботним летним вечером. Тарас Тарасович Редька возвращался домой из больницы, где провел неимоверно трудный день, сделав две сложнейшие операции: резекцию желудка комбайнеру, доставленному из дальнего колхоза, а затем избавил молодую женщину от камней в печени. Обе операции длились по нескольку часов, отняли у Тараса Тарасовича все силы, и он чувствовал себя совершенно опустошенным. Голова у него слегка кружилась, в ногах ощущалась слабость, и он шел, заметно пошатываясь, так что, глядя со стороны, можно было предположить, что Тарас Тарасович возвращается не из больницы, проведя в ней трудный операционный день, а с хорошенькой дружеской попойки.
Так он шел, медленно и заметно покачиваясь, по вечерней, стемневшей улице, под ветвями лип и кленов, скрывавших от него звездное небо. Потом вошел в городской скверик, лежавший на его пути, где во всю мочь орала радиола и на круглом дощатом помосте, освещенном с боков фонарями, танцевала молодежь, поскольку, как уже известно, была суббота, а в субботу в городском сквере всегда орет радиола и на танцплощадке отплясывают пары. Потом вышел на центральную городскую площадь, где тоже было много молодежи, но не танцующей, а просто гуляющей. Тут он увидел высоченного и тонкого, как жердь, лейтенанта милиции Вербу, прогуливавшегося возле пустой цистерны «Квас» и наблюдавшего одновременно за поведением гуляющих. Тарас Тарасович поздоровался со стражем порядка и пошел дальше, не видя того, как понимающе усмехается за его спиной Верба, глядя на его не ровную, вихляющую походку. За углом универмага Тарас Тарасович повстречался с завхозом больницы, пожилым человеком, в бриле и чесучовом пиджаке, который чинно шествовал к центральной площади, чинно держа об руку свою жену. Он поздоровался с завхозом и пошел дальше, не видя того, как завхоз остановился, обернулся и дважды выразительно пожал правым плечом, не понимая, зачем Тарасу Тарасовичу было здороваться с ним, если днем они не раз виделись в больнице и если, опять же днем, Тарас Тарасович дал ему, завхозу, крепкий нагоняй за то, что он опять забыл смазать двери в операционную, которые своим сильным скрипом раздражали ведущего хирурга.
Подходя к городскому ресторану, неофициально называемому «Женские слезы», Тарас Тарасович заметил начальника «Межрайколхозстроя» Максименко, стоявшего перед фонтаном, украшавшим вход в ресторан, и наблюдавшего за струйками воды, бьющими вверх изо рта и ноздрей большой жабы и окружавших ее маленьких жабенят. Максименко, весь в белом (белые брюки, белая полурукавка навыпуск, белый картуз на голове), стоял вполоборота к тротуару, по которому двигался Тарас Тарасович, и Редька намеревался пройти мимо него, сделав вид, что не заметил.
Но тут белый картуз стал медленно поворачиваться козырьком в его сторону, а затем белая, с круглым животиком, фигура Максименко, похожая на гипсовую статую, медленно поплыла наперерез Тарасу Тарасовичу.
– Добрый вечер, Тарас Тарасович. Какая славная погода стоит, – сказал Максименко, протягивая Редьке руку для пожатия.
– Добрый вечер, – ответил Тарас Тарасович, но о погоде ничего не сказал, так как состояние погоды в это время его нисколько не занимало.
– Вы домой? – спросил его Максименко, хотя прекрасно знал, что в такой поздний час Редьке некуда идти, кроме как домой. – Что ж, пойдемте вместе.
И дальше они пошли вместе, потому что были соседи: оба жили в одноэтажных деревянных домах, разделенных высоким и плотным забором, вдоль которого со стороны Редьки густо кучерявились вишни, а со стороны Максименко столь же густо росла малина.
И вот когда они пошли, Максименко и спросил Тараса Тарасовича, как чувствует себя его теща, Степанида Сидоровна Перебейкопыто, находившаяся уже третий день в больнице.
– Плохо, крайне плохо, – откровенно ответил ему Тарас Тарасович. – Боюсь, что смерть наступит в любую минуту. С таким сердцем человек жить не может.
– Да-а, – глухо произнес Максименко. – Это будет большим ударом для моей жены. Смерть матери убьет ее.
– Терять близких всегда непереносимо тяжело, – согласился с ним Тарас Тарасович.
– Что ж делать… – вздохнул Максименко и покачал головой в белом картузе. – Все мы в конечном счете смертны.
– Безусловно, – снова согласился с ним Редька.
– А жаль, очень жаль, – помолчав, сказал Максименко. – Степанида Сидоровна была женщина добрейшей души. Неужели наша медицина так бессильна?
– В данном случае бессильна, – не стал скрывать Тарас Тарасович.
– Жаль, очень жаль, – повторил Максименко. – Я пока ничего не скажу жене. Не стану убивать заранее.
Так они не спеша шли и не спеша разговаривали о скорой смерти Степаниды Сидоровны Перебейкопыто. За этим невеселым разговором они достигли конца центральной улицы, где уже не светили фонари, возможно, с целью экономии электричества, и свернули на параллельную улицу, где и вовсе не было фонарей, за исключением одного, причем горевшего сейчас, – у дома Максименко. Но луна неплохо светила, и им не приходилось спотыкаться на неровностях выщербленного тротуара.
У дома Максименко, под фонарем, очертившим на земле желтый круг, они попрощались, и попрощались, нужно сказать, довольно сухо. «Всего доброго», – сухо сказал Редьке Максименко. «Будьте здоровы», – сухо ответил тот, после чего они разошлись к своим калиткам и забрякали щеколдами.
Пробираясь по темной дорожке к крыльцу, Тарас Тарасович услышал стук сорвавшегося с дерева яблока, и сразу за забором протяжно ойкнул и чертыхнулся Максименко, что выразительно указывало на то, что яблоко угодило ему по голове. Но тут же на голову Тарасу Тарасовичу упало несколько спелых слив, так как он ненароком задел рукой ветку сливы, росшей у крыльца. Но никакой боли это ему не причинило.
Он отпер ключом двери и вошел в дом, наперед зная, что жена его не могла еще вернуться из подшефного колхоза, куда ее послали вместе с коллегами по банку и вместе со служащими других учреждений убирать созревший на подшефных полях лен. Сперва он включил в пустом доме свет, потом хорошенько вымыл под рукомойником руки, затем позвонил в больницу и узнал у дежурного врача Миры Яковлевны, как чувствуют себя его оперированные. Услышав, что пока все нормально, Тарас Тарасович вскипятил себе чаю на кухне, съел кусок ветчины домашнего копчения, привезенной ему в виде большого окорока одним бухгалтером совхоза, которому он успешно оперировал щитовидную железу, выпил чаю вприкуску с колотым рафинадом и, сняв в коридоре туфли и еще раз вымыв руки, прошел в комнату и прилег с газетой на диване, подложив под локоть подушку в пестренькой ситцевой наволочке.
Он пробежал глазами несколько сообщений ТАСС на первой странице, повернул к себе газету четвертой страницей и, увидев большую статью под заглавием «Сын приехал к отцу», подумал, что и его сын Жорж, уехавший на лето в стройотряде в Сибирь, тоже скоро приедет к нему и проведет дома остаток студенческих каникул. И, подумав так, не стал читать газетную историю о чужом сыне, а опустил голову на подушку, прикрыл лицо газетой и принялся размышлять о своем соседе Максименко и его теще, Степаниде Сидоровне Перебейкопыто, умиравшей от полной сердечной недостаточности.
Тарас Тарасович Редька, начав в здешней больнице зелененьким хирургом, за тридцать лет стал в той же больнице мастером хирургии. За эти годы он столько раз оперировал желудки, рассекал грудные клетки, вправлял вывихи и грыжи, выдергивал гланды, удалял аппендициты, бородавки, всякие непотребные наросты и опухоли, столько передержал в своих руках человеческих рук и ног, накладывая на них гипс или взрезая их скальпелем, что счесть все это было невозможно. И двадцать лет из тридцати он прожил в этом доме, в постоянном соседстве с Максименко, а также с его тещей, Степанидой Сидоровной Перебейкопыто. Степанида Сидоровна была его соседкой и тогда, когда Петро Максименко слесарил в депо, и тогда, когда он заделался капитаном, мотористом и рулевым (все вместе) единственного на реке катера, возившего народ с левого, «городского», берега на правый, «сельский», и обратно. Степанида Сидоровна жила при зяте и тогда, когда Максименко переквалифицировался на короткое время в киномеханики, и когда вдруг стал заведовать городским Домом культуры. Но тогда Петро Максименко относился к Степаниде Сидоровне, как и должно зятю относиться к теще. Теперь же, при нынешнем своем положении начальника «Межрайколхозстроя», Петр Петрович Максименко (и Тарас Тарасович мог поклясться, что это так!) ненавидел свою тещу и ничуть не скорбел о ее близкой кончине, а даже, как казалось Тарасу Тарасовичу, ожидал ее с нетерпением.
И совсем не потому, что Степанида Сидоровна Перебейкопыто не любила, скажем, своего зятя или потому, что с возрастом она, скажем, резко изменилась в худшую сторону. Нет, она отнюдь не не любила зятя, а в силу своего бранчливого нрава, которым наградила ее природа, в силу длинного языка и горластой глотки, тоже доставшихся ей от природы, словом, в силу своей натуры Степанида Сидоровна стала сильно подрывать руководящий авторитет Петра Петровича Максименко. Если раньше, в отдаленное прошлое время, Степанида Сидоровна вихрем выскакивала из калитки (тогда она была гораздо моложе и голос у нее был более крепкий) и кричала вслед удалявшемуся на слесарную работу Петру Максименко, кричала так, что содрогался воздух и с улицы разбегались собаки: «Петька, ты ж не забудь мне в депе чугунок запаять! Смотри не вернись без чугунка, бо вечерять не получишь!» – если она горланила так на всю улицу, то на это ровно никто не обращал внимания. Или если Степанида Сидоровна, воюя с внуками, игравшими на деревьях «в Тарзана», пыталась уберечь от порчи деревья при помощи таких душераздирающих возгласов, как: «Ах вы ироды чумные! Сколько ж вы мне будете сад тарзанить? У кого вы этим тарзанам научились, у батька своего? А ну, спрыгуйте на землю, бо рогачом и вас, и батька вашего отметелю!..» – если кричала она так, разнося свои слова в уши ближних и дальних соседей, то на это никто не обращал внимания, поскольку подобные возгласы Степаниды Сидоровны были для всех привычны, как привычны они были и для самого Петра Максименко.
Но когда Петро Максименко заруководил «Межрайколхозстроем» и стал Петром Петровичем Максименко, такое неизменившееся поведение Степаниды Сидоровны, ее постоянные свары с соседями и ее речь, состоявшая из сплошного крика, стали шокировать его. Кстати, у Максименко действительно был строительный дар и Тарас Тарасович являлся неизменным свидетелем того, как Максименко постоянно что-нибудь да строил по хозяйству: то удлинял веранду, то переделывал погреб, то мастерил новый курятник, то несколько лет сряду бурил во дворе артезианский колодец, но, к сожалению, до родниковой жилы так и не добрался, видимо, в силу ее сверхглубинного залегания, то самолично вкопал перед домом столб и снабдил его электрической лампочкой и так далее и так далее. Так что перемещение Максименко с Дома культуры на строительную работу не было беспричинным. Правда, должность была немалая, и хотя Степанида Сидоровна после сего перемещения по-прежнему называла зятя «Петькой» и по-прежнему могла крикнуть ему: «Ты чего пнем стоишь на дороге? – обходить тебя надо!» (такое и подобное не раз слышал за забором Тарас Тарасович), но тем не менее она тоже понимала, на какую высокую высоту занесло ее зятя, и пользовалась его высотой на свой лад. Теперь, прибегая на базар, Степанида Сидоровна без всякого стесненья норовила ухватить товар за полцены, криком объясняя продавцам, что она не какая-нибудь такая, а совсем не такая, потому что «мой Петька вон какой начальник» и что он «такое с тобой сделает, что ты больше из села на базар не явишься». В магазинах Степанида Сидоровна не признавала никаких очередей и в нарушение порядка лезла вперед, оповещая всех и каждого, по какому праву она это делает.
Петр Петрович Максименко пытался уразумить и приструнить тещу, внушить ей, что он уже не тот Петька, который слесарил когда-то в депо и паял ей чугунки, и даже не тот, которому подчинялись недавно в Доме культуры кассирша, киномеханик, руководительница хора и музыканты духового оркестра, а совсем, совсем другой человек. Но это совершенно не действовало на Степаниду Сидоровну. Проведя после очередного внушения денек-другой безвыходно за своим забором, Степанида Сидоровна вновь появлялась на базаре и в магазинах и вновь принималась шастать по соседям, преследуя в этом шастанье единственную цель – похвалиться своим достатком и перечислить, какие пополненья произошли в их доме за последние дни. Таким образом, благодаря язычку Степаниды Сидоровны и тому, что она решительно ничего не умела скрывать, многие жители нашего городка доподлинно знали, в какой день и из какого колхоза, где «Межрайколхозстрой» вел работы, в погреб Петра Петровича Максименко поступила бочка квашеной капусты, когда и даже кем доставлен забитый кабанчик, откуда привезена и в количестве скольких мешков картошка, или бочонок меда, или соленые грибки и тому подобное. Хвастаясь своим положением, Степанида Сидоровна непременно упоминала о том, что если ее Петька захочет, так ему «и быка живого на дом представят».
Не ясно ли, что такое поведение Степаниды Сидоровны подрывало авторитет Петра Петровича в глазах горожан и, конечно же, способствовало тому, что он самым чистосердечным образом возненавидел свою тещу. Он ее возненавидел и радовался (так думал Тарас Тарасович), что вскоре его теща, Степанида Сидоровна Перебейкопыто, благополучно отправится к праотцам и навсегда освободит от своего присутствия.
Но, перебрав мысленно отношения Петра Петровича Максименко и его тещи, Тарас Тарасович Редька принялся развивать свою мысль дальше и анализировать свои отношения с Петром Петровичем.
Тарас Тарасович повернулся на бок, поправил сползавшую с лица газету, дабы ему не мешал свет настольной лампы, и углубился в размышления.
Нет, дружескими их отношения не назовешь. Хотя когда-то, когда Тарас Тарасович был еще зелененьким хирургом, а Петро Максименко слесарил в депо, а потом возил с берега на берег пассажиров на катере, в то далекое когда-то, они, пожалуй, водили дружбу, выражавшуюся в довольно регулярных выездах на рыбалку и походах за грибами в обществе собственных жен. И добрососедскими их отношения не назовешь. Хотя когда-то, когда рыбалка и грибные сборы как-то сами собой сократились до минимума, а потом и вовсе до нуля, в то, не столь уж далекое когда-то, они, пожалуй, оставались добрыми соседями и понемногу захаживали друг к другу. Во-первых, Тарас Тарасович первым в городе приобрел телевизор, так что иногда семейство Максименко, включая тещу Степаниду Сидоровну Перебейкопыто, приходило к ним «на передачу». Во-вторых, у Тараса Тарасовича на дому был телефон (редкость в городке), так что иногда Петро Максименко забегал к нему позвонить в свой Дом культуры и отдать нужные распоряжения или уведомить, что он прихворнул и чтоб его не ждали. Что касается Максименко, то и он владел ценными вещами, побуждавшими Тараса Тарасовича жить с ним в мире. Во-первых, у Максименко был хороший набор садовых инструментов, и Тарас Тарасович наведывался к нему за этими инструментами, которыми опрыскивал, подрезал и подпиливал деревья у себя в саду. Во-вторых, у Максименко имелись ко́злы для пиленья дров и превосходная острая пила, и Тарас Тарасович, случалось, заходил к нему за козлами и пилой, пилил его пилой на его козлах с сыном Жоржем березовые стволы и относил козлы и пилу обратно.
Но все это опять-таки было когда-то. Последние два года отношения их портились, портились да вконец испортились. Тарас Тарасович полагал, что возглавив «Межрайколхозстрой» и став заодно членом народного контроля райисполкома, Петр Петрович Максименко повел себя касательно Тараса Тарасовича не лучшим образом. Став членом комитета народного контроля райисполкома, Петр Петрович отчего-то нацелил свой взор именно на городскую больницу, будто не было во всем районе иных больниц и будто у самого Петра Петровича не было своих строительных забот, а была лишь одна забота – держать под неусыпным надзором городскую больницу. И, держа под неусыпным надзором больницу, Петр Петрович лично стал насылать в нее (как думал Тарас Тарасович) проверочные комиссии, выбирая для проверки то время, когда главврач удалялся в отпуск, уезжал на переподготовку или на курсы усовершенствования, а Тарас Тарасович замещал его.
Первая комиссия отметила неудовлетворительное санитарное состояние больницы, с чем Тарас Тарасович абсолютно не согласился, ибо в это время в больнице шел ремонт, в палатах была скученность и об идеальном санитарном состоянии не могло быть речи. Вторая комиссия обнаружила большую текучесть кадров младшего медперсонала и вменила это в вину Тарасу Тарасовичу, хотя кадрами он не ведал, а ведал ими главврач, невропатолог по профессии, который в то время только-только отбыл на курсы усовершенствования, оставив на три месяца на него больницу. Третья комиссия чистотой и кадрами не интересовалась, а расположившись в больничном садике, за дощатым столом, где обычно выздоравливающие забивали «козла», вызывала к себе врачей, сестер и санитарок и о чем-то беседовала с ними под тенью акации на свежем воздухе. Врачи, сестры и санитарки тут же посвятили в суть своих бесед Тараса Тарасовича, и ему стало ясно, что комиссия желает уличить его – о, ужас! – во взятках. Комиссия интересовалась, требует ли Тарас Тарасович от своих пациентов некую мзду за свой труд, и если не требует прямо, то, возможно, в форме намеков. Интересовалась, как он относится к всевозможным подношениям со стороны больных и в чем эти подношения выражаются.
Узнав об этом, Тарас Тарасович крайне разнервничался, отменил в тот день операцию, а на другой день, когда комиссия явилась в садик и уселась за тот же столик под акацией, намереваясь продолжить работу, Тарас Тарасович, увидев комиссию из окна своего кабинета, вышел в садик и лично сам выгнал вон за ворота комиссию, состоявшую из двух неизвестных ему мужчин и одной, тоже неизвестной ему женщины в очках. Потому что он никогда ничего не требовал от своих больных: ни намеками, ни полунамеками. Но когда женщина, которой он, допустим, вправил грыжу и давно забыл об этом, когда эта женщина, спустя год или полгода, вдруг является к нему домой, разузнав у кого-то, где он живет, приносит полную корзину отборной, только что снятой с куста черной смородины и просит принять смородину, он не может выгнать эту женщину за калитку и швырнуть ей вслед корзину с ягодой. Тарас Тарасович считал, что, поступи он так, он обидит человека. А потому и не отказывался от таких вот подношений, не видя в них ничего плохого. Плохость в этом видел его сосед, член комитета народного контроля райисполкома Петр Петрович Максименко и, видя ее, направлял на него комиссии. После первой комиссии, встретив его на улице, Петр Петрович Максименко сказал ему:
– Не ожидал, Тарас Тарасович, что в больнице санитария не в порядке. Акт вы, правда, не подписали, но все-таки надо исправлять положение.
Тарас Тарасович тут же стал твердить о ремонте, препятствующем надлежащей чистоте.
После второй комиссии, встретив его на улице, Петр Петрович сказал ему:
– Что ж это у вас, Тарас Тарасович, с кадрами непорядок? Так мы с вами далеко зайдем.
И опять Тарас Тарасович принялся доказывать, что не имеет к кадрам никакого отношения, а лишь по нужде, потому что некому, замещает главврача.
После третьей комиссии, встретив его на улице (это было за два дня до того, как тещу Петра Петровича привезли на «неотложке» в больницу), Петр Петрович сказал ему:
– Да, товарищ Редька, такое дело никуда не годится. Комиссию выгнали, людей оскорбили… Будем слушать вас на исполкоме. По всем параграфам заслушаем. Так что готовьтесь.
Сегодня они тоже встретились на улице, вернее, у ресторана с неофициальным названием «Женские слезы», но сегодня говорили только о предстоящей смерти Степаниды Сидоровны Перебейкопыто…
Тарас Тарасович неподвижно лежал на диване и думал свою думу. Лицо его закрывала газета, чуть шевелившаяся от его глубокого, мерного дыхания. Горела настольная лампа под зеленым стеклом абажура, потикивали стенные часы, отсчитывая вечные секунды, а Тарас Тарасович лежал и думал, думал, думал… Вот он, Тарас Тарасович Редька… А там, за забором, он, Петр Петрович Максименко… начальник «Межрайколхозстроя»… И что бы такое сделать?.. Такое сделать… сделать что-нибудь такое, чтоб дать крепкий щелчок по носу соседу Петру Петровичу?.. Но что именно сделать, Тарас Тарасович никак не мог придумать. Он до боли напрягал мысли, даже сосредоточенно сопел под газетой, но ничего дельного не шло ему на ум.
Было уже поздно: часы, кажется, пробили два ночи. Тарас Тарасович, кажется, подумал, что ему пора раздеться, погасить надоевший свет и перебраться с дивана на постель, под одеяло. Но вдруг послышался звонок. Сперва ему показалось, что это вновь с кошачьим шипеньем бьют часы. Но потом он наконец сообразил, что это не часы, а телефон. Он медленно поднялся с дивана и медленно, как бы паря по воздуху, пошел к телефону с нехорошим предчувствием, что звонят из больницы, а раз ночью, значит – что-то случилось.
Говорила дежурный врач Мира Яковлевна. В больницу доставлена в тяжелом состоянии станционная стрелочница. Четверть часа назад она по неосторожности попала под прибывавший поезд. Отрезаны обе ноги и поврежден череп. Они пытаются остановить кровотечение. Мира Яковлевна, обычно сдержанная, обладавшая феноменальным спокойствием, дышала в трубку, как паровоз, и голос у нее дрожал. Видимо, стрелочница была ее знакомая, а для врача нет ничего хуже, нежели оперировать знакомых, а тем более видеть их смерть…
– Немедленно на стол! – приказал Тарас Тарасович, не дослушав Миру Яковлевну. – Готовьте к операции. Вызовите операционную сестру… Нет, нет, не Лесю, а Марину, она более расторопна. Пошлите за всеми, кто необходим. Ассистировать будет Пирей. Я выхожу…
Спустя совсем короткое время Тарас Тарасович Редька бежал по неосвещенной улице, цепляясь носками туфель за неровности выщербленного тротуара, к центральной площади. Луна упряталась в тучах и бежать в темноте было чрезвычайно трудно. Он будто все время натыкался на темную и твердую воздушную стену и ему, как пловцу, приходилось раздвигать ее руками. Но вскоре он свернул на параллельную улицу, где светили фонари, и ускорил бег.
На площади гуляющих уже не было. Лишь один милиционер Верба одиноко дремал на скамье у входа в сквер, надвинув на глаза фуражку с лакированным козырьком. Услыхав тяжелый топот бегущих ног, Верба мгновенно проснулся и подскочил со скамьи, готовый к любой неожиданности. Грузный, тяжело дышавший Тарас Тарасович, пробегая мимо Вербы, резко взмахнул рукой, предупреждая тем самым Вербу, чтоб тот не вздумал его останавливать, и скрылся в скверике, ошеломив своим появлением Вербу и заставив его застыть на месте с открытым ртом. В скверике, погруженном после танцев в глухое молчание, бежавший и громко сопевший Тарас Тарасович вспугнул несколько целующихся парочек, которых совершенно не заметил под деревьями.
В таком взъерошенном, полурастрепанном виде Тарас Тарасович вбежал в больницу, где его уже ждал едва ли не весь персонал, созванный в срочном порядке Мирой Яковлевной. Врачи, санитарки и сестры расступились перед ним, пропуская к раковине мыть руки. Тарас Тарасович недоуменно приподнял брови, не увидев среди них своего ассистента, молодого хирурга Пирея. Мира Яковлевна без слов поняла его и молча указала рукой на широкую белую дверь в операционную. Он тоже молча кивнул, поняв, что пострадавшая уже на столе и Пирей начал операцию.
Облаченный во все стерильное, Тарас Тарасович, входя в операционную, неожиданно весь передернулся и чертыхнулся – так хлестнул его по нервам тягучий и визгливый скрип двери.
«Ну, покажу я этому прохвосту!» – подумал он о завхозе и еще раз передернулся, когда дверь закрывалась.
И тот же час забыл об этой мелочи. По лицам находившихся в операционной, по тому, как Пирей стоял в стороне от операционного стола, потому что у хирургической сестры Марины были опущены руки, он понял, что опоздал.
– Когда? – глухо спросил он сквозь марлевую повязку.
– Две минуты назад, – услышал он голос Марины.
А хирург Пирей сдавленным голосом объяснил:
– Большая потеря крови. Но сердце поразительно крепкое. Иначе все кончилось бы на пути в больницу.
Тарас Тарасович вплотную подошел к операционному столу, на котором возвышалось покрытое белым квадратное, без ног тело, приподнял край простыни. Женщине было лет тридцать. К счастью, он ее не знал.
– Увезите, – сказал Пирей санитаркам, когда Тарас Тарасович опустил край простыни.
Санитарки покатили к операционному столу узкий металлический столик на колесиках, собираясь переложить на него тело умершей. И как раз в эту минуту Редьке пришла чудовищная мысль. Правда, она явилась ему не сразу, а как бы родилась из нескольких мыслей, наплывавших толчками. Сперва к нему, будто запоздалое эхо, донеслись слова Пирея: «Но се-е-ердце по-ра-зи-тельно кре-епкое!..» И еще раз, но уже в более напористом звучании: «Но серр-рдце порр-ра-зительно крр-репкое!..» Потом в его мозгу мгновенно прочертилась огненная линия и соединила три засветившиеся точки: операционный стол, южную оконечность Африки вместе с городом Кейптауном и палату, где лежала теща Максименко, Степанида Сидоровна Перебейкопыто. И Тарас Тарасович тут же решил: пересадка сердца! Да, да! Не сумев спасти одну женщину, он спасет ее сердцем жизнь другой! Если смог доктор Бернард, то сможет и он! У них не какая-нибудь сельская больничка, а нормальная городская больница, с нормальным оборудованием и даже с аппаратом «сердце-легкое», и с опытным специалистом при нем, присланным на днях из Чернигова…
Тарас Тарасович жестом полководца остановил санитарок, снимавших со стола труп стрелочницы.
– Оставьте, – сказал он им. Затем громко и четко произнес: – Сегодня, коллеги, мы с вами впервые в нашем районе сделаем трансплантацию сердца!
Он усмехнулся, увидев, как у его коллег, не исключая и хирурга Пирея, полезли на лоб глаза.
– Да-да-да! Либо мы сегодня же спасем больную из первой палаты Перебейкопыто, либо завтра мы потеряем и ее! – снова раздельно и четко сказал он.
Желая что-то произнести, хирург Пирей начал медленно раскрывать рот и раскрыл его так широко, что уже ничего не мог произнести. Но Тарас Тарасович, привыкший угадывать мысли своего ассистента, все понял.
– Я понял вас, Костя, – сказал он ему. – Я сейчас же вызову хирурга Слепня и хирурга Груздя из железнодорожной больницы, они нам помогут. Оставайтесь в операционной и ждите моих распоряжений. Я постараюсь немедленно уладить все формальности.
С тем он быстро вышел из операционной, и снова его передернуло от дверного скрипа. Врачи, сестры и санитарки, дожидавшиеся за дверью исхода операции, прервали свои пустые разговоры, и все лица обратились к нему.
– Друзья, сегодня в нашей больнице свершится величайшее событие! – сказал он им торжественным голосом. – Мы возьмем здоровое сердце и пересадим его умирающей Перебейкопыто из первой палаты.
И снова он увидел, как у всех полезли на лоб глаза, а Мира Яковлевна схватилась рукой за грудь, точно он собирался взять для Степаниды Сидоровны ее сердце. Не дав никому опомниться, Тарас Тарасович тут же стал отдавать распоряжения: велел тотчас же послать за хирургами Слепней и Груздем, а также за родственниками умершей стрелочницы. Узнав, что муж покойной находится в вестибюле и не знает о смерти жены, Тарас Тарасович как был в стерильных чулках, в стерильном халате и с марлевой повязкой на лице, выбежал в коридор.
В тускло освещенном вестибюле возле кадки с фикусом сидел мужчина в железнодорожной форме, низко нагнув голову и обхватив ее растопыренными пальцами. Тарас Тарасович, неслышно ступая мягкими чулками по кафелю, подошел к нему, взял его под руку и повел в свой кабинет. Сообщив тяжелую для него весть, Тарас Тарасович сразу же и с большим возбуждением стал говорить ему о той гуманной миссии, какую он совершит, если не станет препятствовать тому, чтобы здоровое сердце его покойной жены забилось в груди другой женщины.
Ровно в ту же минуту убитый горем железнодорожник дал письменное согласие. Ровно через несколько минут, распорядившись предварительно, чтоб хирург Пирей начинал свое дело, Тарас Тарасович, а с ним Мира Яковлевна и прибывшая на подмогу врач-окулист вошли в первую палату. Возле Степаниды Сидоровны дежурила ночная сестра с кислородной подушкой. Глаза у Степаниды Сидоровны совсем ввалились, нос заострился и стал прозрачным, губы на синюшном лице казались угольно-черными. Слабо постанывая, Степанида Сидоровна с трудом втягивала в себя маленькими глотками кислород из подушки, и было ясно, что жизнь покидает ее. Но здравый рассудок еще жил в ней, она поняла, что предлагает ей Редька, и, поняв, невнятно прошептала:
– Одинаково мне… Выкидывайте его…
Мира Яковлевна быстро написала на чистом листе бумаги все, что следовало написать, и Степанида Сидоровна слабой рукой, так что все буквы пошли враскос, подписала бумагу.
Ровно еще через несколько минут, распорядившись предварительно, чтоб Степаниду Сидоровну везли в операционную, но не в ту, где работал сейчас Пирей, а в более просторную, где стоял аппарат «сердце-легкое», Тарас Тарасович вошел к себе в кабинет, проворная санитарка, голубоглазая Настенька, неделю назад поступившая к ним на работу, внесла ему два стакана крепко заваренного чаю. В это время в кабинет разом вошли запыхавшиеся и еще заспанные хирурги – пожилой Слепня, с блеском делавший операции на легких, и хирург Груздь, тоже пожилой, отличный реаниматор, спасший немало людей, у которых наступила клиническая смерть.








